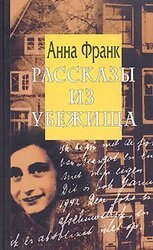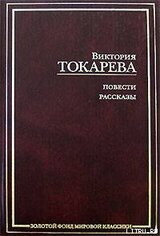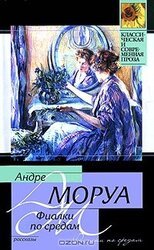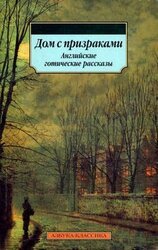Рассказы из Убежища (fb2) — Рассказы из Убежища (пер. Дмитрий Владимирович Сильвестров) 570K скачать: (fb2) — (epub) — (mobi) — Анна Франк
Анна Франк
От переводчика
Издано при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям в рамках Федеральной целевой программы «Культура России».
Издательство благодарит за содействие Фонд издания и перевода нидерландской литературы.
* * *
Читатели всего мира давно знакомы с «Дневником» Анны Франк, описывающим жизнь случайно образовавшегося сообщества из восьми человек, евреев, которые более двух лет безвылазно скрывались в своем амстердамском Убежище перед тем как их отправили в концлагерь.
Книга «Рассказы из Убежища» значительно расширяет и углубляет наши представления о самой Анне Франк, о которой, казалось бы, мы всё уже знаем. Но кроме того, она дает новое понимание отношения человека к истории.
Эта книга, так же как и «Дневник», абсолютно уникальна тем, что каждый из нас неминуемо читает ее с конца. Это качество превращает ее в поразительный детективный роман, где читатель, поневоле зная конец, вопреки собственному рассудку, в извечном протесте против неотвратимости смерти настойчиво убеждает себя в том, что здесь этот конец все-таки будет другим!
Читая эту книгу, мы проникаемся таким чувством бессмертия, что смерть «литературных» персонажей, в число которых входит и автор — сама Анна Франк, — физическая их смерть, как будто меркнет для нас, кажется неправдоподобной. Но вместе с этим мы не можем не понимать, что чувство бессмертия, с такою энергией излучаемое книгой и охватывающее читателя, парадоксально поддерживается именно тем, что мы изначально знаем, какой ужасный конец уготован был этим людям, совсем не похожим на литературных героев.
Анна Франк настолько живо и с такой непосредственностью запечатлевает доступную ей действительность, что всякая преграда между текстом и нашим восприятием этого текста полностью исключается. Наш собственный инстинкт жизни, чувство самосохранения не позволяют допустить — именно потому, что мы знаем, чем все это кончилось, — что эта живая действительность вообще может исчезнуть. Она описана с такими подробностями, вплоть до таких мелочей, что поневоле кажется сном. Это такой реализм, который по самой своей природе становится сюрреализмом. Не фантасмагорическим сюрреализмом Дали, а устрашающим сюрреализмом Платонова — с той, однако, разницей, что у Платонова это искусство, открывающее нам иные миры, а у Анны Франк — белая магия, побуждающая нас открывать в самих себе наше второе «я».
Вчитываясь в мельчайшие подробности жизни обитателей Убежища и отношений, возникающих между ними, мы бессознательно включаем все это в свой собственный опыт, автоматически отождествляем с собою и со своими реакциями. Таким образом, и «Дневник», и сюжеты этой книги неизбежно становятся убийственно жестокой, но и окрыляющей машиной времени.
«Рассказы из Убежища» — мимолетные зарисовки и милые детские сказки, написанные с живым чувством и искренностью. Литературное мастерство автора не может не вызывать нашего изумления.
Поражает, насколько серьезно Анна Франк, в сущности еще девочка, судит (язык не поворачивается сказать: судила) о вопросах морали и свободы воли. Ее богословские рассуждения возвращают нас непосредственно к Книге Иова.
Написанное Анной Франк читали и будут читать миллионы людей. В амстердамское Убежище, превращенное в музей, всегда стоит длинная очередь — в большинстве своем молодежь. Разве это не свидетельство чуда, совершенного девочкой-подростком, вложившей все наши жизни в двадцать пять месяцев своего заточения!
* * *
В нидерландском издании помещено введение Герролда ван дер Строома с кратким обзором всего написанного Анной Франк («Дневник», «Рассказы из Убежища», начало романа «Жизнь Кади»), Первая публикация «Дневника» (в сокращении) состоялась в Нидерландах в 1947 г. Понадобилось несколько десятков лет, чтобы опубликовать все ее наследие полностью.
Анна Франк родилась в Германии во Франкфурте-на-Майне 12 июня 1929 года. Свой первый «Дневник» она начала вести в Голландии в амстердамском Убежище в день своего тринадцатилетия, 12 июня 1942 г. Сохранилось несколько версий этого дневника; последняя запись сделана
1 августа 1944 г., за три дня до ареста.
Во введении Г. ван дер Строома мы читаем: «Анна Франк, ее семья и четверо других затворников в доме на Принсенхрахт, 263, в Амстердаме были арестованы 4 августа 1944 г. в результате предательства. К этому времени они уже более двух лет тайно скрывались в своем Убежище. Из-за внезапного вторжения СД[1] Анна, конечно, не имела возможности разобрать свои рукописи, спрятать их в надежное место или, в крайнем случае, уничтожить. Подобную судьбу она разделяет с другими авторами, имевшими несчастье уйти из жизни или в юности, или так же внезапно: с Вергилием, Шелли, Кафкой… Ей, однако, выпал более жестокий жребий: она умерла в конце февраля или начале марта 1945 г. в ужасных условиях в концентрационном лагере Берген-Бельзен».
Помимо «Дневника», до нас дошла небольшая книжка «Замечательные высказывания», куда Анна переписывала понравившиеся ей цитаты — из трагедии Гёте «Эгмонт», из «Школы князей» Мультатули, из произведений средневекового нидерландского поэта Якоба ван Марланта, «Саги о Форсайтах» Джона Голсуорси и др. Кроме того, сохранилась воспроизводимая здесь тетрадь, названная Анной «Коротенькие рассказы и Происшествия из Убежища», а также отдельные разрозненные заметки и четыре коротких рассказа, написанных на отдельных листках. Как отмечает Г. ван дер Строом, «Анна начала писать рассказы в возрасте тринадцати с половиной лет — спустя полгода после того, как приступила к своему „Дневнику“, — и писала их почти до пятнадцати лет. Старше пятнадцати она уже не была никогда».
Анна работала и над романом «Жизнь Кади». Читаем у Г. ван дер Строома: «То, что роман остался неоконченным, можно ясно заключить как из дошедшего до нас текста, так и из обозначенной Анной линии повествования. Но почему она его не окончила: из-за препятствий, которые, вероятно, испытывала при писании, или же из-за ареста SD — установить уже невозможно».
«Вероятно, он никогда не будет окончен или попадет в корзину для мусора или в печку», — опасалась Анна в апреле 1944 г. Первый страх оправдался, второй — нет.
Когда именно Анна приступила к рукописи своего романа, нам не известно. Во всяком случае, 17 февраля 1944 г. она дала прочитать семнадцатилетнему Петеру ван Пелсу, одному из обитателей Убежища, «кусок про Кади и Ханса о Боге»; отрывок охватывает почти половину ее — незаконченного — романа, который тогда насчитывал 23 страницы. «Я… хотела дать ему убедиться, что описывала вовсе не только всякие забавные вещи». Два месяца спустя она жалуется своей Китти[2]: «Многое из „Жизни Кади“ неплохо, но в целом все это ерунда!» И признается: «Над Кади я уже давно не работала, в мыслях я точно знаю, как оно будет дальше, но все что-то не ладится». Еще месяц спустя она описывает суть продолжения, и заканчивает интригующей фразой: «Это вовсе не сентиментальная чепуха, потому что здесь переработан роман о жизни отца».
В нидерландском введении указывается, что «Рассказы из Убежища» и «Жизнь Кади» печатаются точно по рукописи: «Наше издание охватывает чистовики и не пытается „заглядывать через плечо“ автора в его мастерскую».
И рассказы, и сказки, и незавершенный роман — волей-неволей автобиографичны. За описываемыми событиями и персонажами стоит сама Анна, ее видение жизни, ее чувства, ее страстное, неосуществимое желание вырваться на волю, оказаться среди природы. Нас покоряет ее жизнерадостность и ощущение полноты бытия. Ее наблюдательность сочетается с юмором, ее суждения и оценки не по годам зрелы и проницательны.
Несколько слов о стилистических особенностях текста. Родной язык Анны Франк — немецкий. После прихода к власти нацистов семья переселилась в Голландию. В пять лет Анна пошла в детский сад, а затем в школу, год проучилась в открытом во время немецкой оккупации Еврейском лицее. Она пишет по-нидерландски на хорошем литературном языке, прекрасно передает разговорную речь, часто употребляет пословицы и поговорки. Однако у нее нередко встречаются германизмы, как в лексике, так и в синтаксисе (намеренно — в прямой речи некоторых персонажей), а также и некоторые неточности в применении устойчивых выражений. Порой она ошибается в орфографии, в употреблении предлогов и местоимений — эти ошибки были исправлены в нидерландском издании. Анна Франк редактировала свои тексты и переписывала их начисто, но не всегда эта работа доводилась до конца. В переводе мы старались максимально сохранить и передать дыхание и особенности живого, естественного языка автора, «наиболее прославленной писательницы уже ушедшего века».
* * *
Переводчик выражает искреннюю благодарность за помощь, оказанную ему в процессе работы, д-ру Сибрену Бринку, сотрудникам Дома-музея Анны Франк в Амстердаме, а также жене Валентине, внимательно читавшей текст перевода и делавшей ценные замечания.
Дмитрий Сильвестров
Рассказы из убежища
Вломились?
Среда, вечер, 24 марта 1943 г.
Мама, папа, Марго и я так уютно сидели все вместе, как вдруг вошел Пит и зашептал что-то отцу на ухо. Я услыхала только, что на складе упала бочка и что кто-то возится с дверью. Марго тоже так поняла, но постаралась меня успокоить, потому что я побелела как мел и страшно разволновалась.
Мы трое остались ждать, а папа с Питом пошли вниз. Не прошло и двух минут, как мефроу ван П. поднялась к нам; она сказала, что Пим[3] попросил ее выключить радио и осторожно подняться наверх. Но, как всегда бывает, когда хочешь идти как можно тише, ступеньки старой лестницы именно сейчас скрипели в два раза громче. А еще через пять минут пришли Пит и Пим, белые аж до кончика носа, и рассказали о своих злоключениях.
Они уселись под лестницей и стали ждать, однако без всякого результата, как вдруг послышались два громких удара, словно в доме захлопнулись две двери. Пим одним махом взлетел наверх, а Пит сначала предупредил Пф-ра, который после долгой возни и шума наконец также прибыл наверх. Потом мы в одних чулках поднялись на этаж выше к семейству Пелсенов. Менеер, сильно простуженный, уже лежал в постели, так что мы все столпились у его ложа и шепотом стали рассказывать о наших догадках.
Стоило ему закашляться, как мефроу П. и я прямо умирали со страху, и это длилось до тех пор, пока кому-то не пришла в голову блестящая идея дать ему кодеин, и кашель тотчас же прекратился.
Мы все ждали и ждали, но больше ничего не услышали и решили, что воры, услыхав в доме, вообще-то пустом, чьи-то шаги, просто удрали.
Беда в том, что приемник внизу все еще был настроен на Англию и к тому же около него мы удобно расставили стулья. А если дверь взломана и кто-нибудь из противовоздушной обороны это заметит и заявит в полицию, то начнется такая свистопляска, которая может иметь самые неприятные последствия. Наконец менеер ван П. встал, надел брюки и пиджак, водрузил на голову шляпу и осторожно спустился за папой вниз, а сзади шел Петер, вооружившийся громадным молотком для острастки. Дамы (в том числе Марго и я) остались наверху и напряженно ждали, пока через пять минут не появились мужчины и не сказали, что в доме опять все спокойно.
Мы решили не открывать краны и не спускать воду в уборной, но так как встряска почти всем нам подействовала на желудок, то можно себе представить, какая вонь стояла в уборной, когда мы все по очереди там отметились.
Ну и, конечно, стоит хоть чему-то случиться, как несчастья так прямо и сыплются. Вот и сейчас: во-первых, перестали играть колокола на Вестерторен, а они всегда давали такое чувство покоя. К тому же менеер Воскёйл вчера вечером ушел раньше обычного, и мы точно не знали, смогла ли Беп достать ключ и не забыла ли она запереть дверь.
Шел еще вечер, а мы так и оставались в неведении, хотя всё же слегка успокоились: ведь с четверти девятого, когда вор к нам забрался, и до половины одиннадцатого все было тихо.
А хорошенько подумав, мы решили, что просто невероятно, чтобы вор стал ломиться в дверь ранним вечером, когда на улице еще могут быть люди. К тому же кому-то пришла в голову мысль, что, вполне возможно, это возился с чем-то кладовщик по соседству — в помещении фирмы «Кег», — ведь когда волнуешься, да еще стены тонкие, любой звук нетрудно принять за что угодно, тем более и воображение вовсю разыгрывается при таких-то обстоятельствах!
Мы легли, но сон ни к кому так и не шел. Отец, мать и менеер Пф. все время оставались настороже, а я почти без преувеличения могу сказать, что глаз не могла сомкнуть.
Наутро мужчины спустились вниз проверить, заперта ли дверь, но все было в порядке!
Случившееся, далеко не из приятных, мы, разумеется, в самых ярких красках описали всей нашей конторе — легко смеяться над такими вещами, когда все уже позади, и только Беп приняла наш рассказ всерьез.
N. B. На следующее утро оказалось, что уборная совсем засорилась, и отцу пришлось все рецепты блюд из клубники (наша теперешняя туалетная бумага) + несколько кило какашек длинной деревянной палкой выковыривать из унитаза. Палку потом сожгли.
Зубной врач
Среда, 8 дек. 1942 г.
Сегодня нам устроили самое лучшее представление из всех, которые я когда-либо видела. Мать гладила, а мефроу ван П. предстояло подвергнуться зубоврачебной процедуре. Пф. начал с важностью распаковывать свой саквояж (это в первый раз он собирался здесь им воспользоваться); ему пришлось взять одеколон для дезинфекции и вазелин вместо воска. Мефроу П. уселась на стул, и Пф. начал разглядывать ее рот; всякий раз, когда он постукивал по ее зубу, бедная женщина вздрагивала и издавала какие-то невнятные звуки. После длительного обследования (во всяком случае, для нее, потому что на самом деле все длилось не более двух минут) Пф. начал вычищать дырку. Но куда там! — об этом и думать было нечего. Она стала отбиваться руками и ногами, в какой-то момент Пф. выпустил из рук крючок… и тот так и остался торчать у нее в зубе. Вот теперь уж началось нечто просто невообразимое. Мефроу П. кидалась из стороны в сторону, вопила (что есть сил, да еще и с инструментом во рту), пыталась вытащить крючок и только все глубже всаживала его в зуб. Менеер Пф. стоял невозмутимо, руки в боки, и смотрел на весь этот цирк. Остальная публика так и покатывалась от хохота. Конечно, нехорошо: уж я-то орала бы гораздо сильнее. После бесчисленных дерганий, выкручиваний, стонов и воплей крючок наконец-то удалось вытащить, и менеер Пф., словно ничего не случилось, продолжал работу с невозмутимым спокойствием. Он все сделал так быстро, что мефроу П. просто не успела начать все сначала. Правда, у него было столько помощников, как никогда в жизни; два ассистента — не шутка: менеер П. и я потрудились на славу! Все это выглядело, как средневековая сценка с какими-то шарлатанами.
Но вот терпение пациентки подошло к концу — ей срочно потребовалось присмотреть за «ее» супом и за «ее» едой. Одно можно сказать наверняка: к зубному врачу мефроу П. теперь и близко не подойдет!
Последнее, конечно, не сбудется.
День колбас
Пятница, 10 дек. 1942 г.
Менеер ван П. раздобыл кучу мяса. Сегодня он хотел сделать колбаски для жаренья и гелдерскую колбасу, а завтра — свиную. Забавно было смотреть, как куски мяса проворачивались через мясорубку, дважды и трижды, потом в фарш добавляли всего, что только можно, и снова проворачивали через мясорубку, а затем с помощью широкой воронки наталкивали в кишки. Жареные колбаски с кислой капустой, карт, и луком съели прямо за обедом; гелдерскую колбасу привязали под потолком к палке, подвешенной на двух веревочках. Всякий, кто, входя, видит эту выставку колбас, начинает хохотать, это и впрямь препотешное зрелище.
Здесь был ужас какой разгром: менеер ван П., в фартуке своей жены, во всем своем дородстве (он казался еще толще, чем был на самом деле), возился с мясом; кровавые руки, голова и фартук в крови — живодер, да и только. Мефроу П. делала несколько дел сразу: ей нужно было учить нидерландский язык, варить обед, присматривать за всем, вздыхать и жаловаться — у нее (так она говорит) Сломано верхнее ребро. Такое случается, когда делают все эти идиотские упражнения, занимаясь гимнастикой.
У Пф. воспалился глаз, и он у печки делал себе примочки с настоем ромашки. Пим сидел на стуле в узкой полоске солнца и ерзал из стороны в сторону: у него болела спина и он сидел как-то вкривь и с сердитым лицом — вылитый страдалец из богадельни. Пит играл с кошкой: то приманивал ее кусочком мяса, то отбегал от нее. Мать, Марго и я занимались чисткой картош. Но то и дело отвлекались, чтобы поглядывать на ван П-на.
Блохи
Среда, 7 июля 1943 г.
У нас новая напасть — блохи у Муши. Мы раньше не знали, что кошачьи блохи переходят и на людей, но, увы, это так.
Вчера я подловила наверху одну из них у себя на ноге, десять минут спустя, внизу, еще одну, а вечером на постели Пф-ра снова одна прыгнула мне на ногу. Она проскочила у меня между пальцами: они ужасно проворные. Сегодня утром я стояла перед шкафом и одевалась, так эта дрянь опять по мне пробежала. Чтобы блохи и прыгали, и бегали — такого я в жизни не видела. Я ее ухватила и вроде бы раздавила, но эта мефроу тотчас же ускакала. Мне осталось только вздохнуть, снова раздеться и обследовать свое тело и свою одежду, пока я все-таки не отыскала блоху у себя в трусах. Секунда, и она была обезглавлена.
А помнишь?
Воспоминания о школьных днях в Еврейском лицее.
А помнишь? Какие прекрасные минуты, когда я могу вспоминать и рассказывать о школе, учителях, всяких приключениях и о мальчиках. Когда мы еще жили нормальной жизнью, как все было чудесно!
Этот один год в Лицее был для меня просто великолепным. Учителя, всё, что я там учила, шутки, взгляды, влюбленности и обожатели.
А помнишь? Когда я как-то в полдень из города пришла домой и в почтовом ящике лежал пакетик «d’un ami R.»[4]. Он мог быть только от Роба Коэна, ни от кого другого. В пакетике лежала брошка, не меньше чем за 2,5 гульдена, супермодерная. Отец Роба торговал всякими такими вещами. Я проносила ее два дня, а потом она поломалась.
А помнишь? Как Лис и я стали предательницами. Нам дали классную работу по французскому. Я знала все довольно неплохо, а Лис — нет. Она все списала у меня, а я еще смотрела, чтобы все было правильно (у нее). Она получила между 5 и 6, а я между 4 и 5, потому что с моей помощью она сделала все чуть-чуть лучше. Из-за отметок 5/6 и 4/5 для нас обеих вышел большущий 0[5]. Возмутительно! Мы попытались всё объяснить г-ну Премсела, и в конце концов Лис сказала: «Да, а весь класс держал книжки под партой!» Премсела пообещал не наказывать весь класс, если те, кто списывал, поднимут вверх палец. Примерно десять пальцев, конечно меньше половины, поднялись вверх. Через три урока нам неожиданно снова дали контрольную. А Лис и меня стали бойкотировать как предателей. Скоро я уже больше не могла этого переносить и написала длинную петицию всему классу ILII[6], чтобы дело как-то уладить. Две недели спустя все было забыто.
Письмо это примерно следующее:
Ученикам класса ILII.
Этим письмом Анна Франк и Лис Хослар приносят свои искренние извинения ученикам класса ILII за свое малодушное предательство на контрольной по французскому.
Все произошло так быстро, что мы даже не успели хорошенько подумать, и мы полностью признаём, что только мы обе должны быть наказаны. Нам кажется, что с каждым такое может случиться, когда в раздражении выпалишь какое-нибудь слово или фразу, совершенно не думая о неприятных последствиях. Мы надеемся, что класс ILII именно так воспримет случившееся и отплатит злом за добро[7]. Тут уж ничего не поделаешь, и обе виновницы не в силах вернуть то, что сделано.
Мы не стали бы писать это письмо, если бы и вправду не жалели о том, что случилось. И мы просим тех, кто нас сейчас бойкотирует, покончить с этим, потому что наш поступок не настолько ужасен, чтобы навеки относиться к нам как к преступницам.
Если же кто-то все еще не может закрыть глаза на то, что мы сделали, пусть подойдет к нам и во всеуслышание выскажет свое мнение или же попросит нас о чем-нибудь таком, что в наших силах, и мы всё исполним.
Мы надеемся, что все ученики класса ILII забудут эту историю.
Анна Франк и Лис Хослар.
А помнишь? Как С. N. сказала в трамвае Робу Коэну, а Занне Ледерманн услыхала и потом мне рассказала, что лицо у Анны гораздо красивее, чем у Й. Р., особенно когда она улыбается. А Роб ответил: «А почему, С., у тебя такие большие ноздри?»
А помнишь? Как Морис Костер явился к Пиму, чтобы попросить разрешения встречаться с его дочерью?
А помнишь? Как Роб Коэн и Анна Франк бойко переписывались, когда Роба положили в больницу?
А помнишь? Как Сэм Соломон все время ехал за мною на велосипеде и хотел дать мне руку?
А помнишь? Как А. В. поцеловал меня в щеку, когда я пообещала ему, что никому ничего не расскажу о нем и Е. Г.
Хочется думать, что наше беззаботное школьное время еще вернется когда-нибудь.
Вожделенный столик
Вторник, 13 июля 1943 г.
Вчера после обеда, с разрешения папы, я спросила Пф-ра, не будет ли он так любезен и не согласится ли (я была ужас как вежлива), чтобы два раза в неделю, с 4 до 5.30, я могла пользоваться нашим с ним столиком. С 2.30 до 4 я и так сижу за ним каждый день, пока Пф. спит, но потом и столик, и комната — уже запретная зона. В нашей общей комнате после обеда слишком много народу, чтобы заниматься делом. К тому же и папа иной раз любит поработать за письменным столом.
Причина вполне резонная, и вопрос я задала исключительно из вежливости. И что, ты думаешь, наш высокообразованный Пф. мне ответил? — «Нет!» Прямо и без обиняков: «Нет!»
Я возмутилась и не дала ему так просто от меня отделаться. Я все-таки попросила его указать причину этого «нет». Тут уж мне и досталось! Вот что он на меня обрушил:
— Я тоже должен работать. Если я не смогу поработать днем, то у меня вообще больше не останется времени. Я должен выполнить pensum[8], иначе и браться не стоило; у тебя все несерьезно, всякая там мифология, разве это работа? Вязанье или чтение тоже не дело, так что столик как был, так и будет за мной!
И вот мой ответ:
— Менеер Пф., я тоже серьезно работаю, а работать в большой комнате после обеда я не могу, и я по-дружески прошу вас все-таки подумать над этим!
С этими словами оскорбленная Анна отвернулась и сделала вид, что смотрит на высокоученого доктора как на пустое место.
Я кипела от ярости и решила, что Пф. ужасно невежлив (такой он и есть), а я очень любезна.
Вечером, как только я смогла заполучить Пима, я ему рассказала, как все обернулось, и обсудила с ним, как действовать дальше, потому что уступать не собиралась и хотела сама все устроить. Папа рассказал, как примерно следует поступить, но убеждал подождать до завтра, потому что сейчас я слишком взволнована.
Я пренебрегла этим последним советом и вечером, после мытья посуды, подкараулила Пф-ра. Пим находился в соседней комнате, и я чувствовала себя увереннее. Я начала так:
— Менеер Пф., я вижу, что вы не сочли нужным еще раз обсудить со мной мою просьбу, и все-таки прошу вас это сделать.
С любезнейшей улыбкой Пф. заметил:
— Я всегда, в любое время готов обсудить этот, собственно говоря, уже решенный вопрос!
Хотя Пф. меня все время перебивал, я продолжила разговор:
— С самого начала, как только вы сюда прибыли, мы договорились, что комната должна принадлежать нам обоим, и если распределить все по праву, то вы должны пользоваться ею до обеда, а я — после! Но о таком я даже и не прошу, и мне кажется, что давать мне комнату после обеда всего лишь два раза в неделю вовсе не так уж много.
Тут Пф. вскочил, как ужаленный:
— О праве тут вообще нечего говорить! А я, по-твоему, где должен находиться? Придется попросить менеера ван П-са пристроить для меня уголок на чердаке, там я и буду сидеть. Мне не дают спокойно работать! С тобой вечно приходится ссориться. Вот если бы твоя сестра Марго обратилась ко мне с подобной просьбой, для которой у нее куда больше оснований, чем у тебя, я бы и не подумал ей отказать, но тебе…
И тут опять пошла речь о мифологии и вязании, и Анна вновь почувствовала себя оскорбленной. Однако я не дала Пф-ру это заметить и позволила ему высказаться.
— Да с тобой вообще не о чем говорить. Ты бессовестная эгоистка, дай тебе волю, ты бы вообще ни с кем не считалась — в жизни не видел такого ребенка! В конце концов, я вынужден тебе уступить, а то чего доброго скажут, что Анна Франк засыпалась на экзамене из-за того, что менеер Пф. не уступал ей свой столик!
И так далее и тому подобное… Наконец слова его превратились в сплошной поток, и я вообще уже ничего не воспринимала. В какой-то момент я подумала: дать бы ему по морде, чтобы он врезался в стенку со своим враньем. Но тут же сказала себе: «Спокойно, этот тип не стоит того, чтобы так из-за него горячиться!»
Наконец менеер Пф. отбушевал и с лицом, выражавшим и триумф, и негодование, вышел из комнаты, прихватив с собою пальто, карманы которого были набиты провизией.
Я бросилась к папе и, поскольку он не все расслышал, сделала ему полный отчет. Пим решил сегодня же вечером переговорить с Пф-ром. Так оно и случилось, их беседа длилась более получаса. Разговор был примерно следующий.
Сначала речь шла о том, должна ли Анна вообще усаживаться за упомянутый столик. Да или нет. Папа напомнил, что они с Пф-ром уже однажды обсуждали этот вопрос и тогда он уступил Пф-ру, чтобы младшего не ставить на одну доску со старшим, хотя и считал это несправедливым. Пф. заявил, что я не должна была говорить о нем как о захватчике, который на все наложил запрет, но тут папа решительно возразил, что сам все слышал и я об этом и словом не обмолвилась. Так оно и шло: взад-вперед, папа заступался за мой «эгоизм» и отстаивал мое «кропание», а Пф. все брюзжал и брюзжал.
Наконец Пф. все-таки вынужден был уступить, и я получила возможность заниматься днем два раза в неделю, так чтобы мне никто не мешал. Пф. ходил надутый, два дня со мной не разговаривал и с пяти до полшестого неизменно усаживался за столик… ну что за ребячество!
Кто в пятьдесят четыре года так педантичен и мелочен, у того, значит, такая натура, и ее, видно, не переделаешь.
Анна в теории
Понедельник, 2 авг. 1943 г.
Мефроу ван П., Пф. и я занимались мытьем посуды, и, чего почти никогда не бывает и, конечно, показалось им странным, Анна старалась хранить молчание.
Чтобы избежать всяких вопросов, я вскоре подыскала довольно нейтральную тему. Я подумала, что книга «Анри из дома напротив» вполне отвечает подобному требованию, но просчиталась. Досталось мне не от мефроу, а от менеера. Дело вот в чем: менеер Пф. особенно рекомендовал нам эту книгу как нечто выдающееся. Марго и я тем не менее нашли ее далеко не столь выдающейся; парнишка, пожалуй, получился неплохо, но об остальном… лучше уж помолчать.
Что-то в этом роде я и выложила им во время мытья посуды, и надо же, что тут на меня вдруг обрушилось:
— Разве ты можешь понять психологию мужчины? Ребенка — еще куда ни шло (!). Ты еще слишком мала для такой книги, ее и двадцатилетний не сможет сразу понять. (Почему же он тогда особенно рекомендовал эту книгу Марго и мне?)
Теперь уже Пф. с мефроу напустились на меня оба:
— Ты слишком много знаешь о том, что вовсе не для тебя, ты воспитана совершенно неправильно. Позже, когда повзрослеешь, тебе ничто не будет доставлять удовольствия, и ты станешь говорить: обо всем этом я уже читала двадцать лет назад. Тебе стоит поторопиться, если хочешь заполучить мужа или влюбиться, а то ты уже во всем разочаровалась. (И в завершение всего.) В теории ты уже все превзошла, вот только практики тебе не хватает!
Кто бы мог сдержаться на моем месте? Сама себе удивляюсь, как только у меня хватило терпения им ответить:
— Может, вы и думаете, что я неверно воспитана, но далеко не все согласятся с вами!
Вот уж, конечно, прекрасное воспитание — вечно настраивать меня против родителей, а они всегда это делают, и ничего не рассказывать о таких вещах девочке моего возраста. Ну просто великолепно! Результаты такого воспитания видны невооруженным глазом!
В тот момент я бы их обоих, стоявших и насмехавшихся надо мною, просто убила бы. Я была вне себя от ярости и готова была считать дни, когда, наконец, от них избавлюсь.
Характер мефроу ван П.
Мефроу ван П. — тот еще экземпляр! Она вполне может служить примером, да-да, примером… но лишь наихудшим! Всем известно, что мефроу ван П. ужасно невежливая, необразованная, и она вечно всем недовольна. К тому же она тщеславна и то и дело кокетничает. Ничего не скажешь, характер — из ряда вон выходящий. О ней целый том можно написать, и я не исключаю, что когда-нибудь возьмусь за это. У нее, судя по всему, нет ни одного хорошего качества, которое присуще ей внутренне. А внешний лоск каждый может на себя навести. Она любезна с мужчинами, а они заблуждались на ее счет, пока не узнали ее во всей красе.
Такая проныра, такая расчетливая, такая эгоистичная — хороший человек ее не сразу раскусит. Ну просто невероятно — внешне выглядеть вполне достойно, а внутри быть голой и лысой.
Мама думает, что она слишком глупа и что разговаривать с ней — только попусту терять время, Марго считает ее просто ничтожеством, Пим — уродиной (в буквальном и в переносном смысле), а я, проделав немалый путь (потому что никогда не бываю подозрительной с самой первой минуты), пришла к выводу, что она соединяет в себе не только все эти три качества, но и множество прочих. У нее столько дурных черт, что и не знаешь, с какой начать.
Пусть читатель примет к сведению, что, когда все это писалось, сама писавшая еще не остыла от гнева!
Ссора из-за картофеля
Среда, 4 авг. 1943 г.
После примерно трехмесячного спокойствия, которое прерывалось лишь отдельными незначительными перепалками, сегодня снова разразилась бурная ссора.
Все произошло во время утренней чистки картошки, и никто такого не ожидал. Попробую пересказать. При этом все говорили наперебой, так что уследить за разговором было просто немыслимо.
Мефроу ван П. начала (ну разумеется!) с того, что те, кто не чистит картошку утром, должны чистить ее вечером. Никто не ответил. Такое, конечно, пришлось не по вкусу менееру ван Пелсену, ибо, чуть погодя, он заявил, что, собственно, каждый мог бы чистить картошку для самого себя, кроме Петера, потому что чистить картошку — не дело для юноши! (Какова логика!)
Менеер ван П. продолжал:
— Не понимаю, почему мужчины здесь всегда должны помогать. Из-за этого работа распределяется неравномерно. Почему один должен работать на всех больше другого?
Тут уж вступила мама, так как она поняла, в какую сторону движется разговор:
— Ага, менеер, все понятно: ну конечно, дети работают недостаточно. Но вы же прекрасно знаете, что, когда Марго не помогает, всю работу делает Анна, а с другой стороны, Петер ведь тоже не помогает, потому что вы считаете, что такая работа не для него. Ну, тогда я считаю, что и для девочек она не годится!
Менеер прямо-таки лаял, мефроу подтявкивала, Пф. старался их угомонить, мама кричала. Адская сцена! И при этом присутствовала моя худенькая особа и смотрела, как эти пресловутые «мудрые взрослые» готовы были вцепиться друг другу в волосы.
Слова так и метались от одного к другому; мефроу обвиняла Пф-ра в том, что он подыгрывает «и нашим, и вашим» (да и я так думаю); менеер ван П. заявил матери, указывая на всю нашу компанию, что он очень много работает и что, собственно говоря, мы должны были бы ему посочувствовать.
— Девочкам следовало бы больше помогать нам, а не сидеть вечно уткнувши нос в книгу: девочкам вовсе не нужно так много учиться (современно, не правда ли!)! — воскликнул он наконец.
Мама опять-таки невозмутимо заметила, что никакого сочувствия к нему не испытывает.
Тогда он снова начал:
— Почему девочки никогда не приносят картошку наверх и почему они никогда не приносят горячую воду? Не такие уж они слабые!
— Да вы с ума сошли! — вдруг крикнула мама, и тут я и впрямь испугалась: никогда не думала, что она на такое способна.
Остальное относительно не важно, все сводилось к одному и тому же. Марго и меня следовало бы удостоить звания служанок в нашем Убежище. В связи с этим здесь вполне можно употребить и куда менее почтительное выражение: «Да пошел ты к черту!» — потому что этому не бывать.
Ван П., однако, имел еще наглость сказать, что для Марго, которая уже целый год моет посуду и утром, и вечером, это вообще не работа.
Папа, слыша весь разговор, решил поспешить наверх, чтобы напрямик высказать всю правду менееру ван П-ну. А мама сочла за лучшее заявить ему, что если каждый только самому себе будет фасоль лущить, то и денежки пусть ищет только в своем кармане.
И теперь вот мой вывод. Как раз на такие вещи и способен ван П.: то и дело старую клячу за хвост тащить. Не относись папа чересчур благосклонно к подобным личностям, самое лучшее было бы как-нибудь ткнуть их носом в то, что мы и другие люди в подлинном смысле слова спасли их от смерти. В трудовом лагере нужно будет уж никак не картошку чистить… или блох у кота искать.
Вечер и ночь в Убежище
Среда, 4 авг. 1943 г.
К девяти вечера начинается в Убежище суматоха. Пора отправляться спать, и время это всегда самое суматошное. Двигают стулья, разбирают постели, складывают покрывала, и ничто не остается там, где оно должно быть в течение дня. Я сплю на диванчике, в котором и полутора метров не будет. Поэтому нужно приставлять стулья, а перинку, простыни, подушки, одеяла извлекают из постели Пф-ра, где они находятся днем.
Из-за стенки слышится жуткий скрип: это раскладушка Марго, и опять диванные покрывала, подушки — чтобы деревянные доски стали хоть немного удобнее. Наверху, можно подумать, грянул гром, но это всего-навсего кровать мефроу ван П. Кровать эту придвигают к окну, чтобы Ее Высочество в теплой розовой кофточке могла ублажать ночным воздухом свои тонкие ноздри.
9 часов:
После Петера я занимаю ванную, где начинается обстоятельное омовение, и нередко случается (но только в те месяцы, недели и дни, когда жарко), что с водой стекает маленькая блошка. Потом чищу зубы, накручиваю волосы, привожу ногти в порядок, пускаю в ход ватку с перекисью водорода — и всего за какие-нибудь полчаса.
Полдесятого:
Быстро надеваю халат. Мыло в одной руке, ночной горшок, заколки, штанишки, бигуди и вата в другой, выбегаю из ванной, — но часто меня зовут обратно из-за волосков, которые своими красивыми, но для того, кто будет умываться после меня, не слишком приятными дужками портят вид раковины.
10 часов:
Опускаем затемнение. Спокойной ночи! В доме еще с четверть часа скрипят кровати, кряхтят сломанные пружины, потом все стихает — во всяком случае, если верхние жильцы не затеяли постельную ссору.
Полдвенадцатого:
Скрипит дверь ванной комнаты. Узкий луч света падает в комнату. Скрип башмаков, большое пальто, куда больше, чем тот, кто в нем находится, и… Пф. является после своих ночных бдений в конторе Кюглера. Десять минут шарканья по полу, шуршанья бумагой — это он прячет свои съестные припасы, стелет постель. Потом фигура его опять исчезает, и только из уборной время от времени слышатся какие-то подозрительные звуки.
Часа в три:
Мне нужно встать, чтобы сделать по-маленькому, в жестянку, которая стоит под кроватью на резиновом коврике, от случайной протечки.
Когда мне приходится это делать, я всегда задерживаю дыхание, потому что в жестянке журчит, словно ручеёк сбегает с горы. После снова ставлю жестянку на место, и фигура в белой ночной рубашке, которая каждый вечер вызывает вопли Марго: «О, эта бесстыжая ночная рубашка!» — снова в постели. А потом с четверть часа лежишь и прислушиваешься к ночным звукам: прежде всего, в полчетвертого, в четыре или около того — не могло ли случиться, что внизу копошится вор; потом вслушиваешься в звуки разных кроватей, сверху, по соседству и в самой комнате, из которых часто можно понять, спят ли уже все наши обитатели или же беспокойно ворочаются с боку на бок. Последнее не слишком приятно, особенно, если касается обитателя по имени д-р Пф.
Сначала слышишь звуки, словно рыба хватает ртом воздух, и это повторяется раз десять, затем он облизывает губы со всяческими причмокиваниями, толчется в постели, переворачивается с боку на бок и взбивает подушки. Пять минут проходят спокойно, а потом весь процесс повторяется раза три, после чего д-ру на какое-то время удается себя убаюкать.
Бывает, что ночью, по-разному — между часом и четырьмя, слышатся выстрелы. Еще толком не понимая, в чем дело, я обычно вскакиваю с кровати. Но иногда я настолько погружена в сон, что мне на ум приходят французские неправильные глаголы или какая-нибудь ссора там наверху; а когда все кончается, я вдруг соображаю, что стреляли зенитки, а я так и осталась в постели. Но чаще всего я просыпаюсь. Тогда я быстро хватаю подушку, носовой платок, набрасываю халат и в тапочках бегу в папино гнездышко, в точности как описала Марго в стихотворении к моему дню рождения: чуть только выстрел в ночи прогремит, сразу же в комнате дверь заскрипит, и видишь… платок, подушку и нашу девчушку!
Оказавшись в большой постели, кажется, что уже не так страшно, если только пальба не такая уж сильная.
Без четверти 7:
Трррр… будильник, который в любое время дня (когда его об этом попросят, а то и вовсе без этого) может подать свой голос. Крак… дзинь… мефроу ван П. его выключила. Вам… поднялся менеер. Ставит воду и сразу же в ванную.
Четверть восьмого:
Снова скрипнула дверь. Пф. может занять ванную. Наконец-то одна, долой затемнение… и новый день в Убежище наступил.
Перерыв на обед
Четверг, 5 авг. 1843 г.
Половина первого. Весь крысятник вздыхает с облегчением. Вот уже ван Маарен, субъект с темным прошлым, и де Кок ушли домой. Наверху слышно, как мефроу ван П. выколачивает с помощью пылесоса свой чудный и единственный коврик. Марго берет под мышку пару учебников и идет давать урок «отстающим», под коими подразумевается Пф-ер.
Пим устраивается в уголке со своим неразлучным Диккенсом, чтобы хоть где-нибудь посидеть спокойно. Мама спешит подняться этажом выше, чтобы помочь усердной хозяйке, а я иду в ванную, чтобы навести там порядок, а заодно и собой заняться.
Без четверти час:
Чаша наполняется доверху. Сначала — менеер Гис, потом Клейман или Кюглер, потом Беп, а иногда также и Мип.
Час дня:
Все напряженно слушают Би-би-си. Собравшись вместе, они сидят около крохотного приемника. Единственные минуты, когда обитатели Убежища не заговаривают друг с другом, потому что сейчас слово предоставлено тем, кому даже менеер ван П. не смеет перечить.
Четверть второго:
Большая раздача. Каждый из поднявшихся снизу получает по чашке супа, а если предполагается еще и десерт, то и его в придачу. Менеер Гис с удовольствием усаживается на диван или прислоняется к письменному столу. Газета, суп, а нередко и кот — всё под рукой. Если чего-то не хватает, он не упустит случая протестовать.
Клейман рассказывает последние городские новости; здесь он в самом деле наилучший источник. Кюглер сломя голову взлетает по лестнице, короткий и сильный стук в дверь, и он входит, потирая руки; в зависимости от настроения он или весел и оживлен, или расстроен и молчалив.
Без четверти два:
Едоки поднимаются, и каждый возвращается к своему делу. Марго с мамой — к мытью посуды, менеер и мефроу ван П. — на диван, Пит — на чердак, папа — на свой диван, Пф. тоже, Анна — за работу. Самое спокойное время: все спят и никто не мешает. Пф-ру снится вкусная еда: это написано у него на лице, но долго смотреть на него не приходится, потому что время летит и в 4 часа педантичный доктор будет стоять передо мной с часами в руке, давая понять, что я сижу за столом уже на минуту больше.
Восьмерка из Убежища за столом
Четверг, 5 авг. 1943 г.
Как она выглядит за обеденным столом? Как занимают себя такие разные сотрапезники?
Один шумлив, другой молчалив; один ест много, другой мало. Смотря по обстоятельствам.
Менеер ван П.:
Он открывает ряд. Его обслуживают в первую очередь, и он накладывает себе от души, если еда по вкусу. Участвует в любом разговоре, решительно высказывает свое мнение. И коли он выскажется, тут уж ничего не попишешь. А если кто попробует возразить, о, тут ему палец в рот не клади. Он, как кот, так может фыркнуть… нет уж, лучше не надо… один раз попробуешь, второй раз не захочется.
Он всегда прав и обо всем знает больше других. Ну ладно, у него светлая голова, но самодовольство — у него оно не знает границ.
Мадам:
Собственно, о ней следовало бы промолчать. Иногда, особенно когда она сильно не в духе, на нее лучше и вовсе не смотреть. По сути дела, она виновница всех наших споров, а отнюдь не предмет их! О нет, этого каждый старается избежать, однако ее вполне можно назвать зачинщицей. Подстрекать — это ее конек. Против мефроу Франк, против Анны; вот только к Марго и менееру Франку не придерешься.
Ну а теперь, что за столом. Мефроу ван П. не остается внакладе, хотя иной раз она так считает. Выискивать самые маленькие картофелины, самый вкусный кусочек, все самое лучшее — вот ее правило. Другим, мол, тоже достанется, если я первая возьму себе что получше. (Имеет она в виду именно Анну Франк.)
Ну а на втором месте — это уж поболтать; лишь бы кто-нибудь слушал, а интересно ему или нет, похоже, не имеет значения. Она убеждена: ее персона интересна для каждого. Иной раз мне кажется, что она точно такая, какой я была раньше, но мне же, к счастью, не сорок три года!
Кокетливо улыбаться, вести себя так, словно знаешь обо всем на свете, давать всем советы и каждого опекать чуть ли не по-матерински — все это просто обязано производить хорошее впечатление. Но присмотрись получше, и от подобного впечатления даже следа не останется.
Усердная — раз, веселая — два, кокетливая — три, и подчас довольно смазливая. Вот вам и Гюсти ван Пеле.
Третий сосед по столу:
Он не особенно выделяется. Молодой ван П. большей частью молчит и не привлекает к себе большого внимания. Что касается аппетита — настоящая бочка Данаид: никогда не наполнишь. После самого сытного обеда невозмутимо уверяет, что съел бы и вдвое больше.
№ 4 — Марго:
Ест как мышка и в разговоры не ввязывается. Единственно, что она признает, это фрукты и овощи. Избалованна, считает ван П.; наше мнение — недостаток спорта и воздуха.
Рядом с ней — мама:
Изрядный аппетит, но вообще она как-то не смотрится. В своем уголке она всегда кажется мне немного потерянной. В разговорах о литературе от нее можно многому научиться! Столько читать — это просто невероятно. Никто бы не подумал, что она такая же домашняя хозяйка, как и мефроу ван П. А в чем различие? Мефроу готовит, а мама моет посуду и убирает. Такое не очень-то замечают, но все настолько чисто, насколько это вообще можно сделать в жилье за решеткой.
№№ 6 и 7:
О папе и о себе много говорить не буду. Первый — самый скромный из всех, кто сидит за столом; он всегда сначала посмотрит, достаточно ли у других. Ему ничего не нужно: пусть лучшее достанется детям.
Вот он Образчик, а рядом — холст, на котором, надеюсь, неплохо, воспроизводится этот образчик.
Пфеффер:
Берет, ни на кого не глядя; ест, ни с кем не общаясь. А если и приходится говорить, то, ради всего святого — только о вкусной еде. Тогда никаких споров, разве что хвастовство. Поглощает огромные порции, никогда не говорит «нет», когда вкусно, да и когда невкусно, тоже редко отказывается.
Брюки по грудь, красный пиджак, черные лакированные тапки и роговые очки. Таким можно видеть его и за нашим столиком, вечно работает и вечно на том же месте. Перерывы лишь на послеобеденный сон, еду и… самое любимое местечко… уборную. Три, четыре, пять раз на дню жмется кто-нибудь перед дверью, переминается с ноги на ногу, ну невтерпеж! Он с этим считается?
Да ничуть! С четверти до половины восьмого, с половины первого до часа, с двух до четверти третьего, с четырех до четверти пятого, с шести до четверти седьмого и с половины двенадцатого до двенадцати. Можно так и пометить: это его постоянное «сидячее место».
Он никогда не идет ни на какие уступки, и его не проймет ничей жалобный голос за дверью, предупреждающий, что вот-вот случится беда.
№ 9:
Не обитательница Убежища, но желанная гостья и в доме, и за столом. У Беп здоровый аппетит. Ничего не оставляет на тарелке, не привередлива. Все доставляет ей удовольствие, и это доставляет удовольствие всем. Веселая и жизнерадостная, добрая и уступчивая — вот ее качества.
Wenn die Uhr halb neune slägt[9]
Пятница, 6 авг. 1943 г.
Марго и мама нервничают: «Тс… папа, тише, Отто, тс… Пим! Уже полдевятого. Иди сюда и не открывай кран. Ступай потише!» Все эти замечания относятся к папе, который до сих пор еще в ванной. Когда бьет полдевятого, ему уже нужно быть в комнате. Ни капли воды из крана, нельзя пользоваться уборной, нельзя ходить, все должно смолкнуть. Когда в конторе никого нет, на складе все слышно гораздо лучше.
За десять минут до этого наверху приоткрывается дверь, и затем слышны три постукиванья по полу… каша для Анны. Я поднимаюсь по лестнице и получаю свою собачью лоханку.
Снова вниз, быстрее, быстрее: причесаться, выплеснуть ночную посудину, убрать постель. Тихо! Часы бьют! Мефроу ван П. переобувается и шаркает шлепанцами по комнате, менеер… Чарли Чаплин тоже в шлепанцах, все стихло.
Идеальная семейная картина, высшее проявление. Я — за чтением или занимаюсь, Марго — тоже, и папа, и мама. Папа (ну конечно, с Диккенсом и со словарем) сидит на краю продавленной скрипучей кровати, на которой даже нет приличного матраца, просто два тюфячка, один поверх другого: «Мне ничего не нужно, обойдусь и без этого!»
Погруженный в чтение, он не смотрит по сторонам, иногда смеется и пытается побудить маму обратить внимание на какое-нибудь отдельное место.
— У меня нет времени!
Он бросает на нее разочарованный взгляд и снова берется за чтение, пока ему опять не встретится что-то забавное и он не пробует снова:
— Ну прочти вот хотя бы это!
Мама сидит на откидной кровати, читает, шьет, вяжет или что-нибудь учит, смотря что на очереди. Вдруг ей что-то приходит в голову, и тут же, чтобы не забыть:
— Анна, имей в виду, что… Марго, запиши-ка…
После небольшой паузы снова наступает тишина.
Марго захлопывает книгу, папа забавно вздергивает брови дугой, потом складка, которая у него всегда возникает при чтении, возвращается, и он опять углубляется в свой том, мама начинает болтать с Марго, мне любопытно, и я прислушиваюсь. Пим тоже втягивается в разговор…
Девять часов! Завтрак!
Паршивцы
Пятница, 6 авг. 1943 г.
Кто же эти паршивцы?
Жуткие паршивцы!
Ван Пелсы!
Что же опять случилось?
Сейчас все тебе расскажу.
Дело в том, что из-за безразличия ван П-ов мы напустили в дом полно блох. Каждый месяц мы предупреждали их и говорили: «Отдайте кошку, чтобы ей сделали дезинфекцию!» И всегда слышали в ответ: «У нашей кошки нет блох!»
Но когда блохи со всей очевидностью обнаружились и мы так чесались, что не могли спать, Петер, единственный, кто испытывал к коту сострадание, все же решил посмотреть — и действительно, блохи прыгали ему прямо в лицо. Он взялся за дело, вычесал кота частым гребнем мефроу ван П. и почистил его нашей единственной щеткой. И что же мы увидели?
Да целую сотню блох!
Попросили совета у Клеймана и на следующий день все у себя посыпали отвратительным зеленым порошком. Не подействовало.
Достали пульверизатор с каким-то составом против блох. Папа, Пф., Марго и я долго возились: шприцевали, мыли, чистили, терли. Везде их было полно: одежда, одеяла, полы, диваны, все углы, все закоулки — ничего не упустили, всё обработали.
Кроме комнаты Петера наверху — ван П. решил, что в их комнате ничего делать не нужно. Мы настаивали: уж во всяком случае, надо обработать одежду, покрывала и стулья. Это обязательно следует сделать. Снести все на чердак и как следует обработать. Так нет же! Франков можно ведь одурачить. Так ничего и не сделали. Никакого запаха.
Отговорка простая: все пропахнет этим средством от блох!
Результат:
Из-за них блохи появились снова. У нас вонь, зуд, всяческие неудобства.
Но мефр. ван П. не может ночью выносить этот запах. А он, хотя и делает вид, что идет обрабатывать вещи от блох, приносит, однако, стулья, покрывала и пр. необработанными. Это Франки пусть задыхаются из-за своих блох!
Повседневная обязанность: чистка картошки!
Пятница, 6 авг. 1943 г.
Один приносит газеты другой — ножи (из которых лучший, естественно, оставляет себе), третий — картошку, четвертый — воду.
Менеер Пф. приступает: скоблит, не всегда аккуратно, но скоблит, и поглядывает налево, направо — все ли делают так же точно, как он?
— Ньет, Энне, глянь, я дьершу нош вот как в мой руке, сверх наниз! Ньет, не так, должно так!
— А мне так удобнее, менеер Пф.! — отвечаю я скромно.
— Но так ведь лучший манир, ты можешь ведь взять его у меня. Натюрлих, мне это есть все равно, ты сама должна узнать.
Мы продолжаем чистить. Я украдкой поглядываю на своего соседа. Он, занятый теми же мыслями, снова покачивает головой (конечно, в мой адрес), но молчит.
Чищу. Смотрю теперь в другой конец комнаты, где сидит папа. Для него чистить картошку — не пустая забава, а серьезное занятие. Когда он читает, на затылке у него появляется особая складка, а когда он помогает лущить горох, чистить картошку или другие овощи, то кажется, что он делается недоступным для всего остального. Тогда у него становится этакое «картофельное» лицо, и он никогда не пропустит недостаточно тщательно очищенную картофелину — с таким лицом это просто немыслимо.
Не прекращая работы, я поднимаю глаза, и мне уже все понятно: мефр. ван П. пытается выяснить, не сможет ли она обратить на себя внимание Пф-ра. Сначала она просто поглядывает на него, но Пф. делает вид, что ничего не замечает. Потом она подмигивает — Пф. продолжает чистить картошку. Потом она смеется — Пф. на нее и не смотрит. Теперь уже и мама смеется — Пф. не обращает никакого внимания. Мефр. ван П. так ничего и не достигла, и ей приходится переключиться на что-то другое. Молчание, и потом:
— Путти, надень передник, а то завтра мне опять придется удалять пятна с костюма.
— Я не запачкаюсь.
Снова молчание.
— Путти, почему ты не сядешь?
— Мне так удобней, я лучше постою!
Пауза.
— Путти, но ты же забрызгался!
— Да, мамочка, постараюсь поосторожнее!
Мефроу ван П. ищет новую тему.
— Как ты думаешь, Путти, почему англичане сейчас не бомбят?
— Потому что плохая погода, Керли!
— Но вчера же погода была хорошая, а они все равно не летали.
— Давай не будем говорить об этом.
— Но почему? Разве нельзя высказывать свое мнение!
— Нет!
— Почему нет?
— Мамочка, да помолчи же!
— Вот менеер Франк всегда отвечает своей жене!
Менеер ван П. явно борется с собой: она затронула его больное место, ему нечего возразить, и мефроу начинает опять:
— Эта высадка вообще никогда не начнется!
Менеер ван П. бледнеет. Мефроу замечает это, лицо у нее краснеет, но она уже не может остановиться:
— Англичане ничего не добьются!
Гром грянул!
— Да замолчи же, черт побери!
Мама еле сдерживается от смеха, я пристально смотрю в одну точку.
И такое повторяется почти каждый день, если только они уже раньше как следует не поссорились. Тогда ни тот, ни другая не раскрывают рта.
Мне нужно принести еще картошки. Иду на чердак, там Пит занят тем, что вычесывает блох у кота. Пит бросает взгляд на меня, кот замечает это, хоп!.. и прыгает сквозь открытое окно на водосток.
Пит чертыхается, а я смеюсь и исчезаю.
Свобода в Убежище
Пятница, 6 авг. 1943 г.
Полшестого:
Беп приходит, чтобы подарить нам вечер свободы. И тогда у нас сразу все приходит в движение. Сначала я ненадолго иду с Беп наверх, и мы обычно раньше всех угощаем ее нашим вечерним десертом.
Не успеет Беп сесть, как мефроу ван П. начинает перечислять свои просьбы, и то и дело слышишь: «Ах, Беп, мне хотелось бы…» Беп подмигивает мне: мефроу никогда не упустит никого, кто поднимается к нам, чтобы не поведать своих желаний. И это, конечно, одна из причин, почему навещают нас в общем-то без особой охоты.
Без четверти шесть:
Беп уходит. Я спускаюсь двумя этажами ниже. Сначала на кухню, потом в кабинет директора и, наконец, к угольной клети — открыть дверцу, чтобы дать Муши поохотиться на мышей.
После долгой инспекции я бросаю якорь в апартаментах Кюглера.
Ван П. заглядывает во все папки и ящики в поисках сегодняшней почты; Пит берет ключ от склада и уносит Моффи; Пим оттаскивает наверх пишущие машинки; Марго ищет спокойное местечко, чтобы заняться конторской работой; мефроу ван П. ставит на газовую плиту чайник с водой; мама спускается по лестнице с кастрюлей картошки; каждый знает, что ему делать.
Но вот Петер возвращается со склада. Его первый вопрос — а где же хлеб? Оказывается, о нем позабыли. Петер, стараясь занимать как можно меньше места, на четвереньках ползет в переднюю часть конторы к стальному шкафу, хватает хлеб и возвращается, вернее, хочет вернуться, но прежде, чем он осознает, что случилось, Муши прыгает через него и залезает под письменный стол.
Пит озирается. Ага, он увидел кота! Пит снова ползет в контору и хватает кота за хвост. Муши фыркает, Пит охает. И что же? Муши сидит на подоконнике и вылизывает себя, довольный, что ускользнул. Тогда Пит прибегает к последнему средству и приманивает кота кусочком хлеба. Тот подходит, и дверь сразу же закрывают.
А я себе стою и смотрю на них через щелку.
Менеер ван П. в ярости хлопает дверью. Мы с Марго переглядываемся с одной и той же мыслью: он опять-таки завелся из-за очередной глупости Кюглера, а о фирме «Кег», что рядом, вовсе не думает.
Снова слышатся шаги в коридоре. Появляется Пф., с видом хозяина подходит к окну, принюхивается… перхает, чихает, кашляет — перец, опять ему не везет. Он направляется в главную часть конторы. Но шторы затемнения подняты, значит, никакой почтовой бумаги на сей раз ему не будет. И он удаляется с сердитым лицом.
Мы с Марго опять переглядываемся. «Завтра любовное послание его супруге будет страничкой меньше», — шепчет она. Я согласно киваю.
Мы продолжаем свою работу. Доносится слоновый топот по лестнице; это Пф. ищет утешения в самом надежном месте.
Мы вновь за работой. Тук-тук-тук! Постучали три раза, время ужинать!
Каатье
Суббота, 7 авг. 1943 г.
Каатье — девочка по соседству, и когда я смотрю в окно, то в хорошую погоду вижу, как она играет в саду.
Каатье носит бархатное бордовое платье по воскресеньям и хлопчатобумажное всю остальную неделю, у нее льняные волосы с двумя мышиными хвостиками и светло-голубые глаза.
У Каатье симпатичная мама, а папы нет; мать ее уборщица, ее целыми днями не бывает дома, она наводит лоск в чужих квартирах, а вечером стирает белье для «своих» хозяек. В одиннадцать часов она все еще выбивает ковры и рядами развешивает на веревках белье.
У Каатье шесть братьев и сестер. И среди них одна маленькая плакса, которая цепляется за подол одиннадцатилетней сестры, когда мать кричит: «Пора спать!»
У Каатье есть котенок, похожий на мавра — такой он черный; она нежно заботится о своей киске: каждый вечер, перед сном, можно слышать ее «кис-кис-кис… к-а-тье[10], к-а-тье!». Отсюда и имя Каатье; может, эта девочка вовсе и не Каатье, но это имя так к ней подходит!
У Каатье два кролика: один белый, другой коричневый. Хоп, хоп — прыгают они кругами по травке, под лестницей, к порогу ее квартиры.
Иногда Каатье ведет себя дерзко, как все дети, но обычно только когда ссорится со своими братишками. Ух, до чего же она тогда становится злющая: бьет их, пинает ногами, кусается, — но такое длится недолго. Братья побаиваются ее, знают, что она сильнее.
— Каатье, сходи в лавку! — кричит ей мать. Девочка быстро зажимает уши, потом она с чистой совестью скажет матери, что ничего не слыхала. Она терпеть не может ходить за покупками. Покупки не стоят того, чтобы из-за них врать, а она и не врет, это видно по ее голубым глазам.
Одному из ее братьев шестнадцать лет, он уже младший приказчик и поэтому ведет себя как хозяин. Своим братьям он — за отца, Каатье и слова Питу сказать не может, потому что парень он грубый, а Каатье знает на собственном опыте, что, если она его слушается, он время от времени дает ей конфетку. И Каатье, и другие сестры очень любят конфетки.
По воскресеньям, когда «бим-бом!», «бим-бом!» раздается из церкви, мама с ней и со всеми ее братьями и сестрами отправляется к мессе. Там Каатье молится о своем папочке, который уже на небесах, и о своей маме, чтобы она жила еще долго-долго. После церкви все они вместе с мамой идут на прогулку. Каатье так это любит! Через парк, а иной раз даже и к Артису[11]. Но до того времени, когда они пойдут в Артис, пройдет еще несколько месяцев — ведь только в сентябре билет опять будет стоить четверть гульдена. Разве что Каатье попросит повести ее туда в подарок на день рождения. Другие подарки? На них у мамы нет денег.
Каатье часто жалеет маму, когда та сидит вечером, уставшая после тяжелой работы, а бывает, и плачет, и обещает ей все, чего та ни пожелает, когда сама она вырастет.
Вырасти Каатье ужасно хотелось бы, ведь тогда она сможет зарабатывать деньги, и покупать красивые платья, и, как Пит, дарить конфеты сестричкам.
Но сначала Каатье нужно много учиться и долго ходить в школу, пока ее желание сбудется. Мама хочет, чтобы она ходила еще и в школу домоводства, но такое Каатье совсем не по вкусу. Она вовсе не хочет прислуживать какой-нибудь госпоже, она лучше пойдет на фабрику, как те девушки, которые каждый день вереницей проходят мимо. На фабрике ты не одна, и там есть с кем поболтать, а Каатье так это любит!
В школе ей случается и в углу постоять, потому что она не умеет держать рот на замке, но вообще-то она прилежная ученица.
Каатье очень любит свою учительницу, она вообще такая милая и ужас какая умная. Как, наверно, нелегко стать такой умной! Но и не совсем такой тоже неплохо! Мама всегда говорит Каатье, что если она станет слишком умная, то не выйдет замуж, а для Каатье это просто ужасно. Ей так хочется иметь милых детишек, не таких, как ее братья и сестры, — нет, ее дети будут гораздо приятнее и гораздо красивее. У них будут красивые вьющиеся каштановые волосы, а не льняные, это совсем не изящно, и никаких веснушек — у самой Каатье их вон сколько! И она вовсе не хочет так много детей, как у ее мамы, — двух-трех будет вполне достаточно. Но этого придется еще так долго ждать, во всяком случае, столько, сколько она уже прожила на свете.
— Каатье! — зовет ее мама. — А ну ступай сюда, непослушная девчонка! Куда ты запропастилась? Быстро в постель, небось опять замечталась?
Каатье вздыхает: она как раз так сладко мечтала о будущем!
Семья портье
Суббота, 7 авг. 1943 г.
Ни зимой, ни летом семья портье не выполняет приказа о затемнении. Как будто сейчас мир, время, когда во всех квартирах так уютно горел свет и было видно, как люди собираются за обеденным столом или за чаем.
Семью портье, кажется, совсем не заботит, мирное сейчас время или военное. Во всяком случае, сквозь ярко освещенные окна можно видеть сидящих за столом отца, мать, их сына и дочь.
Мать вообще не желает очень уж обращать внимание на войну, она не готовит фальшивых подливок, лучше вообще не есть никаких, не заваривает суррогатный чай, но пьет мятный, а когда раздается стрельба и она не хочет ничего слышать, тогда под рукой есть верное средство: забраться в душевую и поставить на патефон самую громкую джазовую пластинку. Если соседи жалуются, она не обращает на это никакого внимания, а чтоб их задобрить, приносит им назавтра что-нибудь вкусненькое.
Женщине с третьего этажа, чья дочь обручена с сыном хозяина дома, она преподносит пухлую оладью, а мефроу Стеен, соседка справа, получает пол-унции сахару.
Зубной врач со второго этажа, у которого ее младшая дочь работает ассистенткой, тоже не остается обойденным и тем самым приводит в ярость отца, которому после каждой ночной стрельбы приходится жертвовать тремя сигаретами.
Отец и мать проводят целый день в одиночестве и любовно ухаживают за своими пятью кроликами, которые с каждым днем становятся все толще и толще. Они спят в колыбельке, прячутся от дождя в конуре, и обеденным столом им служит корыто. На зиму у этих зверушек есть домик с окошками и прекрасные просторные комнатки. Их ежедневное меню — ботва от морковки и прочие вкусности.
Отец много работает в саду, мать — в доме. Все там прямо сияет. Каждую неделю она моет и фасадные, и задние окна, каждую неделю берется за покрывала, каждую неделю — за мебель на кухне, всегда вместе с толстой уборщицей, которая из года в год делает эту работу.
У отца дел не слишком много. Сейчас он портье в большой торговой конторе, наверху, и ему нужно всего-навсего чутко спать, чтобы он мог вовремя услышать возможных воров. Раньше мать, вместе с уборщицей, убирала во всем доме. Но с тех пор как одна ее дочь вышла замуж, а другая родила десятого ребенка, она уже больше этим не занимается.
Самая большая радость для отца с матерью — это когда их навещают внуки. Тогда весь день напролет только и слышишь в саду: «Деда, баба, смотрите, кролики такие смешные!» И дедушка с бабушкой тут же бегут к ним, потому что внучат надо баловать, — это уж непременно. Внуки ведь не то что собственные дети, которых нужно воспитывать в строгости. Для своей старшей внучки дедушка особенно постарался: ко дню рождения соорудил ей байдарку. Хотелось бы мне, чтобы и у меня был такой дедушка!
Мой первый день в Лицее
Среда, 11 авг. 1943 г.
После бесконечных туда-сюда, раздумий и обсуждений остановились на том, что я должна поступить в Еврейский лицей, а после ряда телефонных звонков, что даже и без вступительных экзаменов. Правда, я отставала по всем предметам, особенно по арифметике, а от одной мысли о геометрии прямо дрожала.
В конце сентября пришло долгожданное письмо, сообщавшее, что в октябре, в такой-то и такой-то день, мне следует явиться в Еврейский лицей на Стадстиммертёйнен. В означенный день лил такой дождь, что ехать туда на велосипеде и думать было нечего.
Стало быть, на трамвае; ясно, что в многолюдной компании. Перед школой так все и кипело, стайки девочек и мальчиков были заняты разговорами, многие то и дело перебегали с места на место, и повсюду слышалось: «А ты не в моем классе? О, а я тебя знаю! А в каком ты классе?»
Примерно так выглядело и со мной. Кроме Лис Хослар, никого из знакомых я в своем классе не встретила и, конечно, расстроилась.
Подошло время, и нас повела в класс седая учительница, на низких каблуках, в длинном платье и с личиком, как у мышки.
Она стояла, потирая руки и глядя на непрекращавшуюся суматоху, и давала нам всякие разъяснения. Нам сделали перекличку, сказали, какие нужно будет заказывать учебники; поговорили о том о сем, а потом нам разрешили разойтись по домам.
Честно говоря, это было сплошное разочарование. Я ожидала, по крайней мере, что нам сообщат расписание, и… думала увидеть директора. Правда, я заметила в коридоре маленького, толстенького, довольно приятного розовощекого человека, который, приветливо кивая всем, кто проходил мимо, беседовал с господином такого же роста, худым и в очках, с жидкими волосами и важным лицом, но я и знать не знала, что первый — так называемый «ключарь», а второй — директор.
Придя домой, я с волнением рассказывала о своих впечатлениях, но, строго говоря, обо всем, что касается школы, учителей, учеников и уроков, я знала так же мало, как раньше.
Ровно через неделю после явочного дня начинались занятия. Опять шел ужасный дождь, но я все равно решила ехать на велосипеде. Мама снабдила меня тренировочными штанами, чтобы я, чего доброго, не промокла, и я отправилась.
Марго вообще-то ездит на велосипеде гораздо быстрее меня. Не прошло и двух минут, а я уже так задыхалась, что должна была попросить ее ехать помедленнее. А еще через две минуты хлынул такой дождь, что я, помня о теплых тренировочных штанах, слезла с велосипеда и натянула их, причем повыше, чтобы они не волочились по лужам. Я бодро помчалась дальше, но вскоре увидела, что для меня это опять слишком быстро, и мне снова пришлось просить Марго ехать потише.
Она так нервничала! И прямо заявила, что лучше будет ездить одна; она ужасно боялась, что опоздает.
Но мы приехали как раз вовремя и, поставив велосипеды, могли вволю поболтать, укрывшись в воротах, что обращены в сторону Амстела.
Ровно в полдевятого можно было заходить внутрь. Прямо у входа стояла доска, на которой было написано, что примерно двадцать учеников должны перейти в другие классы.
Как нарочно, и я была в их числе. Указывалось, что я должна перейти в класс ILII. Я пришла в класс, где увидела некоторых знакомых мне мальчиков и девочек, но Лис осталась в классе ILI, и я почувствовала себя совершенно заброшенной, когда меня посадили в самом последнем ряду. Впереди сидели девочки выше меня, и я была там одна как перст.
Уже на втором уроке я подняла палец и спросила, нельзя ли мне пересесть, потому что из-за широких спин тех, кто сидит впереди, я почти ничего не вижу, даже если наклонюсь в сторону.
Просьбу тут же удовлетворили, я собрала свое добро и пересела поближе. Третьим уроком была гимнастика. Учительница мне очень понравилась, и я насела на нее с вопросом, не может ли она устроить так, чтобы Лис оказалась в моем классе. Как ей это удалось, я не знаю, но, во всяком случае, Лис пришла, и на следующем уроке мы обе уже сидели вместе. Вот теперь я примирилась со школой. И школа, которая еще принесет мне много пользы и радости, тоже мне улыбнулась, и я начала внимательно слушать то, что рассказывал нам географ.
Биология
Среда, 11 авг. 1943 г.
Она входит, потирая руки; потирая руки, садится, и все потирает их, и потирает, и потирает.
Юффроу Бихел, учительница биологии (называть этот предмет Натте Хис[12] не разрешается), — маленькая, седая, с серо-голубыми глазами, большим носом — ну вылитая мышка или еще какой-то зверек.
За собой она катит тележку, и в класс въезжает скелет.
Она становится к печке, все так же потирая руки, и урок начинается.
Сначала спрашивает, потом рассказывает. О, она знает много, эта юффроу Бихел, умеет прекрасно рассказывать обо всем, начиная с рыб и кончая северными оленями, но больше всего она любит (по словам Марго) рассказывать и спрашивать о размножении. (Ну конечно, потому, что она старая дева.)
Внезапно ее прерывают на полуслове: через весь класс пролетает скомканная бумажка — и прямо на мою парту.
— Что это там у тебя? — спрашивает она протяжно (юффроу Бихел — из Гааги!).
— Я не знаю, юффроу!
— Подойди сюда, с бумажкой!
Поколебавшись намного, я встала, подошла к ней и протянула бумажку.
— От кого она?
— Я не знаю, юффроу, я ее не читала.
— О, ну тогда мы с этого и начнем!
Она развернула бумажку и показала мне, что там написано. Там было только одно слово: «Предательница». Я покраснела. Она смотрела на меня:
— Теперь ты знаешь, от кого это?
— Нет, юффроу!
— Ты лжешь!
Кровь бросилась мне в лицо, я смотрела на учительницу горящими глазами, но не вымолвила ни слова.
— Скажи, от кого она! Пусть поднимет палец тот, кто ее бросил!
В самом заднем ряду показалась рука с поднятым пальцем. Я так и думала: Роб Коэн.
— Роб, подойди ко мне! — Роб подошел. — Почему ты это написал? — Молчание. — Анна, ты знаешь, в чем дело?
— Да, юффроу.
— Расскажи!
— Можно как-нибудь в другой раз? Это длинная история.
— Нет, рассказывай!
И я рассказала о контрольной по французскому, с нулем за шпаргалки, и о предательстве по отношению к классу.
— Хорошенькая история! И ты, Роб, считаешь необходимым высказывать Анне свое мнение во время урока? А тебе, Анна, я не верю — это касается твоего молчания о происхождении этой бумажки. Садись!
Я была в ярости. Дома рассказала о происшествии и, как только представилась возможность поймать юффроу Бихел, послала к ней папу.
Он вернулся с сообщением, что все время называл ее Биггел[13] и что она считает Анну Франк славной девочкой, а о так называемой лжи и думать забыла!
Математика
Четверг, 12 авг. 1943 г.
Впечатляюще выглядит он, стоя перед всем классом: большой, старый, в высоком стоячем воротничке, всегда в сером костюме, лысая голова в обрамлении седых волос. Речь у него какая-то странная, он то ворчит, то смеется. Терпелив, когда видит, что стараются, и злится, когда имеет дело с лентяями.
Из десяти опрошенных учеников девять получают «неудовлетворительно». В который раз излагать, объяснять, обосновывать — и только лишь для того, чтобы получить результат ниже нуля.
Он любит загадывать загадки, любит поговорить после урока и раньше был президентом большого футбольного клуба. Менеер Кеесинг и я не раз бывали на ножах друг с другом из-за… моей любви поболтать. На протяжении трех уроков я получила шесть замечаний, пока он не решил, что это уже чересчур, и в качестве надежного средства велел мне написать сочинение в две страницы.
Сочинение было сдано на следующем уроке, и менеер Кеесинг, который умеет оценить шутку, от души посмеялся над содержанием. Там была такая, например, фраза:
«Мне и вправду нужно постараться понемногу отучиться болтать, но боюсь, что все равно ничего не получится, потому что этот порок достался мне по наследству: моя мама тоже любит поговорить, и я вся в нее, а она до сих пор от этого не отучилась».
Тему этого заданного мне сочинения менеер Кеесинг назвал «Болтушка».
На следующем уроке также нашлись поводы, чтобы всласть поболтать, и менеер Кеесинг записал в своей книжечке: «Юффроу Анна Франк, к следующему уроку сочинение „Неисправимая болтушка“».
И это сочинение я сдала, как полагается прилежной ученице, но уже на следующем уроке та же напасть повторилась. На что менеер Кеесинг записал в свою книжечку: «Юффроу Анна Франк, сочинение на тему: „Кряк-ряк-ряк“, — сказала юффроу „Крякдакряк“ на двух страницах».
Ну что тут поделаешь? Мне сразу же стало ясно, что все это в шутку, иначе бы он в наказание дал мне решать какие-нибудь примеры, и поэтому я собралась с духом и на шутку решила ответить шуткой. Я написала, с помощью Санны Ледерманн, сочиненьице в стихах, начало которого звучит следующим образом:
— Кряк-ряк-ряк! — сказала юффроу Крякдакряк,
Позвала утица малышей.
— Пи! Пи! Пи! — послышалось из камышей. —
Принесла ли для нас, мама, хлеба —
Для Геррита, Митье и Реба?
— Ну конечно, вот он уже,
Я стащила его на меже,
Не набрасывайтесь гурьбой,
Поделитесь между собой.
Что за радость для малых утят!
Все едят, сколько хотят.
Только слышится: «Ток! Ток! Ток!» —
Друг у друга выхватывают кусок.
А рассерженный лебедь-папа
На их крик спешит косолапо.
И т. д. и т. п.
Кеесинг прочитал это, прочитал всему классу и еще в других классах и признал себя побежденным.
С этих пор я была у него на хорошем счету. На мою болтовню он больше уже не обращал никакого внимания и никогда больше меня не наказывал.
P. S. Отсюда видно, какой он симпатичный малый.
А за юффроу Крякдакряк менееру Кеесингу, конечно, спасибо.
Сон Евы
Среда, 6 окт. 1943 г.
Часть I
— Спокойной ночи, Ева! Приятного сна!
— И тебе тоже, мама!
Щелкнул выключатель, свет погас, и Ева лежала несколько минут в полной темноте. Потом, когда глаза немного привыкли, она увидела, что мама неплотно задвинула шторы: осталась широкая щель, и через эту щель Ева могла смотреть прямо в лицо луны. Круглая, как шар, луна тихо висела в небе, она была неподвижна и приветливо улыбалась.
— Была б я такая, — подумала Ева почти вслух, — ах, если бы я тоже могла быть всегда такой же приветливой и спокойной, чтобы все думали: какой приятный ребенок! О, как бы это было прекрасно!
Ева все думала и думала о луне и сравнивала ее с собой, такой маленькой. Оттого что она так долго думала, глаза ее наконец закрылись, и мысли перешли в сон, который Ева на следующий день так хорошо помнила, что порой сомневалась, а не случилось ли все это на самом деле.
Она стояла перед входом в большой парк и сквозь ограду нерешительно смотрела внутрь, но войти никак не решалась.
И когда она уже хотела повернуть назад, рядом с ней появилась крошечная девочка с крылышками и сказала:
— Ну, Ева, входи, не бойся! Или ты не знаешь, куда идти?
— Нет! — робко ответила Ева.
— Ну что ж, тогда я поведу тебя! — И с этими словами отважная девочка-эльф взяла Еву за руку.
Ева уже много раз бывала с мамой и бабушкой во всяких парках, но никогда еще ей не приходилось видеть такого прекрасного парка, как этот.
Несметное множество цветов, деревьев, пышные луга увидала она, всевозможных насекомых и всяких зверушек, таких, как белочки и черепашки.
Девочка-эльф весело болтала с ней обо всем, и Ева скоро настолько забыла о своей робости, что спросила ее о чем-то, но та, быстро приложив палец к губам Евы, сразу же велела ей замолчать.
— Придет время, я все тебе покажу и расскажу, и ты сможешь спросить меня обо всем, что тебе непонятно, а пока что тебе нужно молчать и не перебивать меня. Иначе я сейчас же отведу тебя обратно домой, и тогда ты будешь знать ровно столько, сколько и все прочие глупые люди! Смотри, я начинаю.
Первейшая из всех — роза, королева цветов; она так прекрасна и у нее такой тонкий запах, что она одурманивает каждого, и больше всего — себя.
Роза красива, изящна и ароматна, но, если что не по ней, она тут же обращает к тебе свои шипы. Роза похожа на избалованную маленькую девочку, красивую, нарядную и на первый взгляд просто очаровательную, но тронь ее или обрати свое внимание на другую, так что она больше не в центре внимания, и она сразу же покажет свои коготки. Тон у нее становится язвительный, она обижена и именно этим хочет казаться милой. Манеры у нее наигранные и жеманные.
— Но, Эльфи, как же так? Почему же тогда все считают розу королевой цветов?
— Потому что почти все ослепляет внешний блеск; если дать людям выбор, то не много найдется таких, кто не поддался бы очарованию розы. Роза величественна и прекрасна, и, как везде в мире, среди цветов никто не спрашивает — а нет ли другого цветка, который внешне, может, и некрасив, но внутри прекрасен и больше подходит для того, чтобы царствовать?
— А скажи, Эльфи, ты, значит, не считаешь розу красивой?
— Да нет же, Ева, роза и вправду на вид прекрасна! И не будь она всегда в центре внимания, то, вероятно, вполне была бы достойна любви. Но пока ее считают цветком из цветков, роза всегда будет казаться себе прекрасней, чем она есть в действительности; и пока это продолжается, роза все так же заносчива, а заносчивых созданий я не люблю!
— Значит, и Леентье тоже заносчива? Ведь и она очень красива, а из-за того, что еще и богата, она в нашем классе всегда заправила!
— Подумай-ка сама, Ева, и ты согласишься, что Леентье — стоит только Маритье из вашего класса хоть в чем-нибудь ей возразить — восстанавливает против нее всех остальных девочек. Да к тому же еще говорит, что Маритье некрасивая и бедная. Все другие делают то, что велит Леентье: вы ведь знаете, что коли не сделаете, как хочет эта ваша заправила, то она на вас разозлится и вы раз и навсегда окажетесь у нее в немилости. А впасть в немилость к Леентье — это почти то же самое, как если бы вдруг на тебя разозлился директор. Ты уже не можешь пойти к ней в гости, и все остальные в классе тебя игнорируют. Такие девочки, как Леентье, останутся потом одинокими на всю жизнь. Когда другие девочки станут старше, они все будут против нее, но, если они возьмутся за дело сейчас, может быть, Леентье еще успеет исправиться, чтобы не остаться навсегда одинокой.
— А может, мне стоит попытаться отучить других девочек все время прислушиваться к Леентье?
— Конечно! Поначалу она рассердится и разозлится, но если возьмется за ум и посмотрит на свое поведение, то, конечно, будет тебе благодарна и найдет более искренних друзей, чем у нее были до этого.
— Теперь я все поняла, но скажи мне, Эльфи, и я такая же заносчивая, как эта роза?
— Знаешь, Ева, и взрослые, и дети, которые всерьез об этом задумываются, уже не заносчивы, потому что высокомерные люди в самих себе этого никогда не замечают. Так что ты сама лучше всех ответишь на свой вопрос — советую тебе так и сделать. А теперь мы отправимся дальше. Смотри-ка, разве он не хорош?
С этими словами она опустилась на колени перед синеньким колокольчиком, который легко покачивался в траве от малейшего дуновения ветра.
— Колокольчик приветлив, незатейлив и мил. Он вносит в мир радость; он позванивает для цветов, так же как колокола звонят для людей. И тем самым помогает многим цветам, дает им поддержку. Колокольчик никогда не чувствует себя одиноким, музыка звучит в его сердце. Этот цветочек куда счастливее розы. Он не печется о том, чтобы его хвалили другие. Роза живет похвалами и ради похвал — если их нет, у нее не остается ничего, что принесло бы ей радость. Вся ее внешность — ради других, ее сердце пусто, и поэтому в нем нет веселья. Колокольчик же не столь великолепен, но имеет настоящих друзей, которые ценят его мелодии, и эти друзья живут в его сердце.
— Но ведь колокольчик тоже красивый цветок?
— Да, но не такой броский, как роза, а большинство людей привлекает, к сожалению, именно это.
— Но и я часто чувствую себя одинокой, и мне хочется к другим людям. Выходит, это нехорошо?
— Тут уж ничего не поделаешь, Ева. Когда станешь постарше, ты тоже услышишь, как поет твое сердце, я знаю точно!
— Рассказывай дальше, милая Эльфи, ты мне так нравишься и так чудно рассказываешь!
— Хорошо, я продолжаю. Взгляни-ка наверх! — И своим маленьким пальчиком она указала на громадный, старый, величественный каштан. — Внушительное дерево, не правда ли?
— О да! Какой громадный! Сколько же ему лет?
— Уже больше ста пятидесяти. Но он все так же прекрасен и совсем не чувствует себя старым. Каштан восхищает всех своей мощью, а его мощь говорит о том, что он равнодушен к любым восторгам. Он не терпит никого выше себя, себялюбив и ко всему безразличен; лишь бы иметь самому то, что ему нужно, — все остальное его не интересует. Посмотришь на него, на этот каштан, и кажется, что он такой щедрый и готов помочь каждому, но думать так — большая ошибка. Он рад, что никто не приходит к нему со своими заботами. Он ведет веселую жизнь, и до других ему нет дела. Деревья и цветы знают об этом; со своими заботами они всегда обращаются к домашней, любезной сосне, а на каштан не обращают никакого внимания.
Но и у каштана есть маленькая песенка в его большом сердце — это видно из его симпатии к птицам. Для них он всегда открыт, и им он кое-что позволяет, хотя и не слишком много.
— Можно и каштан сравнить с определенным видом людей?
— Тут и спрашивать нечего, Ева. Всякое живое существо можно сравнить с другим. Каштан вовсе не исключение. Впрочем, он совсем не так плох — но сказать, что он хорош, тоже нельзя. Он никому не делает зла, он живет своей собственной жизнью и вполне этим доволен. Ну, Ева, у тебя еще есть вопросы?
— Нет, Эльфи, я все поняла, спасибо за твои объяснения. А теперь я пойду домой. Приходи ко мне снова и расскажи о чем-нибудь еще!
— Нет, это невозможно. Приятного сна, Ева!
Она сразу пропала, и Ева проснулась. Луна уже уступила место солнцу, и кукушка в часах прокуковала семь раз.
Часть II
Этот сон произвел на Еву очень глубокое впечатление. Почти каждый день она ловила себя на каких-нибудь промахах и всякий раз вспоминала поучения маленькой Эльфи.
Ева изо всех сил старалась как можно меньше уступать Леентье, но девочки вроде Леентье сразу же чувствуют, если кто-то настроен против них, хочет спихнуть с их места.
Она отчаянно сопротивлялась, когда Ева во время игры предлагала выбрать на этот раз главной другую девочку. Своих «верных» (так называли девочек, готовых, по их словам, пойти за Леентье в огонь и в воду) она науськивала на «эту властную Еву». Но Ева с радостью отмечала, что Леентье все же не обращалась с ней так бесцеремонно, как с Маритье.
Это была маленькая, нежная и робкая девочка; и что Еву удивляло больше всего — по временам она даже осмеливалась возражать Леентье. А приглядевшись поближе, Ева увидела, что Маритье была гораздо более приятной и милой подружкой, чем Леентье.
Ева ничего не рассказала маме про Эльфи. Она и сама не знала почему: до сих пор она всем делилась со своей мамой, но сейчас впервые в жизни чувствовала потребность сохранить все это лишь для себя одной. Она не могла бы выразить словами, почему так поступает, но ей казалось, что мама ее не поймет. Эльфи была так прекрасна, но ведь мама не гуляла с ними в парке! Она никогда не видела эльфов. А Ева не смогла бы ей описать, как они выглядят.
Прошло совсем немного времени. Сон так повлиял на Еву, что мама не могла не заметить, насколько переменилась ее дочь. Она говорила теперь о других, более важных вещах и не обращала внимания на пустяки. Но Ева не рассказывала, из-за чего она так изменилась, а мама не решалась приставать к ней с расспросами.
Так Ева и жила себе дальше, мысленно добавляя к советам Эльфи и от себя самой еще много хорошего. А что касается самой девочки-эльфа, то ее и след простыл.
Леентье перестала быть в классе единственной предводительницей, девочки выбирали теперь друг дружку по очереди. Поначалу она очень злилась, но, когда заметила, что это ни к чему не приводит, стала вести себя более дружелюбно. В конце концов к ней стали относиться как к прочим, потому что она больше не позволяла себе делать прежние промахи.
Теперь уже Ева решила все рассказать маме. Она немного удивилась, что мама вовсе не стала смеяться, но сказала:
— Дитя мое, эльфы одарили тебя драгоценным подарком. Не думаю, что они считают многих достойными такого внимания. Цени их доверие и ни с кем больше об этом не разговаривай. Поступай всегда так, как тебе говорила эта девочка-эльф, и не отступай от ее советов.
Ева становилась старше и старалась делать всем добро. Когда ей минуло шестнадцать (через четыре года после встречи с Эльфи), все вокруг уже знали, что она — приветливая, милая девушка и всегда готова помочь.
Всякий раз, когда она делала что-то хорошее, она чувствовала в себе какую-то особенную радость и теплоту и все больше и больше понимала, что значили слова Эльфи про песенку, которая должна звучать в сердце.
Она была уже совсем взрослой, когда ее однажды пронзила мысль и одновременно пришла разгадка, чем и кем могла быть та девочка-эльф. Ей стало вдруг совершенно ясно, что в ней говорила собственная ее совесть, которая во сне показала Еве, что такое добро. Но она была полна благодарности за то, что в детстве встретила эльфа, который служил ей примером.
Конец
Квартиранты
Пятница, 15 окт. 1943 г.
Когда мы вынуждены были сдать свою большую заднюю комнату, это означало для нас также поступиться собственной гордостью, ибо никто из нас не привык к тому, чтобы за деньги пускать в дом чужого.
Но когда настигает нужда и сдача комнаты в аренду становится крайней необходимостью, нужно уметь отбросить и гордость, и что-то гораздо большее. И мы это сделали. Большую спальню освободили и заново обставили той мебелью, которая у нас еще оставалась. Этого, правда, не хватало для шикарной гостиной, совмещенной со спальней. Так что мой отец стал бродить по всяческим распродажам и аукционам и день за днем приносил домой то одну, то другую вещицу.
Недели через три мы уже обзавелись премиленькой корзиной для бумаг, появился и чайный столик — ну просто картинка, но все еще не хватало двух кресел и самого обычного шкафа.
Отец снова пустился на поиски и даже взял меня с собой для особой приманки. Придя на аукцион, мы уселись на деревянную скамью среди ошалевших перекупщиков и каких-то подозрительных личностей и ждали, ждали, ждали. Мы могли бы прождать вплоть до следующего дня, потому что на продажу выставляли только фарфор!
Разочарованные, пошли мы обратно, чтобы назавтра, без особых надежд, повторить свою попытку. Но… на этот раз дело пошло удачнее, и мой отец подцепил великолепный дубовый шкаф и два клубных кожаных кресла. Чтобы отпраздновать эти новые приобретения и надежду скоро найти жильца, мы позволили себе выпить по чашке чая с пирожным и радостные вернулись домой.
Но о горе! Когда на следующий день нам доставили шкаф с двумя креслами и внесли их в комнату, мать заметила, что в шкафу виднелись какие-то странные дырочки. Отец глянул… и впрямь: шкаф был изъеден древоточцем. Об этом ничего не было сказано в документах, и этого никак нельзя было разглядеть в полутемном помещении аукциона.
Как только мы это обнаружили, мы тут же стали и кресла рассматривать через лупу, и, конечно, там тоже было полно этих тварей. Мы позвонили аукционисту и попросили как можно скорее забрать все вещи обратно. Их забрали, и мать вздохнула с облегчением, когда мебель вынесли из квартиры. Отец тоже вздохнул — но с сожалением о деньгах, потерянных на всей этой операции.
Несколько дней спустя отец встретил знакомого, у которого дома имелась кое-какая мебель, которую он охотно отдал бы нам, пока мы не найдем чего-нибудь получше. Так что вопрос в конце концов был решен.
И вот мы взялись за составление надлежащего объявления, которое будет помещено в витрине книжного магазина и оплачено на неделю.
Скоро стали приходить люди, чтобы посмотреть помещение. Первым оказался пожилой господин, искавший комнату для своего неженатого сына. Мы почти обо всем уже договорились, когда сын тоже вдруг стал подавать голос и говорить такие странные вещи, что моя мать всерьез усомнилась в его рассудке — и не безосновательно, так как его отец робко признал, что сын действительно несколько не в себе. Моя мать уж и не знала, как побыстрее их выпроводить.
Десятки людей приходили и уходили, пока однажды не появился невысокий полный господин средних лет, объявивший, что будет много платить и мало требовать; на том и порешили. И действительно, этот господин принес нам куда больше радости, чем хлопот. Каждое воскресенье он дарил детям шоколад, взрослым сигареты и не раз приглашал всех нас в кино. Через полтора года он поселился со своей матерью и сестрой в собственной квартире и, посетив нас однажды, уверял, что никогда не проводил время так приятно, как с нами.
И опять мы повесили объявление, и снова звонили и приходили и стар, и млад. Как-то явилась довольно молодая дама в шляпе, как у служащих Армии спасения. Мы так и прозвали ее: Жозефина из Армии спасения. Она поселилась у нас, но отнюдь не была столь же приятной, как тот полный низенький господин. Прежде всего, она оказалась ужасно неряшлива, бросала вещи куда попало, а к тому же, и это самое главное, ее навещал кавалер, который частенько бывал пьян, а это уж никак не доставляло нам радости. Так, однажды среди ночи нас будит звонок, отец бежит посмотреть, в чем дело, и видит вдрызг пьяного парня, который похлопывает его по плечу, приговаривая: «Но мы же друзья! Мы же добрые друзья!» Бац!.. и дверь захлопывается у него перед носом.
Когда в мае 1940 года разразилась война, мы отказали Жозефине от комнаты и сдали ее одному нашему знакомому, молодому человеку тридцати лет, который к тому времени был помолвлен.
Молодой человек, очень приятный на вид, обладал, увы, одним недостатком: он был ужасно избалован. Однажды, когда стояли холодные зимние дни, а мы все уже экономили электричество, он стал жаловаться, что ему очень холодно. Это было бессовестное преувеличение, потому что как раз у него в комнате отопление было установлено на пределе. Но к квартирантам приходится быть снисходительными, и мы разрешили ему иногда включать на час электрическую печку. И что же? Целый день печка была включена на максимальную температуру. Мы его и просили, и умоляли быть хоть чуточку экономней — напрасно. Счетчик показывал чудовищный перерасход, и в один прекрасный день моя отважная мать вынула предохранитель, а сама куда-то исчезла. Вину возложили на печку: по-видимому, она чересчур перегрелась, и молодому человеку пришлось отныне жить в холоде.
Несмотря ни на что, он прожил у нас тоже полтора года, пока не женился.
И снова комната пустовала. Мама хотела уже опять давать объявление, когда позвонил один наш знакомый и навязал нам человека, который развелся и срочно нуждался в комнате. К нам явился высокий мужчина лет тридцати пяти, в очках, на вид несимпатичный. Мы не хотели разочаровывать нашего знакомого и сдали комнату этому мужчине. Он также был обручен, и его невеста часто приходила к нам. Свадьба вот-вот должна была состояться, когда он вдруг с ней поссорился и второпях женился на другой.
Но тут мы переехали, и с квартирантами (надеюсь, навсегда) было покончено!
Полет Паулы
22 декабря 1943 г. Среда.
Раньше, когда я была маленькая, Пим всегда рассказывал мне всякие истории про «непоседу Паулу». Множество самых разных историй, и я была от них просто в восторге. Сейчас, если ночью я прибегаю к Пиму, он тоже иногда начинает рассказывать мне про Паулу, и самый последний из этих рассказов я записала.
Глава I
Раньше, когда я была маленькая, Пим всегда рассказывал мне всякие истории про «непоседу Паулу». Множество самых разных историй, и я была от них просто в восторге. Сейчас, если ночью я прибегаю к Пиму, он тоже иногда начинает рассказывать мне про Паулу, и самый последний из этих рассказов я записала.
В голове у Паулы давно уже созревал план как-нибудь разглядеть самолет поближе. Ее отец уже некоторое время работал на аэродроме близ Берлина, куда переехали и Паула с матерью.
В один прекрасный день, когда на летном поле было довольно спокойно, она собралась с духом и залезла в самый лучший самолет из всех, которые стояли поблизости. Она не торопясь осмотрела все закоулки и наконец остановилась перед кабиной пилотов. Вот где самое интересное. Она уже хотела взяться за дверную ручку, как вдруг, к своему ужасу, услыхала голоса снаружи.
Быстро залезла она под одну из скамей и, дрожа от страха ждала, что будет дальше.
Голоса слышались все ближе и ближе, и вот она увидела, как два человека поднялись в самолет, всё обошли и чуть не наткнулись на скамью, под которой она лежала. Они оба уселись на скамью позади нее и завели разговор на таком языке, что понять их было совершенно невозможно. Прошло с четверть часа, и они встали. Один из них вышел, а другой ненадолго исчез в кабине пилотов и вышел оттуда одетый как летчик. В это время первый появился снова, и с ним еще шестеро. Они сели в самолет, и Паула, дрожа от страха, услыхала, что завели моторы и загудели пропеллеры.
Глава II
Так как она, несмотря на всю свою смелость, частенько боялась, а то и отчаянно трусила, хотя потом снова вдруг обретала мужество, то никак нельзя было определить, какое из этих двух противоположных качеств проявится на этот раз.
Но теперь она собрала все свое мужество и, когда они уже какое-то время летели, вдруг вылезла из-под своей лавки, к безмерному изумлению экипажа, назвала себя и объяснила, как она здесь очутилась.
Экипаж посовещался, что же делать с Паулой, и решил, поскольку им не оставалось ничего другого, оставить ее у себя. Она услыхала от них, что они летят в Россию, чтобы бомбить русскую линию фронта.
Вздохнув, она легла на скамью и уснула. Вам! Бах! Трах!.. Паула тотчас вскочила, глядя на летчиков во все глаза. Но ни у кого не было времени обращать на нее внимание, потому что русские открыли отчаянную стрельбу по вражескому самолету. И вдруг — Паула вскрикнула — скамьи закачались и стекла разбились: снаряд попал в самолет. Он резко пошел вниз, но ему все-таки удалось приземлиться.
Сразу же к ним бросились русские и взяли летчиков в плен. Можно себе представить, как эти чужеземцы поразились, увидев перед собой маленькую девочку лет тринадцати. Немцы и русские никак не понимали друг друга, и поэтому один молодой русский взял Паулу за руку, и они пошли вместе со всеми к месту, где содержали военнопленных. Начальник расхохотался, когда увидел бесстрашно стоявшую перед ним Паулу. Он не хотел оставлять ее с другими пленными и решил на следующий день разузнать, нельзя ли найти за линией фронта кого-либо из местных жителей, кто взял бы девочку к себе до конца войны.
Глава III
После того как Паула пробыла у начальника почти неделю, в одно дождливое утро ее, в чем она была, посадили в большую машину, вместе с ранеными, которых везли в госпиталь. Пять часов грузовик беспрестанно трясся и подпрыгивал на камнях и ухабах; снаружи из-за сильного дождя ничего не было видно. Вдоль пустынной дороги изредка попадались дома, но все они казались вымершими. В самом начале поездки вдалеке еще слышалась непрерывная пушечная канонада; постепенно она становилась все тише и тише и наконец полностью смолкла.
Но вот дорога сделалась оживленней, они миновали несколько машин и остановились перед белым зданием, разрисованным снизу доверху красными крестами. Раненых выгрузили и внесли внутрь, где их ожидали заботливые медицинские сестры.
Когда ни одного раненого в машине уже не осталось, шофер, не говоря ни слова, двинулся дальше. Они ехали целый час, пока снова не остановились. За деревьями Паула увидела довольно большой крестьянский двор. Шофер показал ей в сторону дома, и Паула поняла, что ей нужно выходить. Она ждала, что шофер тоже выйдет, но машина исчезла очень быстро. Она даже не успела понять, что произошло, и осталась одна на улице. «Русские все-таки странные люди — вот, оставили меня здесь, в чужой стране, совсем одну. Конечно, немцы вели бы себя совсем иначе!» — подумала Паула (не забывайте, что Паула была немецкая девочка.) Но тут она вспомнила, что шофер показал ей рукой на дом. Она пересекла улицу, открыла калитку и вошла на огороженный двор. Перед домом она увидела женщину, которая что-то стирала, и девочку, которая развешивала белье.
Она подошла к женщине и протянула руку со словами: «Паула Мюллер». Женщина взглянула на нее и тоже подала ей руку, сперва вытерев ее о передник, и сказала что-то совершенно неразборчивое. Паула подумала, что ее так зовут, но слова означали просто «Добро пожаловать!».
Глава IV
Госпожа К. (так звали эту женщину) жила здесь с мужем и тремя детьми. Кроме того, там были еще работник и две служанки. Ей уже три дня назад сообщили, что вскоре к ней, вероятно, приедет девочка лет тринадцати. И тогда ее освободят от постоя.
Госпожу К. это вполне устраивало, и вот теперь она видела, что девочка уже прибыла. Но хозяева с трудом могли что-либо втолковать Пауле. Девочка, как ни старалась, не понимала, чего от нее хотят эти люди. В первые две недели ей стоило большого труда заставлять себя глотать их пищу, но голодный живот и сырому гороху рад, так что привыкла она и к этой еде, а потом, засучив рукава, взялась, по примеру других, и за мытье, и за шитье.
Так она и жила и через полгода уже кое-что понимала по-русски. Прошло еще какое-то время, и Паула понимала уже почти все и, хотя и с трудом, сама время от времени раскрывала рот. Она не позволяла себе ни малейшего непослушания: у нее для этого вполне хватало ума, и она вовсе не имела охоты отравлять себе жизнь.
Паула делала все, что нужно, а поскольку она вовсе не была такой неловкой, какой прикидывалась дома, то постепенно стала членом семьи.
Глава V
Через два года после того, как Паула появилась в этой семье, ей предложили учиться читать и писать по-русски. Она с удовольствием согласилась и с тех пор три раза в неделю стала ходить с соседской девочкой на уроки. Паула хорошо успевала и через двенадцать недель уже могла сносно читать по-русски. Вместе с соседской девочкой она стала учиться танцам, и вскоре можно было видеть, как она вечером танцует польки и мазурки в местном танцевальном зале за несколько грошей за вечер. Половину денег, которые она зарабатывала, она отдавала матушке К.; другую половину клала себе в карман, потому что уже давно подумывала о том, как бы ей выбраться из этой страны.
Война между тем подошла к концу, но ей так и не удалось хоть что-нибудь узнать о своих родителях.
Глава VI
Пауле исполнилось уже шестнадцать лет, но она не многому научилась и понимала, что по западным понятиям будет казаться довольно глупой. Поэтому она усердно занималась танцами и скопила достаточно денег, чтобы заплатить за билет от Минска (в окрестностях которого она находилась) до Варшавы. «Если только я попаду в Варшаву, — думала она, — то Красный Крест, конечно, отправит меня дальше».
Сказано — сделано, и однажды утром, вроде бы собираясь в школу, она сложила все свои нехитрые пожитки в торбу, и только ее и видели.
Как она и опасалась, добраться до Минска оказалось далеко не просто. Сначала ее подвезли на телеге, но дальше ей все-таки пришлось много часов идти пешком.
Когда уже к вечеру, смертельно уставшая, Паула добралась до Минска, то сразу же пришла на вокзал и стала расспрашивать о поездах на Варшаву. К своему ужасу, она услыхала, что ближайший поезд будет только в 12 часов следующего дня. Она решила добиться встречи с начальником станции и, когда тот появился, стала его упрашивать разрешить ей переночевать на вокзале. Разрешение было получено; Паула валилась с ног от усталости и тут же уснула. Когда наступило утро и она проснулась, руки и ноги у нее были как деревянные, и сначала она никак не могла понять, где находится. Но скоро она собралась с мыслями. В животе неудержимо бурчало от голода. О подобных препятствиях на ее пути она вовсе не думала.
В станционном буфете работала приятная девушка, и после чистосердечного рассказа Паулы она охотно дала ей простую русскую булку. Паула проболтала с буфетчицей все утро и в 12 часов, приободрившаяся и полная надежд, села на поезд, шедший в Варшаву.
Глава VII
Прибыв в Варшаву и расспросив начальника станции, Паула сразу же направилась к дому, где находились сестры Красного Креста. Там пробыла она гораздо дольше, чем предполагала, потому что никто не знал, с чего же надо начать. Адресов организаций, занимавшихся розысками, они не знали. У Паулы уже не было ни гроша, и сестры не могли посадить ее на поезд, но и не дали умереть с голоду. Через некоторое время они все же решили из милости оплатить ей проезд до Берлина, потому что она убедила их, что, оказавшись в Берлине, сумеет отыскать дом своих родителей.
Паула сердечно попрощалась с сестрами и опять села на поезд. На следующей станции в ее купе сел приятный молодой человек, который вскоре вступил в разговор с этой отчаянной девушкой. Всю дорогу Паула была неразлучна с симпатичным молодым солдатом, а когда они вышли в Берлине, то договорились вскоре встретиться снова.
Паула, не теряя времени, отправилась в путь и скоро подошла к дому своих родителей. Но дом был пуст, никто там не жил. Ей ни разу не приходила в голову мысль, что родители за это время могли куда-нибудь переехать. И что теперь? Она снова пошла в Красный Крест и на ломаном немецком языке рассказала свою историю. И на этот раз ее приняли и о ней позаботились, но находиться там можно было не более двух недель.
О своих родителях ей удалось лишь узнать, что мать ее уехала из Берлина в поисках работы, а отец в последний год войны был призван в армию и после ранения лежал в одном из госпиталей.
Паула быстро нашла работу служанки и поспешила встретиться с Эрихом, этим симпатичным юношей. Он помог ей устроиться танцовщицей в кабаре, где она танцевала три раза в неделю. Так что русские танцы снова ей пригодились.
Глава VIII
Прошло немало времени, и однажды вечером в кабаре было объявлено, что через две недели состоится большое танцевальное представление специально для раненых солдат из разных госпиталей, которые уже поправлялись и могли вернуться домой.
В этом большом представлении Пауле отводилась немалая роль. Ей приходилось много репетировать, и когда она поздно вечером возвращалась домой, то чувствовала себя настолько уставшей, что утром в 7 часов с трудом могла встать с постели. В эти дни Эрих стал ее единственным утешением. Их дружба становилась все крепче, и Паула уже не знала, что бы она без него делала. Когда наступил долгожданный вечер, Паула впервые в жизни испытала волнение перед выходом на сцену. Ей было страшно танцевать перед одними мужчинами. Но не оставалось ничего другого, как попытать счастья, а кроме того, ей хотелось заработать побольше денег.
Вечер прошел на славу, и после выступления Паула вышла в зал, чтобы поскорее увидеться с Эрихом. И вдруг она застыла как вкопанная: совсем близко стоял ее отец, разговаривавший с каким-то солдатом. С радостным криком бросилась она к нему на шею.
Уже пожилой человек замер в изумлении: он не узнал своей дочери — ни на сцене, ни здесь. Пауле пришлось самой сказать ему, кто она!
Глава IX
Неделю спустя Паула, под руку с отцом, уже стояла на перроне вокзала во Франкфурте-на-Майне. Их встретила мать, глубоко растроганная, — ведь за эти годы она почти оставила надежду на возвращение своей маленькой дочери.
А отец, после того как Паула и матери рассказала всю свою историю, в шутку спросил ее, не хочется ли ей снова забраться в какой-нибудь первый попавшийся самолет, чтобы слетать в Россию!
Следует иметь в виду, что эта история произошла во время войны 1914–1918 гг., когда в русском походе немцы одержали победу.
Кинозвезда
(Написано из-за вечных вопросов мефроу ван Пелс — почему я не хотела бы стать кинозвездой?)
22 декабря 1943 г. Среда.
Мне было семнадцать лет — красивая молодая девушка с лесом вьющихся черных волос и озорными глазами, и у меня было, ах! столько идеалов и столько иллюзий! Так или иначе, каждый должен будет узнать мое имя, и меня можно будет найти в альбомах множества восторженных вертихвосток.
Как именно стану я знаменитостью и в чем это должно проявиться, меня не очень заботило. Когда мне было четырнадцать, я думала: как-нибудь позже; и когда мне было семнадцать, я все еще так думала. Родители едва ли подозревали о моих планах, и у меня хватало ума держать их при себе: мне казалось, что, если мне выпадет шанс стать знаменитой, моих родителей это не слишком заинтересует и будет лучше, если я сначала сама все устрою.
Пусть никто не думает, что я питала эти иллюзии слишком всерьез, но пусть никто и не считает, что я думала лишь о собственной славе. Напротив, я всегда очень старательно работала и копалась в многочисленных книгах, но только ради собственного удовольствия.
В пятнадцать лет я сдала выпускные экзамены за трехгодичную среднюю школу и теперь с утра сидела в школе, где преподавали иностранные языки, а после обеда занималась работой по дому и играла в теннис.
Однажды (дело было осенью) я сидела дома и разбирала шкаф, где хранилось всякое барахло, как вдруг среди разных картонок и баночек мне попалась коробка из-под обуви, на которой красовалась надпись крупными буквами: «Кинозвезды». Я тотчас же вспомнила, что эту коробку, как мне уже говорили родители, давным-давно следовало выбросить, и я, конечно, затолкала ее подальше, чтобы ее не могли найти.
С любопытством я сняла крышку и стала освобождать лежавшие там пачки от перетягивавших их резинок. Я принялась разглядывать эти подкрашенные лица и уже не могла остановиться. Я даже вздрогнула, когда два часа спустя меня, сидевшую на полу в окружении бумаг и коробок, тронули за плечо. Их скопилось до того много, что я не сразу смогла встать, чтобы идти пить чай.
Потом, приведя все в порядок, я отложила в сторону коробку с кинозвездами, а вечером продолжила свои изыскания и нашла то, что меня уже давно занимало: конверт с целой пачкой больших и маленьких фотографий, посвященных семье Лейн, о которой я прочла, что три дочери из этой семьи стали кинозвездами. Я обнаружила адреса этих девушек и вот… взяла перо и бумагу и стала сочинять по-английски письмо самой младшей из них, Присцилле Лейн.
Никому не сказав ни слова, я отправила письмо, в котором писала, что мне очень понравились фотографии Присциллы и ее сестер. Я просила Присциллу ответить мне, потому что меня очень интересует она сама и вся их семья.
Прошло больше двух месяцев, и, не желая себе в этом признаться, я уже потеряла всякую надежду когда-либо получить ответ на свое письмо. Здесь не было ничего удивительного, ибо если бы сестры Лейн пространно отвечали всем своим почитателям и почитательницам и высылали им свои фотографии, то, пожалуй, через некоторое время они только тем бы и занимались, что писали письма.
Но… как раз тогда, когда я ничего уже не ждала, отец вручил мне однажды утром конверт, адресованный Анне Франклин. Я тут же вскрыла его. Мои домашние любопытствовали, что бы это могло быть, и, рассказав им про свое письмо, я прочитала ответ.
Присцилла писала, что не может выслать мне свою фотографию, пока не узнает обо мне побольше, и что она мне ответит, если я подробнее напишу ей о себе и о своей семье. Я искренне ответила Присцилле, что меня интересует не столько ее кинематографическое дарование, сколько она сама. Я хотела бы знать, часто ли она бывает где-нибудь по вечерам, снимается ли Розмари так же много, как и она, и т. д. и т. п. Через некоторое время она позволила мне называть ее просто Пэт. Присциллу, по-видимому, настолько заинтересовала моя манера писать — как она сама мне сказала, — что она отвечала мне подробно и с удовольствием.
Поскольку переписка, которая за этим последовала, велась по-английски, моим родителям трудно было бы иметь что-нибудь против, ибо она служила для меня неплохим упражнением. Присцилла рассказывала в своих письмах, что почти все дни проводит в киностудии, писала о том, как она распределяет свое время. В моих английских письмах она поправляла ошибки и посылала их мне, а я должна была отсылать их обратно. Кроме того, она прислала мне целую серию своих фотографий.
Присцилла не была замужем и даже не была обручена, хотя ей, конечно, было уже двадцать лет, что нисколько меня не смущало, и я невероятно гордилась своей подругой-кинозвездой.
И вот миновала зима, и, когда весна была уже в полном разгаре, от Присциллы пришло письмо, в котором она спрашивала, не хотела бы я летом прилететь к ним и провести с ними два месяца. Я чуть не до потолка подпрыгнула от радости, но не учла множества опасений моих родителей. Мне не следовало одной лететь в Америку, я не должна принимать ее приглашение, у меня недостаточно платьев, я не могу так долго отсутствовать — и все прочие опасения, которые озабоченные родители питают относительно своих отпрысков. Но я уже вбила себе в голову, что отправлюсь в Америку, и теперь во что бы то ни стало хотела это сделать.
Я написала Присцилле обо всех этих опасениях, и она все их отмела. Прежде всего, мне не нужно было лететь одной, потому что ее подруга должна лететь на четыре недели в Гаагу к своей семье, а потом она полетит обратно вместе со мной. Для возвращения можно будет также найти какую-нибудь попутчицу.
И конечно, я много чего повидаю в Калифорнии. Однако у моих родителей все еще оставались опасения: они не знали, что это за семья, и может случиться, что я буду чувствовать себя там неловко…
Меня это взбесило: получалось так, что они лишали меня этого неожиданного везения. Однако Присцилла проявила столько внимания и заботы, что родительскому брюзжанию был положен конец, и после проникновенного письма самой г-жи Лейн дело уладилось.
У меня была куча дел весь май и июнь, и, когда Присцилла написала, что ее подруга прибывает в Амстердам восемнадцатого июля, приготовления к этому большому путешествию стали вполне серьезными.
Восемнадцатого июля мы с папой отправились на вокзал, чтобы встретить эту американскую барышню. Присцилла прислала мне ее фотографию, и я довольно быстро узнала ее среди множества пассажиров. Мисс Келвуд была небольшого роста, белокурая, она говорила много и быстро, выглядела симпатично и мило.
Папа, который уже раньше бывал в Америке и очень хорошо говорил по-английски, беседовал с мисс Келвуд, да и я время от времени вставляла словцо-другое.
Мы решили, что она поживет неделю у нас, а потом, уже вместе со мною, отправится дальше. Неделя быстро пролетела; и дня не прошло, а мы с этой маленькой мисс уже стали подругами. Двадцать пятого июля я была настолько взволнована, что за завтраком не могла проглотить ни кусочка. Мисс Келвуд же нисколько не волновалась, но это и не удивительно: ведь она уже однажды совершила такое же путешествие.
Вся семья проводила нас в Схипхол, и наконец мое путешествие в Америку началось.
Все наши перелеты заняли почти пять дней, и к вечеру пятого дня мы уже приближались к Голливуду. Присцилла и ее сестра Розмари встретили нас, и так как я была утомлена путешествием, то мы сразу же поехали на машине в отель неподалеку от аэропорта. На следующее утро мы прекрасно позавтракали и снова сели в машину, которую вела Розмари.
Часа через три мы подъехали к дому Лейнов, где нас ожидал сердечный прием. Г-жа Лейн сразу же показала мне чудесную комнату с балконом, которая должна была принадлежать мне в течение ближайших двух месяцев.
Каждый мог чувствовать себя легко и свободно в этом гостеприимном доме, где царило приятное оживление, где на каждом шагу натыкаешься на многочисленных кошек, где три знаменитых кинозвезды гораздо больше помогали своей матери, чем я, простая девчонка, у себя дома, и где было столько невероятно интересного. С английским дело пошло очень быстро, ведь он не был для меня чем-то совершенно новым.
Присцилла первые две недели моих американских каникул не была занята, и мы с ней многое посмотрели в окрестностях. Почти каждый день мы ходили на взморье, где я постепенно знакомилась с людьми, о которых раньше много слышала. Самой близкой подругой Присциллы была Мэдж Беллами, которая часто сопровождала нас в поездках.
Никто из знавших Присциллу не мог бы предположить, что она настолько старше меня. Мы общались друг с другом как настоящие подруги. По прошествии этих двух недель Присцилла должна была снова вернуться на студию «Уорнер бразерс», и — о чудо! — я могла поехать с ней вместе. Я пошла с нею в ее уборную и оставалась там, когда фотограф делал пробные снимки Присциллы.
В этот первый день она быстро освободилась и взяла меня с собой, чтобы показать мне всю студию.
— Знаешь, Анна, — сказала она мне как-то, — у меня возникла грандиозная идея. Завтра утром ты пойдешь в одно из бюро, куда приходят красивые девушки, которые хотят сниматься в кино, и спросишь, не сможешь ли ты понадобиться. В шутку, конечно!
— О, с удовольствием! — ответила я и вправду пошла наутро в одно из бюро. Там было страшно много народу, и девушки стояли в очереди перед дверью. Я присоединилась к ним, и через полчаса меня впустили. Но и оказавшись внутри, я еще долго дожидалась своей очереди. Передо мною было больше двадцати девушек, и мне пришлось прождать часа два, пока очередь не дошла до меня.
Прозвенел звонок, и я смело вошла в бюро. За письменным столом сидел человек средних лет. Он коротко поздоровался, спросил, как меня зовут и где я живу, и был немало удивлен, услыхав, что я остановилась у Лейнов. Покончив с вопросами, он еще раз внимательно посмотрел на меня и спросил:
— Вы действительно хотите стать киноактрисой?
— Если я гожусь для этого, очень хочу, сударь! — ответила я.
Тогда он нажал на кнопку звонка, и в комнату сразу же вошла элегантно одетая девушка и предложила мне следовать за ней. Она открыла дверь, и на мгновение я ослепла: помещение было залито ярким и резким светом.
Молодой человек за каким-то сложным устройством приветствовал меня гораздо любезней, чем господин, сидевший в бюро, и указал на высокий табурет, куда я должна была сесть. Он сделал несколько снимков, позвонил, вошла другая девушка и отвела меня к той, первой. Та пообещала мне прислать сообщение, можно ли будет прийти снова. Радостная, пошла я обратно к дому Лейнов.
Прошла неделя, и я получила сообщение от господина Хериджа (Присцилла назвала мне его имя). Он писал, что снимки удались на славу и что на следующий день в три часа я должна быть у него. На этот раз у меня было преимущество, потому что на меня был сделан заказ. Господин Херидж спросил, не хотела бы я позировать для фабриканта, выпускающего теннисные ракетки. Это продлится одну неделю. После того как я услыхала о гонораре, я сразу же согласилась.
Этому человеку позвонили, и во второй половине дня я с ним встретилась.
На следующий день я пришла в фотоателье, куда мне предстояло ходить ежедневно всю неделю. Я должна была мигом переодеваться, то сидеть, то стоять, непременно улыбаться, прохаживаться туда-сюда и снова переодеваться, привлекательно выглядеть и нагримировываться. К вечеру я устала до смерти и еле-еле доплелась до постели.
Через три дня я уже почти не могла улыбнуться, но надо мной все еще висел договор с фабрикантом.
Когда на четвертый день, вечером, я вернулась в дом Лейнов, я была такой бледной, что госпожа Лейн запретила мне снова идти позировать. Она сама позвонила туда и расторгла соглашение.
Я была благодарна ей от всей души.
Я снова без помех наслаждалась своими незабываемыми каникулами и навсегда излечилась от иллюзий насчет славы киноактрисы, потому что теперь гораздо ближе узнала жизнь знаменитостей.
Катринтье
11 февраля 1944 г. Пятница.
Катринтье сидела на большом камне, который лежал на солнце перед крестьянским двором. Она думала, о чем-то напряженно думала. Катринтье была одной из тех тихих девочек, которые стали <…>[14] со временем, потому что им всегда приходилось думать.
О чем думала эта девочка в крестьянском фартуке, знала только она сама. Никогда она не делилась своими мыслями с кем-нибудь — для этого была она слишком молчалива и замкнута.
Подружек у нее не было, и, вероятно, так легко она и не могла бы их завести. Мать считала ее странной, да она и сама, увы, это чувствовала. Отец, крестьянин, слишком много работал и не очень-то занимался собственной дочерью. Так что Тринтье была предоставлена самой себе. Ей вовсе не мешало ее всегдашнее одиночество: ничего другого она не знала и, пожалуй, была этим довольна.
Но в это теплое летнее утро она все же не смогла удержаться от глубокого вздоха, когда оглянулась и взгляд ее упал на соседнее поле. Как хотелось бы ей поиграть с теми девочками! Вон как они бегают и смеются. До чего же им весело!
Девочки стали приближаться. Уж не подойдут ли они к ней? Но что это? Ведь они насмехаются над ней, теперь ясно слышно, что они называют ее имя, ее прозвище, которое она ужасно ненавидела и которое, как она то и дело слышала, кричали ей вслед, — Тряньте-лентяйтье. О, какой убогой чувствовала она себя! Если бы только она могла скрыться в доме — но тогда они еще больше будут над ней смеяться.
Бедная девочка, ты еще не раз в своей жизни почувствуешь себя такой заброшенной и позавидуешь другим девочкам.
— Тринтье! Трин! Иди домой, мы садимся за стол!
Еще раз глубоко вздохнув, девочка медленно встала и послушно побрела к дому.
— Ну надо же, какое веселое личико у нашей дочери, ну до чего же у нас милая девочка! — воскликнула крестьянка, когда Катринтье еще медленнее и печальнее, чем всегда, вошла в комнату. — Можешь хоть слово сказать? — спросила женщина. Слова ее прозвучали неприветливей, чем ей хотелось, но и ее дочурка никак не отвечала ее желанию видеть веселую, жизнерадостную девочку.
— Да, мама, — прозвучало еле слышно.
— Прекрасно! Ты опять целое утро не была дома и ничего не делала. Где ты пропадала?
— На дворе.
Тринтье снова почувствовала комок в горле, но мать, которая неверно поняла замешательство девочки и действительно мучилась любопытством, где ее дочь пропадала все это утро, спросила снова:
— Скажи-ка яснее, я хочу наконец знать, где ты была! Можешь ты это понять? Вечно баклуши бьешь, я этого не вынесу!
При этих словах, напомнивших ее ненавистное прозвище, Катринтье не могла больше сдерживаться и разразилась бурными слезами.
— Ну что это, ну какая же ты трусиха. Могла бы сказать, где была, что за секреты?
Бедное дитя было не в состоянии отвечать, рыдания не давали девочке сказать ни слова. Она вскочила, опрокинула стул и с плачем выбежала из комнаты. Катринтье бросилась на чердак, рухнула в уголке на какие-то тряпки и тихо всхлипывала.
Пожав плечами, мать убрала со стола. Ее не слишком удивило поведение дочки: такое безрассудство случалось с нею нередко. Нужно было оставить ее в покое — так от нее ничего не добьешься, чуть что, она сразу же в слезы. И это двенадцатилетняя крестьянская дочка?
На чердаке Тринтье постепенно успокоилась и снова задумалась. Ей нужно бы сейчас же спуститься вниз и сказать матери, что она всего-навсего сидела на камне, и пообещать сделать всю сегодняшнюю работу. Тогда мать увидит, что она вовсе не отлынивает от работы, а если опять спросит, почему же она все утро просидела без дела, Тринтье бы ответила, что просто слишком сильно задумалась. А если вечером ей нужно будет разносить яйца, она бы купила в деревне для матери новый наперсток, такой чудный, серебряный, который бы так блестел! — были бы у нее только деньги. И мать тогда поняла бы, что она вовсе не лентяйка. Ее мысли на мгновенье прервались: но вот как бы ей избавиться от этого противного прозвища? Постой-ка, кажется, придумала: на деньги, которые у нее, может быть, останутся от наперстка, она купит целый кулек красненьких леденцов и завтра, по дороге в школу, будет раздавать их всем девочкам. И те подумают, что она очень милая, и спросят ее, не хочет ли она играть с ними, и тогда сразу же увидят, что она прекрасно это умеет, и никто никогда больше не станет звать ее иначе, чем Катринтье.
Чуть помедлив, она поднялась на ноги и потихоньку стала спускаться по лестнице. Но когда она увидела мать в коридоре и та спросила: «Ну что, оставила свои капризы?» — у Катринтье сразу же пропала решимость рассказать о том, где она пропадала, и девочка поспешила прочь, чтобы еще до вечера успеть помыть окна.
Когда солнце уже скрывалось за горизонтом, Тринтье взяла корзинку яиц и решительно пустилась в дорогу. Через полчаса она подошла к первому дому, у двери которого уже стояла хозяйка с фаянсовой миской.
— Я возьму у тебя десяток яиц, девочка, — сказала она приветливо.
Трин отсчитала ей яйца и, попрощавшись, пошла дальше. Еще через три четверти часа корзинка была пуста, и Трин зашла в магазин, о котором знала, что там можно купить все, что захочешь. Чудесный наперсток и кулек с леденцами заняли место в ее корзинке, и она пустилась в обратный путь. На полпути к дому она увидела издали двух девочек — из тех, что смеялись над ней сегодня утром. Она смело преодолела искушение спрятаться и с бьющимся сердцем продолжала идти им навстречу.
— А, вот и наша Тряйньте-лентяйтье, дурочка Тряйньте-лентяйтье!
У Тринтье душа ушла в пятки. Не зная, что предпринять, она выхватила из корзинки кулек и протянула его девочкам. Быстрым движением одна из них схватила кулек и побежала прочь. Другая бросилась за ней и успела еще показать язык, пока не скрылась за поворотом.
Вне себя от горя, беспомощности и одиночества, бросилась Тринтье в траву у дороги и рыдала, рыдала, пока не осталась совсем без сил. Уже наступили сумерки, когда она подняла валявшуюся рядом корзинку и поплелась домой. А рядом в траве поблескивал серебряный наперсток…
Воскресенье
Воскресенье, 20 февраля 1944 г.
То, что у других людей происходит в течение недели, у нас в Убежище делается в воскресенье. Если другие надевают свое лучшее платье и отправляются на прогулку, мы здесь чистим, подметаем и беремся за стирку.
Восемь часов:
Не обращая внимания на других сонь, Пф. встает в восемь утра. Идет в ванную, спускается вниз, потом снова наверх, после чего следует генеральная уборка ванной, которая продолжается целый час.
Полдесятого:
Растапливают печи. Открывают затемнение, и ван П-сы отправляются в ванную. Поистине испытание для меня — утром по воскресеньям смотреть из своей постели в спину Пф-ру, пока он молится. У всякого глаза полезут на лоб, если я скажу, что на Пф-ра прямо-таки страшно смотреть, когда он молится. Не то чтобы он плакал или, скажем, расчувствовался, о нет! Но у него манера целые четверть часа — заметьте! — четверть часа раскачиваться с пяток на носки. Туда-сюда, туда-сюда, это длится бесконечно, и, если я не закрываю глаза, у меня прямо голова начинает кружиться.
Четверть одиннадцатого:
Ван П-сы свистнули, что ванная свободна. У нас поднимаются с подушек первые сонные физиономии. Но потом все идет быстро, быстро, быстро. По очереди Марго и я беремся за стирку. Так как внизу довольно холодно, хорошо надеть длинные штаны и повязать платком голову. Между тем папа занимает ванную; в одиннадцать — в ванной Марго (или я), и потом все снова чисто.
Полдвенадцатого:
Завтрак. На этот счет я не буду распространяться, потому что о еде и помимо меня было уже достаточно сказано.
Четверть первого:
Каждый занят чем-то своим. Папа в комбинезоне стоит на коленях и чистит ковер, так рьяно, что вся комната окутана облаком пыли. Г-н Пф. застилает постели (разумеется, неправильно, фу!) и всегда насвистывает при этом все тот же самый скрипичный концерт Бетховена. Слышно, как мама шаркает ногами на чердаке, развешивая белье.
Менеер ван Пелс надевает шляпу и исчезает в нижних краях, обычно в сопровождении Петера и Муши. Мефроу облачается в длинный, заостряющийся книзу передник, черную шерстяную кофту и боты, обматывает голову толстым красным шерстяным шарфом, берет под руку кучу грязного белья и после хорошо отрепетированного, как у прачки, кивка идет стирать.
Марго и я моем посуду и убираем комнату.
Без четверти час:
Когда все уже высохло и только кастрюли ждут своей очереди, я спускаюсь вниз, чтобы там вытереть пыль и, если я утром мыла посуду, привести раковину в порядок.
Час:
Новости.
Четверть второго:
Кто-нибудь из нас идет мыть голову или подстричь волосы.
Потом мы все заняты тем, что чистим картошку, развешиваем белье, драим лестницу, моем ванную комнату и т. д. и т. п.
Два часа:
После военных новостей нас ждет музыкальная программа и кофе, и наступает спокойствие. Кто мне объяснит, почему это взрослые всегда хотят спать? Уже в одиннадцать часов утра можно увидеть, как кто-то зевает, и услыхать вздох: «Ох, хоть бы соснуть полчасика!»
Совсем не весело между двумя и четырьмя часами, куда бы ты ни вошел, видеть сонные физиономии. В нашей комнате — Пф-ра, в гостиной — папы и мамы, а наверху — ван П-ов, которые делят между собой спальные места среди дня. Что ж, ничего не поделаешь, может, я когда-нибудь и пойму это, когда состарюсь.
Во всяком случае, воскресный мертвый час снова сильно растягивается. До половины пятого или пяти не нужно ходить наверх, потому что до этого все еще в стране грёз.
Позже — всё как всегда, если не считать концерта с шести до семи.
И когда мы, наконец, поужинали и помыли посуду, я безмерно радуюсь, что воскресенье уже миновало.
Маленькая цветочница
Воскресенье, 20 февраля 1944 г.
В полвосьмого, каждое утро, открывается дверь домика, стоящего на краю деревни. Оттуда выходит совсем маленькая девочка, держа в каждой руке по корзине цветов.
Заперев за собою дверь, она выравнивает корзины и пускается в путь. Всякий в деревне, кто видит, как она, приветливо кивая, проходит мимо, провожает ее сочувственным взглядом и думает одно и то же: «Эта дорога слишком длинная и слишком тяжелая для двенадцатилетней девочки». Но она ведь не слышит, что думают ее односельчане, и быстро и весело, как может, идет себе дальше.
А до города и вправду путь очень длинный. Два с половиной часа быстрым шагом, да еще с двумя тяжелыми корзинами, — это не шутка.
Когда наконец девочка идет по улицам города, она уже смертельно устала, и только мысль, что скоро она сядет и отдохнет, поддерживает ее. Но она храбрая, эта малышка, и не замедляет шагов, пока не доходит до своего местечка на рыночной площади; тогда она усаживается и ждет, и ждет…
Иногда она проводит весь день в ожидании, потому что не так уж много людей хотят что-нибудь купить у бедной цветочницы. И нередко случается, что Кристе приходится тащить обратно всего лишь наполовину опустевшие корзины.
Но в этот день все по-другому. Сегодня среда, и на рынке необычное оживление. Рядом с ней торговки выкрикивают названия своих товаров, и со всех сторон девочка слышит сердитые голоса или ругань.
Люди, которые проходят мимо, Кристу почти не слышат, потому что ее тонкий голосок почти совсем теряется в гомоне рынка. Но Криста не перестает целый день выкрикивать: «Прекрасные цветы, десять центов букетик! Купите прекрасные цветы!»
И когда люди, сделав свои покупки, видят полные корзины цветов, они охотно отдают монетку, чтобы получить такой чудесный букетик.
В двенадцать часов Криста поднимается со своего места и идет на другой конец рынка к кофейному навесу, где хозяин каждый день угощает ее чашечкой горячего, сладкого кофе. Для него Криста не забывает припасти самый красивый букет.
Потом она возвращается и снова предлагает всем свой товар. В полчетвертого она наконец поднимается со своего стула, берет корзины и отправляется обратно в деревню. Куда медленнее, чем утром, идет она теперь — устала она, ужасно устала. Три часа уходит на обратный путь, и только к половине седьмого доходит она до двери маленького, старого домика.
Внутри все так, как она оставила утром: холодно, одиноко и неуютно. Ее сестра, с которой они вместе живут здесь, с раннего утра до позднего вечера работает в деревне.
Кристе некогда отдыхать, сразу же, как пришла, принимается она чистить картошку и варить овощи, и, когда в полвосьмого сестра приходит домой, девочка наконец садится за стол, чтобы немного перекусить.
В восемь часов вечера дверь домика снова распахивается, и Криста опять выходит со своими корзинами. Ее путь лежит теперь в окрестные поля и луга. Она не идет далеко, наклоняется и рвет полевые цветы, самые разные, всех расцветок, большие и маленькие — все попадает в ее корзины. Солнце уже уходит за горизонт, а девочка все еще собирает цветы.
Наконец дело сделано, корзины полны. Солнце между тем уже закатилось, и Криста ложится на спину в траву, сплетает руки под головой и широко открытыми глазами смотрит в еще светлое, голубое небо.
Эти четверть часа прекрасней всего, и пусть не думают, что эта маленькая цветочница, которая так тяжко трудится, чем-либо недовольна. Никогда не бывает и не будет она недовольной — лишь бы каждый день переживать это, снова и снова. На лугу, среди травы и цветов, видя перед собой бескрайнее небо, Криста счастлива. Нет больше усталости, нет ни рынка, ни толпящихся покупателей. Девочка мечтает и думает лишь об одном.
О том, что дарит ей каждый день, — эти четверть часа покоя, когда с ней только Бог и Природа.
Мое первое интервью
Вторник, 22 февраля 1944 г.
Представим себе, что объект моего первого интервью знает, что будет использован в качестве материала! Он зальется краской и спросит: «Да о чем же меня интервьюировать?»
Должна признаться: этот мой объект — Петер, и я расскажу также о том, как я вдруг на него напала!
Я решила взять у кого-нибудь интервью, и, поскольку в доме уже обсуждали всех вдоль и поперек, я подумала вдруг о Петере. Он всегда оставался в тени и, так же как и Марго, почти никогда не давал повода к неудовольствию или ссоре.
Если к вечеру постучать в дверь его комнаты и услышать тихое: «Да-да», можно быть уверенным, что, как только дверь откроется, он, просунув голову между двумя ступеньками чердачной лестницы, воззрится на тебя и, приглашая, вымолвит: «Ну?»
Его комнатушка представляет собой, собственно говоря, своего рода проход на чердак. Это совсем крохотная, темная и сырая, но… при всем при том настоящая комната. Когда он сидит слева от чердачной лестницы, между ним и стеной места остается никак не более метра. Там стоит маленький столик, чаще всего, как и у нас, заваленный книгами (ступеньки лестницы также используются как полки), рядом стоит стул, а на противоположной стороне от лестницы висит подвешенный к потолку его велосипед. Это в настоящий момент бесполезное средство передвижения закутано в оберточную бумагу, а на одной из педалей весело болтается удлинительный шнур. Завершая этот рабочий уголок, над головой интервьюируемого висит лампочка с очень модным козырьком из обклеенного бумагой картона.
Я все еще стою перед дверью и смотрю теперь в противоположную сторону. У стены, как раз напротив Петера, позади стола, стоит диван в голубых цветочках, постельные принадлежности спрятаны за спинкой. Над диваном висит такая же лампочка, в полуметре от первой, около ручного зеркальца, а чуть подальше и повыше — книжный шкафчик, небрежно, как всегда у подростков, снизу доверху заполненный книгами, обернутыми бумагой. Чтобы несколько улучшить общее впечатление (или из-за того, что владелец не смог найти другого укрытия), там стоит также ящик для инструментов, в котором непременно обнаружишь все, что тебе может понадобиться. Однажды — довольно давно — я выудила из недр этого ящика запропастившийся куда-то свой любимый ножичек, и это вовсе не единственная вещь, которая случайно там очутилась.
Рядом с книжным шкафчиком прикреплена доска, обтянутая бумагой, выгоревшей от времени. Эта доска, собственно, была предназначена для того, чтобы ставить на нее бутылки из-под молока и всякие кухонные предметы, но, поскольку книжные сокровища юного владельца так обильно разрослись, все свободное пространство было захвачено этими назидательными вещами, а молочные бутылки нашли себе пристанище на полу.
На третьей стене висит опять-таки шкафчик (вообще-то ящик из-под вишен), где также можно найти великолепную коллекцию: среди прочего — бритвенный помазок, станок для бритв, пластырь, слабительное и т. д.
Рядом с этим шкафчиком стоит вершина изобретательской мысли ван Пелсенов, а именно — шкаф, изготовленный из картона, всего с двумя-тремя опорными стойками из более прочного материала. Этот шкаф, заполненный мужскими костюмами, пальто, носками, ботинками и прочим, занавешен действительно прекрасной гардиной, которую Петер неделями клянчил у своей матери. На шкафу столько всего понаставлено, что я так никогда и не узнала, что же это такое.
То, что лежит на полу ван Пелса-младшего, заслуживает особого внимания. Мало того что он в своей комнатенке положил на пол настоящие персидские ковры, два больших и один маленький, — у этих ковров такая поразительная расцветка, что бросается в глаза каждому, кто переступает порог его комнаты. Так что пол, настолько шаткий и неровный, что входить в комнату следует с осторожностью, украшен поистине дорогими вещами.
Две стены обиты зеленой циновкой, а две другие — обильно оклеены красивыми и не очень красивыми кинозвездами и рекламными плакатами. Жирным пятнам и копоти не следует уделять слишком много внимания, потому что при таком количестве всякой всячины после полутора лет без грязи не обойдешься.
В потолке, тоже не слишком привлекательном, видны старые балки, а поскольку через крышу и потолок в комнату Петера проникает дождь, несколько листов твердого картона используются для защиты. О том, что средство это не слишком надежное, со всей ясностью говорят многочисленные потеки и разводы.
Ну вот, пожалуй, я и обошла всю его комнату и забыла только про стулья; один из них — коричневый, с дырочками, другой — старый белый кухонный стул, который Петер в прошлом году захотел покрасить, но, когда стал сдирать старую краску, понял, что из этого ничего не выйдет. Так что стул, наполовину ободранный, с одной перекладиной (остальные мы используем в качестве кочерёг) и скорее черный, чем белый, выглядит не слишком красиво. Но, как уже было сказано, комната темная, и стул поэтому не слишком заметен. Дверь на кухню завешана кухонными передниками, а чуть подальше — крючки, на которых висят тряпки для пыли и щетки.
После такого описания каждый безошибочно обнаружит в комнате Петера все, что там есть, — за исключением главной персоны, самого Петера. Так что я хочу разделаться с этой темой и предоставить место обладателю всего вышеперечисленного славного скарба.
У Петера между повседневной и воскресной одеждой наблюдается большое различие. Всю неделю он носит комбинезон и, можно сказать, с ним неразлучен, ибо яростно сопротивляется тому, чтобы эту несчастную вещь чаще стирали. Я не могу здесь представить никакой другой причины, кроме опасения, что любимая одежда тогда слишком истреплется и ее неизбежно придется выбросить. Тем не менее комбинезон совсем недавно выстирали, и теперь снова можно видеть, что цвет его — синий. Горло Петера облегает голубой шарф, с которым его владелец так же неразлучен, как с комбинезоном. На талии — толстый коричневый кожаный пояс. Ну и белые шерстяные носки… по ним каждый, придя сюда в понедельник, во вторник или в любой другой рабочий день недели, сразу же узнает Петера. Но по воскресеньям его одежда рождается заново. Красивый костюм, красивые туфли, рубашка, галстук — впрочем, можно не перечислять, потому что всем известно, как нужно прилично выглядеть.
Это что касается внешности. О самом Петере я в последнее время совершенно переменила мнение. Раньше я считала его глупым и скучным, но теперь — ни тем, ни другим; и всякий со мной согласится, что он стал очень милым.
Я абсолютно убеждена в том, что он справедливый и щедрый. Скромным и услужливым он всегда был, и у меня такое чувство, что он гораздо чувствительнее, чем можно подумать или предположить. У него есть одно пристрастие, которое я никак не могу упустить, — это кошки. Ничего не пожалеет он для Муши или для Моффи, и я думаю, они возмещают Петеру ту любовь, которой ему не хватает. Бояться ему тоже не свойственно, скорее наоборот. К тому же он далеко не такой бахвал, как другие ребята его возраста. Глупым его уж никак не назовешь, и я знаю, что у него прекрасная память.
Красивый ли он внешне, никому говорить не нужно: кто его знает, и сам это увидит. Волосы у него роскошные — густая каштановая чаща — и серо-голубые глаза. И потом… да, описывать лица всегда было моей слабой стороной, так что после войны я наклею его фотографию рядом с фотографиями других затворников, и тогда описывать его пером мне не понадобится.
Пучина гибели
22 февраля 1944 г. Вторник.
Не пугайтесь, я вовсе не собираюсь нагромождать примеры, раскрывающие вышеприведенное заглавие, и причина, почему я его выбрала, заключена лишь в том, что вчера я вычитала эту фразу в одном журнале.
Вы, конечно, спросите, в связи с чем, — и я тотчас вам отвечу. Заглавие «Пучина гибели» имело отношение к фильму, где был ряд кадров с обнаженными людьми, и критики, судя по всему, сочли это не слишком пристойным. Я ни в коем случае не хочу утверждать, что для этого не было никаких оснований, но в принципе мое мнение таково, что здесь, в Голландии, люди осуждают все то, что, по их мнению, недостаточно прикрыто.
То, что здесь господствует, называют церемонностью, и, с одной стороны, может, это и хорошо, но, с другой стороны, если детям внушать, что все, хоть как-то связанное с обнаженностью, неприлично, то со временем безусловно дойдет до того, что молодежь задаст себе вопрос: «Да что они все, спятили?»
И я не могу с этим не согласиться. Добропорядочность и чопорность могут зайти чересчур далеко, в Нидерландах именно это и происходит. Подумайте сами, разве это не парадоксально: стоит кому-нибудь произнести «обнаженный», как на него тут же оглядываются, словно он самый недостойный человек на свете.
Не следует думать, что я впадаю в крайность и хочу, чтобы вернулись времена первобытных народов и мы ходили бы, прикрывая себя только звериными шкурами. Вовсе нет. Но веди мы себя чуть-чуть свободней, чуть-чуть естественней — и тогда все стало бы более непринужденным.
А теперь я задам вам вопрос: «Разве вы прикрываете цветы сразу же, как только сорвете, и никогда не говорите о том, как именно они выглядят?»
Я думаю, что различия между природой и нами не так уж и велики, и поскольку мы, люди, являемся частью природы, почему мы должны стыдиться того, во что нас одела природа?
Ангел-хранитель
22 февраля 1944 г. Вторник.
Много-много лет тому назад на краю большого леса жили-были старушка и ее внучка. Родители девочки умерли, когда она была еще совсем маленькой, и теперь о ней заботилась бабушка.
Домик их стоял один-одинешенек, но это их совсем не печалило, они были довольны и счастливы.
Однажды утром старушка не смогла подняться с постели, так у нее все болело. Внучке было уже четырнадцать лет, и она, как могла, ухаживала за бабушкой.
Прошло пять дней, и бабушка умерла. Теперь девочка осталась совсем одна в опустевшем доме. Она никого не знала поблизости, да и не хотела звать кого-либо на помощь. Она сама вырыла глубокую могилу у подножия старого дерева в лесу и схоронила там свою бабушку.
Когда бедная девочка вернулась домой, ей стало так одиноко и грустно, что она бросилась на кровать и горько заплакала. Она пролежала весь день и только вечером встала, чтобы приготовить себе что-нибудь поесть.
Так и шло день за днем. У бедной девочки ни к чему душа не лежала, она только тихо грустила о своей милой бабушке. И тогда случилось такое, что сразу все изменило.
Была ночь, и девочка спала, как вдруг перед ней появилась ее бабушка: вся в белом, седые волосы спускались до плеч, и в руке она держала фонарик. Девочка смотрела на нее со своей постели и ждала, пока бабушка заговорит с нею.
— Моя милая девочка, — услышала она слова бабушки, — вот уже четыре недели я смотрю на тебя целыми днями и вижу, что ты, если не спишь, все время плачешь. Это нехорошо, и я пришла сказать, что тебе надо опять сесть за работу — прясть, привести дом в порядок. И ты должна быть снова красиво одета!
Не думай, что раз я умерла, то больше о тебе не забочусь. Я на небесах и все время смотрю на тебя сверху. Теперь я — твой ангел-хранитель. Как и раньше, я никогда тебя не оставлю. Делай свою работу с любовью и не забывай, что с тобой всегда твоя бабушка.
После этих слов бабушка исчезла, и девочка снова уснула. Наутро, проснувшись, она сразу же вспомнила все, что сказала бабушка, и ей стало так радостно на душе! Ведь она почувствовала, что больше не одна.
Она снова взялась за работу, пряла, продавала пряжу на рынке и всегда прислушивалась к советам бабушки. Позже, много позже она снова уже не была одинока. Она вышла замуж за работящего мельника. Она была благодарна своей бабушке за то, что та никогда не покидала ее. И она знала: пусть она теперь не одна, ее ангел-хранитель все равно не покинет ее до самой смерти.
Счастье
12 марта 1944 г. Воскресенье.
Перед тем как начать саму эту историю, я должна коротко рассказать, как протекала до сих пор моя жизнь.
Матери у меня нет (я, собственно говоря, ее никогда и не знала), а у отца для меня слишком мало времени.
Моя мать умерла, когда мне было всего два года, и отец отдал меня хорошим людям, у которых я пробыла целых пять лет. В семь лет я попала в интернат, где и оставалась, пока мне не исполнилось четырнадцать. Тогда я, к счастью, должна была оттуда уйти, и отец взял меня к себе.
Сейчас мы вместе с ним живем в пансионе, и я учусь в лицее. В моей жизни все шло вполне обычно, пока… да, пока не появился здесь Жак.
Я познакомилась с Жаком, когда он вместе с родителями поселился в этом же пансионе. Сначала мы несколько раз встречались на лестнице, потом как-то случайно в парке, а после этого часто вместе ходили в лес.
Мне он показался славным молодым человеком, пожалуй, только несколько тихим и застенчивым, но думаю, что как раз это меня в нем и привлекало. Мы все чаще гуляли с ним, а теперь он уже и сам приходит в мою комнату, а я захожу к нему. До Жака ни с одним из мальчиков я не была близко знакома и очень удивилась, когда заметила, что он вовсе не хвастун и не бахвал, какими казались мне все другие мальчики из нашего класса.
Я стала думать о Жаке после того, как много и долго размышляла о самой себе. Я знала, что его родители вечно ссорятся между собой, и видела, какие это причиняет ему неприятности, потому что главные черты его характера — любовь к покою и миру.
Я часто остаюсь одна и чувствую себя тоскливо и одиноко — ведь мне так не хватает матери и у меня никогда не было настоящей подруги, которой можно обо всем рассказать. У Жака — то же самое; у него тоже никогда не было близких друзей, и, как мне кажется, он тоже нуждался в ком-нибудь, кому мог бы довериться. Но мне не удавалось с ним сблизиться, и мы все время говорили с ним о всякой ерунде.
Но вот однажды он под каким-то предлогом зашел ко мне, когда я сидела на полу, подложив под себя подушку, и смотрела на небо.
— Не помешаю? — спросил он тихо, как только вошел в комнату.
— Да нет, — ответила я, поворачиваясь к нему. — Можешь сесть рядом. Правда, ведь прекрасно вот так сидеть и мечтать?
Он встал у окна, прислонившись головою к стеклу, и ответил:
— Да, я так тоже часто мечтаю. Сказать, как я это называю? Смотреть в мировую историю.
В изумлении я глянула на него:
— Знаешь, по-моему, потрясающе сказано. Я это запомню.
— Да.
Он смотрел на меня с той редкой улыбкой, которая меня всегда немного сбивала с толку; во всяком случае, я никогда не могла понять, что, собственно, у него на уме.
Потом мы опять поговорили о всяких пустяках, и через полчаса он ушел.
В другой раз, когда Жак зашел ко мне, я снова сидела на том же месте, и он опять встал у окна. Погода в тот день стояла на редкость прекрасная, небо было синее-синее (наши окна находились на такой высоте, что других домов мы не видели, во всяком случае, мне внизу ничего не было видно); на голых ветвях каштанов, которые росли перед нашим домом, висели капли росы, и, когда ветки раскачивались, они всякий раз ловили луч солнца; чайки, другие птицы стремительно пролетали мимо нашего окна, и отовсюду доносились их крики и щебетанье.
Сама не знаю почему, но, во всяком случае, мы оба не могли вымолвить ни слова. Мы были вместе в одной комнате, и к тому же довольно близко друг от друга, но при этом каждый из нас почти не ощущал присутствия другого. Мы смотрели и смотрели на небо и говорили сами с собой. Я говорю «мы», потому что уверена: он чувствовал то же самое, что и я, и так же, как и я, не мог прервать тишину.
Мы просидели так с четверть часа, пока Жак произнес первые слова. Он сказал:
— Когда видишь такое, разве не глупо снова и снова ссориться из-за каких-то мелочей? А я никогда не осознаю этого!
Он смотрел на меня чуть-чуть смущенно и, очевидно, боялся, что я его не пойму, но я была вне себя от счастья, потому что он ждал ответа и я наконец-то могла поделиться своими мыслями с тем, кто их понимает. Я ответила:
— Знаешь, что я всегда думаю? Глупо ссориться с людьми, которые тебе безразличны, — с людьми, которые тебе небезразличны, все по-другому. Их любишь, и, если они начинают ссориться или дают повод для ссоры, это скорее причиняет боль, чем злит.
— Ты тоже так думаешь? Но ведь ты сама не так уж и часто ссоришься?
— Нет, но достаточно, чтобы понимать, как все это выглядит! И самое плохое, я думаю, заключается в том, что большинство людей в мире в общем-то одиноки!
— В каком смысле?
Теперь Жак пристально смотрел на меня, но я решила все-таки продолжать, — может, я смогу ему этим помочь.
— В том смысле, что большинство людей — не важно, есть ли у них семья или нет, — внутренне одиноки. У них нет никого, с кем они могли бы поговорить о своих чувствах и мыслях, а как раз этого мне больше всего не хватает.
Жак лишь сказал в ответ:
— Мне тоже.
Мы опять уставились в небо, а потом он продолжил:
— Людям, у которых нет никого, с кем они, как ты говоришь, могли бы отвести душу, многого, очень многого не хватает. Я это понимаю, и именно это так часто меня угнетает.
— Ну, я так не думаю. Не в том смысле, что тебя никогда ничего не должно угнетать, — тут уж, как говорится, ничего не поделаешь, — но настраиваться заранее, что тебе будет грустно, вовсе не стоит! Ведь то, чего ты ищешь, когда тебе грустно, — это же именно Счастья! Пусть тебе еще многого не хватает, потому что у тебя никого нет, с кем можно поговорить, но ведь Счастье, которое в тебе самом — если ты хоть раз в жизни нашел его, — никогда не исчезнет. Я говорю не о земных вещах, а только лишь о духовных. Я уверена: если ты хоть раз нашел Счастье в себе самом, то оно долго может оставаться скрытым, но исчезнуть оно не может!
— Но как же ты нашла свое счастье?
Я встала.
— Пошли со мной! — сказала я и повела его на чердак, где был один уголок с окошечком. Наш дом был очень высокий, и, когда мы оба поднялись на чердак и приникли к окну, нам открылся большой кусок неба. — Вот смотри, — сказала я. — Если ищешь Счастье в себе самом, нужно выйти на улицу в такой день, когда солнце и голубое небо. Даже если стоять перед таким окном, смотреть поверх всего города и видеть безоблачное небо, как сейчас, то в один прекрасный день обязательно найдешь свое Счастье.
Я тебе расскажу, как это случилось со мной. Меня отдали в интернат, где мне всегда было противно, и чем старше я становилась, тем противнее. И вот как-то в свободный день я пошла совсем одна в поле. Я сидела себе и о чем-то мечтала; потом подняла глаза и увидела, что погода стоит необыкновенная, а я этого и не замечала, потому что слишком уж была занята собственными горестями.
И когда я посмотрела вокруг и поняла, что все так прекрасно, во мне вдруг смолк голос, говоривший о неприятностях. Все мои мысли и чувства были о том, как прекрасно все вокруг, и о том, что в этой красоте и заключена правда.
Так я сидела с полчаса, и когда наконец встала, чтобы вернуться в эту ненавистную школу, то совсем не чувствовала себя угнетенной, — наоборот, мне все казалось прекрасным и добрым, каким оно и было на самом деле.
Потом я поняла, что тогда впервые нашла Счастье в себе самой, потому что — в зависимости от обстоятельств — Счастье может находиться повсюду.
— И ты изменилась? — спросил он тихо.
— Настолько, что была этим вполне довольна. Конечно, бывает, я и поворчу, но такой тоски, которая тебя поедом ест, уже никогда больше не было — ведь я теперь понимала, что тоска приходила от жалости к себе самой, а Счастье наступает от радости.
Я говорила, а он смотрел в окно и, по-видимому, был погружен в свои мысли, потому что ничего не ответил. Потом он вдруг обернулся и взглянул на меня:
— Я еще не нашел своего Счастья, но зато нашел что-то другое: того, кто меня понимает!
Я прекрасно поняла, что он имел в виду, и с тех пор уже не была одинокой.
Страх
Суббота, 25 марта 1944 г.
Ужасное время я переживала тогда. Вокруг бушевала война, и никто не знал, не приблизился ли последний час его жизни.
Мои родители, братья и сестры вместе со мной жили в городе, но мы все время ждали, что нас эвакуируют или что нам придется бежать. Днем не утихала стрельба и пушечная канонада, ночью мелькали какие-то таинственные вспышки и, словно из глубины, слышались глухие раскаты.
Не могу описать всего, я уже не помню с точностью жуткую сумятицу этих дней, знаю только, что целый день я только и делала, что дрожала от страха. Мои родители всячески старались меня успокоить, но ничего не помогало: страх был и внутри, и снаружи, я ничего не ела, плохо спала и все время дрожала.
Так продолжалось целую неделю, пока не настала та ночь, которую я помню так, словно это случилось вчера.
В половине девятого, как раз когда стрельба немного утихла и я, не раздеваясь, прилегла на диван, чтобы хоть немного вздремнуть, нас вдруг до смерти перепугали два сильных удара. Словно от укола иголкой, мы все вскочили и бросились к двери.
Даже мать, всегда такая спокойная, побледнела. Удары повторялись почти с одинаковыми промежутками, и вдруг — грохот, дребезжание, крики, и я стремглав бросилась прочь. С рюкзаком на спине, полностью одетая, я бежала по улице — прочь, прочь отсюда, прочь от этой ужасной, горящей массы.
Куда ни глянь, со всех сторон бежали с криками люди, горящие дома ярко освещали улицу, и все вокруг выглядело пугающе раскаленным и красным.
Я не думала ни о родителях, ни о братьях и сестрах, а только о себе, о том, что нужно бежать прочь, прочь отсюда. Я не чувствовала усталости. Охваченная страхом, я не заметила, как потеряла рюкзак, и продолжала бежать.
Невозможно сказать, сколько времени я бежала, видя перед глазами одну и ту же картину: полыхающие дома, искаженные от ужаса лица — и страх, страх повсюду. Но вдруг мне показалось, что вокруг поутихло; я огляделась, словно очнувшись от сна, и никого и ничего не увидела. Ни пожаров, ни бомб, ни людей.
Я остановилась и внимательней посмотрела по сторонам; я очутилась среди травы, над головой мерцали звезды и сияла луна, ночь стояла ясная, было свежо, но не холодно. Не слышно ни звука; смертельно уставшая, я села на землю, расстелила одеяло, которое все еще держала в руках, и положила на него голову.
Я смотрела на небо и поняла вдруг, что больше не чувствую страха. Напротив, я совсем успокоилась. Самое невероятное заключалось в том, что я вовсе не думала о своей семье и не испытывала никакого желания увидеть ее. Мне хотелось лишь покоя, и вскоре я заснула среди травы, под открытым небом.
Когда я проснулась, солнце уже взошло. Увидев в свете дня знакомые дома городской окраины, я тотчас же поняла, где нахожусь.
Я протерла глаза и еще раз огляделась. Поблизости никого не было видно, только одуванчики и листья клевера средь травы окружали меня. Я еще немного полежала на своем одеяле, раздумывая о том, что мне следует делать, но мои мысли снова и снова возвращались к удивительному чувству, охватившему меня ночью, когда я одна сидела в траве и не испытывала никакого страха.
Потом я все же разыскала родителей, и мы все вместе перебрались в другой город. Теперь, когда война давно уже кончилась, я знаю, почему под этим необъятным небом мой страх исчез сам собою.
Оказавшись одной среди природы, я поняла, почти бессознательно, что страх ничем не может помочь, что он бесполезен и что каждому, кто ощущает такой страх, как я испытала тогда, самое лучше — посмотреть на Природу и осознать, что Бог гораздо ближе к нам, чем думает большинство людей.
С тех пор, хотя вокруг меня еще не раз падали бомбы, я никогда больше не испытывала настоящего страха.
Дай!
Воскресенье, 26 марта 1944 г.
Кто из людей, обитающих в теплых и уютных квартирах, имеет представление о жизни, которую приходится вести нищим?
Кто из всех этих «милых» и «добрых» людей когда-либо спрашивал себя, какова жизнь столь многих детей и взрослых вокруг? Ну хорошо, каждый подает иной раз грош нищему, но обычно он грубо сует монету ему в руку и захлопывает дверь. К тому же в большинстве случаев доброму жертвователю противно дотрагиваться до руки нищего! Что, разве не так? А еще удивляются, что нищие наглые! Да разве каждый не стал бы таким, если бы с ним обращались скорее как с собакой, чем как с человеком?
Плохо, очень плохо, что в такой стране, как Нидерланды, которая претендует на то, что в ней действуют хорошие социальные законы и живут безупречные граждане, люди позволяют себе так относиться друг к другу. Для большинства состоятельных граждан нищий — кто-то ничтожный, кто-то противный и неухоженный, наглый и невоспитанный. Но кто из нас хоть раз задался вопросом, как эти люди стали такими?
Сравните-ка своих собственных детей с детьми нищих! В чем разница между ними? Ваши дети хорошенькие и опрятные, их — неухоженные и безобразные. И всё? Да, именно, в этом вся разница, но ведь если нищего ребенка одеть в хорошее платье и обучить хорошим манерам, то никакой разницы вовсе бы не было!
Все люди рождаются одинаковыми, все они беспомощны и непорочны. Все люди дышат одним и тем же воздухом, многие веруют в одного и того же Бога. И все же, и все же различие для многих так неописуемо велико. Оно велико, потому что столь многие люди не пытались себе уяснить, в чем именно заключается различие между ними; сделай они это, то очень скоро поняли бы, что никакого различия здесь вовсе и нет!
Все люди рождаются одинаково, все люди умрут и ничего не сохранят от своей земной славы. Все их богатство, вся их власть и все их величие — лишь на столь немногие годы. Почему же нужно с таким упорством держаться за преходящее? Почему те, кто имеют столько всего для собственных нужд, не могут поделиться излишками с ближними? Почему эти короткие годы жизни здесь, на земле, людям должно быть так плохо?
И самое главное — ведь можно хотя бы то, что даешь, не швырять человеку в лицо! Каждый имеет право на дружеское обращение. Почему к богатой даме нужно обращаться более любезно, чем к бедной? Разве кто-нибудь докопался до различия между ними?
Не в богатстве и власти заключается величие людей, но в их доброте и характере. Все люди — всего только люди, все они ошибаются, у всех свои слабости, но и все они при рождении наделены доброжелательностью. О если бы только они стали взращивать эту черту, вместо того чтобы ее выкорчевывать, и к беднякам относиться тоже по-человечески! Ведь людям нужны не только золото или имущество, и не каждый может одарить ими.
Все начинается с малого, и здесь тоже можно начинать с малого. Уступи, например, место в трамвае не только богатой даме с ребенком, не обойди своим вниманием и бедную мать. Скажи: «Простите!» — если случайно наступишь на ногу бедной женщине, точно так же, как если бы перед тобой оказалась богатая дама.
Это требует так мало усилий, но значит так много! А маленькие побирушки, которых и без того уже обделила судьба, — почему не проявить к ним немного участия?
Каждый знает, что хорошему примеру хочется подражать; подавай же хороший пример — глядишь, и другие тебе последуют. Все больше людей станут любезнее и щедрее, и в конце концов никто уже не будет смотреть сверху вниз на бедняков.
О, если бы мы сумели пойти так далеко! Если бы Нидерланды, потом вся Европа, а там и весь мир пришли в конце концов к пониманию того, что они поступали несправедливо! Если бы пришло время, когда люди станут по-доброму относиться друг к другу и осознают, что все равны и что все преходяще на земле!
Как было бы прекрасно, возьмись все люди, не теряя ни минуты, за то, чтобы постепенно изменить мир! Как было бы прекрасно, если бы и великие, и малые внесли свою долю в то, чтобы люди повсюду поступали по справедливости!
Поразительно, но большинство людей ищут справедливости где угодно и ворчат из-за того, что так мало ее выпадает на их долю. Открой глаза, будь прежде всего сам справедлив! Сам отдай то, что надлежит дать! У тебя всегда, всегда найдется, что дать другому, пусть это будет всего лишь любезность! Если бы все одаряли друг друга любезностью и не скупились на дружеские слова, в мире было бы гораздо больше любви и справедливости!
Дай — и ты получишь взамен гораздо больше, чем когда-либо мог представить. Дай, дай снова и снова, не падай духом, стой до конца! Дай! Никто еще от этого не обеднел!
Если поступать так всегда, то через несколько поколений уже не потребуется проявлять сострадание к нищим, потому что их и вовсе не будет!
Места, богатства, денег и красоты достаточно в мире. Бог сотворил столько, что хватит для всех! Давайте же разделим все это по справедливости!
Мудрый гном
Вторник, 18 апреля 1944 г.
Жила однажды девочка-эльф по имени Дора. Она была красива, ни в чем не испытывала недостатка, и родители ее страшно баловали. Кто бы на нее ни смотрел, всегда видел ее смеющейся; она смеялась с раннего утра до позднего вечера, всегда всему радовалась и не знала никаких огорчений.
В том же самом лесу, что и Дора, жил маленький гном по имени Пелдрон. И во всем он казался полной противоположностью Доре. Если она всегда радовалась прекрасному, то он горевал из-за бедности, которая существовала в мире, а в особенности в мире гномов и эльфов.
И вот как-то мать послала Дору к сапожнику, который жил в их деревне, и случаю было угодно, чтобы ей встретился этот скучный и вечно унылый гном.
Дора вообще-то была славная девочка, но из-за того, что все считали ее неотразимой, она о себе слишком много воображала. Шаловливая, как всегда, она подбежала к Пелдрону, сорвала с него красивый колпачок и остановилась поодаль, громко смеясь. Пелдрон не на шутку рассердился на эту отвратительную девчонку, он топнул ногой и закричал:
— Отдай мою шапочку, мерзкое создание, отдай сейчас же!
Но Дора и не подумала отдать ему шапочку, она отбежала подальше и спрятала ее в дупло дерева; после этого она снова поспешила своей дорогой к сапожнику.
После долгих поисков Пелдрон наконец-то нашел свой колпачок. Он вообще не выносил шуток, а Дору так просто терпеть не мог. Рассерженный, шел он дальше, как вдруг чей-то глухой голос вывел его из раздумья:
— Постой-ка, Пелдрон, я не только самый старый, но и самый бедный гном в мире. Не дашь ли ты мне немножко денег, чтобы я мог купить себе чего-нибудь поесть?
Пелдрон отрицательно замотал головой.
— Ничего я тебе не дам, лучше бы тебе умереть, чтобы не страдать в этом мире от бедности, — сказал он и, не оглядываясь, продолжал свой путь.
Дора тем временем закончила свои дела у сапожника и по дороге домой тоже встретила старого гнома, который попросил ее дать ему немного денег или еще что-нибудь.
— Нет, — сказала Дора, — денег тебе я не дам, ты не должен был оказаться в такой нужде — ведь мир так прекрасен и я не могу тратить время на бедных.
И она вприпрыжку побежала дальше.
Тяжело вздохнув, старый гном сел в мох и задумался. Как бы взяться за этих детей, чтобы оба они, один — слишком грустный и другая — слишком веселая, не остались такими на всю свою жизнь?
А вы должны знать, что этот старый-престарый гном был вовсе не простым гномом, он был волшебником, и, конечно, не злым. Совсем наоборот: он хотел, чтобы и люди, и эльфы, и гномы сделались чуть-чуть лучше, тогда бы мир тоже сделался чуть-чуть лучше. Целый час сидел он и думал, а потом встал и медленно пошел к дому, где жила семья Доры.
И вот через день после встречи в лесу Дора и Пелдрон сидели в запертом домике; они оказались в неволе. Старый гном перенес их сюда, чтобы заняться их воспитанием, а если уж он чего-то хотел, никакие родители не могли ему воспрепятствовать.
С чего же должны были начать они оба, сидя в этом маленьком домике? Выйти нельзя, возражать тоже, и целый день надлежало трудиться — такие три распоряжения сделал гном. И вот Дора выполняла свою работу, а потом принималась за шутки, и Пелдрон делал свою работу, а потом все так же печалился. Каждый вечер в семь часов старый гном приходил посмотреть, что они сделали за день, а потом снова оставлял их одних.
Да, но что же было им делать, чтобы вновь оказаться на свободе? Оставалось только одно средство: исполнять приказания гнома, а это было немало.
Он не позволял им выйти наружу, не разрешал возразить ни слова и велел много работать — вот три задания, которые они получили от старого гнома.
О, с каким трудом Дора терпела целый день этого нудного Пелдрона: Пелдрон здесь, Пелдрон там, и никого больше. Но времени беседовать с Пелдроном тоже не оставалось, потому что Доре приходилось готовить, чему она научилась дома у своей матери, поддерживать чистоту в доме, а если оставалось время, еще и ткать.
Пелдрон же в закрытом дворике рубил дрова, перекапывал землю, а закончив всю дневную работу, еще чинил башмаки. В семь часов вечера Дора звала его ужинать, и после всего они чувствовали себя настолько уставшими, что едва могли отвечать старому гному, когда тот приходил вечером проверить, что они сделали за день.
Целую неделю жили они такой жизнью. Дора по-прежнему много смеялась, но постепенно начинала понимать всю серьезность жизни и осознала, что есть много людей, которым очень и очень трудно, и что, конечно, никак не будет чрезмерной роскошью дать что-нибудь этим людям, а не отделываться от них грубым ответом.
Да и Пелдрон уже не так много грустил, как прежде, и порой даже тихо насвистывал за работой, а то и смеялся вместе с Дорой над ее шутками.
Когда наступило воскресенье, старый гном разрешил им пойти вместе с собой в маленькую часовню, куда всегда ходили эльфы в своей деревне. Они гораздо внимательней слушали слова гнома-священника, и у них обоих было очень хорошо на душе, когда они возвращались обратно через лес.
— Раз уж вы такие послушные, можете сегодня побыть весь день на воле, как прежде, но не забывайте: завтра — опять за работу, не вздумайте идти домой или в гости к кому-нибудь и будьте все время вместе!
Никто из них и не подумал ворчать, они так радовались, что могли остаться в лесу. Целый день они плясали, смотрели на птичек, цветы, видели голубое небо, приветливое, теплое солнце и были счастливы.
А вечером по требованию своего наставника они вернулись в свой домик и, проспав там до утра, снова принялись за работу. Целых четыре месяца заставил их старый гном оставаться вместе. Каждое воскресенье могли они ходить в церковь, а потом резвиться на воле, но всю неделю заняты были тяжелой работой. Когда четыре месяца миновали, старый гном взял их за руки и вечером пошел с ними в лес.
— Ну, дети мои, думаю, что вы часто на меня очень злились, — сказал он, — и, наверное, вы уже очень хотите домой, не правда ли?
— Да, — кивнула Дора.
— Да, — кивнул Пелдрон.
— Но вы понимаете, что это время пошло вам на пользу?
Нет, ни Дора, ни Пелдрон это еще не вполне понимали.
— Тогда я вам объясню, — сказал старый гном. — Я поступил так, чтобы дать вам понять одну вещь. Кроме ваших удовольствий и ваших печалей на свете есть и нечто другое. Вам обоим будет теперь гораздо легче жить в мире, чем до того, как вы побывали здесь. Доортье стала чуть серьезнее, а Пелдрон чуть веселее именно потому, что пребывание здесь заставило вас научиться тому, чему следовало. Я думаю, что и друг с другом вы сможете теперь уживаться гораздо лучше. Не так ли, Пелдрон?
— Да, теперь Дора кажется мне гораздо милее, — отвечал маленький гном.
— Ну вот, можете вернуться к родителям, но вспоминайте иногда о том, как вы жили в маленьком деревянном доме. Радуйтесь всему прекрасному, что дарит вам жизнь, но не забывайте также о горестях, да и сами старайтесь поступать так, чтобы на свете стало чуть меньше горя. Все люди должны помогать друг другу. Эльфы и гномы, и даже такие маленькие эльфы, как Дора, и такие маленькие гномы, как Пелдрон, тоже могут кое-что сделать. Что ж, идите своей дорогой и не сердитесь на меня: я сделал для вас, что мог, вам же на пользу. Будьте здоровы! Прощайте, дети!
— Прощай! — откликнулись Дора и Пелдрон и побежали прочь, каждый к своему дому.
Старый гном сел на траву. У него было единственное желание — помочь всем человеческим детям найти правильный путь.
Дора и Пелдрон вполне довольствовались тем, что имели, всю свою жизнь. Они раз и навсегда научились тому, что есть время и для смеха, и для слез, а позже, много позже, когда они уже стали взрослыми, им захотелось жить вместе в одном домике, и Дора делала всю работу внутри, а Пелдрон — снаружи, как некогда в детстве!
Блёрри, открыватель мира
Воскресенье, 23 апреля 1944 г.
Однажды, когда Блёрри был еще совсем, совсем маленький, ему ужасно захотелось избавиться от опеки своей мамы-медведицы и что-нибудь открыть самому в настоящем, большом мире.
День за днем делался он все более сосредоточенным, так усердно обдумывал он свой план. Но к вечеру четвертого дня все уже было в порядке. План созрел, и дело было только за его выполнением. Нужно рано-рано утром выйти в сад, разумеется, очень тихо, так, чтобы Мишье, его хозяйка, ничего не заметила, проползти в щель в зеленой ограде, а там… там он откроет для себя мир!
Так он и сделал — и до того тихо, что побег его заметили, когда он уже несколько часов был в пути.
Вся его шкурка запачкалась землей и грязью, когда он пролезал сквозь живую изгородь, но не станет же медведь (и к тому же еще маленький плюшевый мишка), которому хочется открыть мир, нервничать из-за какой-то там грязи. Итак, устремив взор вперед, чтобы ненароком не споткнуться о камень, Блёрри смело пошел к улице, куда вела узенькая дорожка между садами.
Выйдя на улицу, он на мгновение испугался множества громадных людей — между их ногами его совершенно не было видно. «Нужно держаться с краю, а то они, чего доброго, собьют меня с ног», — подумал он, и это было вполне разумно. А Блёрри и был разумным, это следовало уже из того, что он, такой маленький, хотел открыть мир в одиночку!
И вот он шел по самому краю улицы и следил за тем, чтобы не оказаться в середине людского потока. Но вдруг его сердечко заколотилось изо всех сил: что это? Громадная, черная, мрачная бездна открылась у него перед ногами: люк, он вел в подвал, но Блёрри этого не знал, и у него закружилась голова. Не спуститься ли туда? В испуге он огляделся по сторонам, но мужские ноги в брюках и женские в чулках как ни в чем не бывало сновали вокруг разверстого люка.
Не вполне оправившись от страха, Блёрри осторожно обошел люк и скоро уже опять, как и раньше, мог идти вплотную к стене.
«Вот, иду я в громадном мире, но где же сам этот мир? Из-за всех этих ног в чулках или брюках я совсем не вижу его, — размышлял Блёрри. — Наверное, я слишком мал, чтоб открыть мир. Ну ничего, когда стану старше, я буду гораздо выше, а если пить молоко с пенкой (при одной мысли об этом он аж вздрогнул), то я точно буду ростом не меньше, чем все эти люди. Так что пойду себе дальше, и рано или поздно я этот мир все-таки увижу».
И Блёрри шел себе дальше, но как ни старался, все эти толстые и тонкие ноги вокруг жутко ему мешали. Однако разве нужно все время только идти? Он почувствовал страшный голод, и к тому же стало темнеть. А Блёрри вообще не подумал о том, что ему нужно и есть, и спать. Его настолько переполняли планы открытия мира, что он и думать не мог о таких обычных и негероических вещах, как сон или еда.
Вздыхая, он еще некоторое время брел дальше, пока не обнаружил, что дверь одного из домов открыта. Слегка поколебавшись, он все же решился и тихонько вошел.
Ему повезло, потому что, пройдя еще через одну дверь, он увидел между четырьмя деревянными ножками какой-то махины две миски: одну с молоком и густой пенкой, а другую с какой-то кашей. Голодный и жадный до чего-нибудь вкусного, Блёрри одним махом выпил все молоко, вовсе не обращая внимания на пенку, как и приличествует взрослым медведям, а потом дочиста съел и всю кашу. Он был сыт и доволен.
Но, о ужас! Что это такое вошло в комнату? Белое, с большими зелеными глазами, оно медленно приближалось, не сводя с него глаз. Прямо перед ним оно остановилось и спросило тоненьким голоском:
— Кто ты и почему съел мой обед?
— Я — Блёрри, и для открытия мира мне нужна пища, поэтому я и съел твой обед. Но я и знать не знал, что он твой!
— Ах вот оно что, ты хочешь открыть мир, но почему ты нашел именно мои миски?
— Потому что никаких других не увидел, — ответил Блёрри как можно более дерзко. Потом подумал и спросил уже более вежливо: — Но как же тебя зовут и что ты, интересно, такое?
— Меня зовут Мирва, я принадлежу к породе ангорских кошек. Я очень ценная кошка, как утверждает моя хозяйка. Знаешь, Блёрри, одной бывает так скучно — не хочешь ли немного побыть со мной?
— Я, пожалуй, посплю у тебя, — отвечал Блёрри бесстрашно и с такой миной, словно делал одолжение красавице Мирве. — Но утром я должен уйти: мне нужно открывать мир!
Мирва вполне была довольна таким ответом.
— Иди со мной! — сказала она, и Блёрри последовал за нею в другую комнату, где увидел множество деревянных ножек, больших и маленьких, но… там находилось и нечто другое: в углу стояла большая плетеная корзина, а в ней лежала обтянутая зеленым шелком подушка.
Мирва ступила лапами прямо на подушку, но Блёрри постеснялся залезть туда: ведь он очень испачкался.
— Нельзя ли мне немного умыться? — спросил он.
— Ну еще бы, — ответила Мирва. — Я тебя вымою, да и сама умоюсь.
Хорошо, что Блёрри не знал столь странного способа, а то бы он ни за что не дал Мирве так с собой обращаться. Кошка велела ему стоять прямо и не спеша стала вылизывать ему ноги. Блёрри испугался и со страхом спросил, всегда ли она так все моет.
— Да, — ответила кошка. — Вот увидишь, каким станешь чистым, будешь блестеть, а блестящему плюшевому медвежонку везде путь открыт, и тебе гораздо легче будет открывать мир.
Блёрри постарался спрятать свой страх подальше и, как настоящий медведь, стоял и ни разу не пикнул.
Мытьем Мирва занималась довольно долго. У Блёрри уже кончалось терпение, да и ноги болели оттого, что он так долго стоял, но в конце концов он и вправду заблестел! Мирва снова прыгнула в свою корзину, и Блёрри, смертельно уставший, улегся рядом. Мирва укрыла его, если можно так выразиться, своим собственным мехом — ведь она почти улеглась на него. Не прошло и пяти минут, как они оба уже крепко спали.
На следующее утро Блёрри, проснувшись, немало удивился и только через несколько минут сообразил, кто же на нем лежит. Мирва тихонько мурлыкала, и Блёрри уже предвкушал, как он позавтракает. Вовсе не стесняясь нарушить покой своей покровительницы, оказавшей ему такой радушный прием, он оттолкнул ее от себя и почти что скомандовал:
— Мирва, пожалуйста, дай мне мой завтрак, я ужасно проголодался!
Мирва сначала зевнула, потом потянулась, так что стала вдвое длинней, чем обычно, и ответила:
— Ну нет, теперь ты ничего не получишь, моя хозяюшка не должна заметить, что ты здесь. Тебе нужно пробраться как можно скорее в сад и исчезнуть!
Мирва выпрыгнула из корзины, и Блёрри пришлось за нею последовать — через одну дверь, потом через другую, потом еще через одну, только стеклянную, пока они не вышли наружу.
— Счастливого пути, Блёрри, прощай!
И она исчезла.
Одинокий и уже не столь убежденный в своих способностях (после минувшей ночи), Блёрри проследовал через сад и сквозь дырку в заборе выбрался на улицу. Куда теперь идти и сколько еще пройдет времени, пока он откроет мир? Этого Блёрри не знал. Он медленно шел по улице, как вдруг из-за угла выскочило стремглав что-то громадное и четырехлапое. Оно издавало такие страшные звуки, что у Блёрри даже в ушах загудело. Испуганный, прижался он к каменной стене дома. Громадное чудовище остановилось в нескольких шагах, а потом стало медленно к нему приближаться. В страхе Блёрри заплакал, но это не произвело на чудовище никакого впечатления. Напротив, оно всего-навсего уселось и уставилось своими громадными глазищами на бедного медвежонка.
Блёрри весь дрожал, но все-таки собрал все свое мужество и спросил:
— Чего тебе от меня надо?
— Да я хочу просто рассмотреть тебя получше, потому что такие, как ты, мне еще ни разу не попадались!
Блёрри вздохнул: оказывается, и с такими громадинами можно разговаривать. Но тогда странно, почему же его хозяйка никогда не понимала его? Впрочем, он не смог долго раздумывать над этим важным вопросом, потому что большущее животное разинуло свою пасть и стали видны все его зубы. Блёрри ужаснулся еще больше, чем тогда, когда Мирва его мыла. Чего же ему ждать от такого страшного зверя?
Он узнал это гораздо раньше, чем ему бы хотелось, потому что, не долго думая, зверь схватил его зубами за шиворот и потащил по улице.
Плакать Блёрри уже не мог — он сразу бы задохнулся, кричать он тоже не мог; единственное, что ему оставалось, — терпеть и дрожать, и это отнюдь не придавало ему мужества.
Теперь ему уже не требовалось идти самому, и, если бы не боль в затылке, дело выглядело не так уж и плохо. Казалось, что тебя куда-то везут, — чего ж тут страшного? А из-за равномерных покачиваний его даже стало клонить ко сну. «И куда же я попаду? Где?.. Куда?..» Блёрри так долго тащили, что он и впрямь задремал.
Но сон продолжался недолго, потому что громадное создание в конце концов задумалось, а зачем это оно трусит по улице с какой-то непонятной штукой в зубах? Собака разжала зубы, так что Блёрри шлепнулся наземь, и побежала дальше.
Маленький, беспомощный мишка, хотевший открыть для себя весь мир, лежал на улице, совсем один, и у него все болело. Но он все же встал, чтобы не оказаться у кого-нибудь под ногами, протер глаза и осмотрелся.
Куда меньше ног, куда меньше стен, гораздо больше солнца и меньше камней под ногами — может, вот он, мир? В его голове не оставалось места для мыслей, там что-то стучало и барабанило, и идти никуда уже не хотелось. Зачем? Куда идти? Мирва далеко отсюда, мама еще дальше, а с ней и его хозяйка. Но нет, раз уж он отправился в путь, нужно выдержать до конца, пока он все-таки не откроет мир.
Услыхав позади себя какой-то шум, он в испуге повернул голову: не укусит ли его еще какой-нибудь зверь? Но нет, рядом стояла маленькая девочка, которая вдруг увидела Блёрри.
— Смотри, мама, медвежонок, можно я возьму его? — спросила она свою маму, которая шла рядом.
— Нет, дитя мое, медвежонок какой-то грязный: вон, на нем кровь.
— Ну и что ж? Дома мы его вымоем. Я возьму его и буду играть с ним.
Блёрри ничего не мог понять из их разговора, его уши различали только язык животных. Но маленькая светловолосая девочка казалась такой миленькой, и он вовсе не противился тому, что его завернули в платок и положили в сумку. Так, раскачиваясь из стороны в сторону, Блёрри продолжал свое путешествие по миру.
Они шли так какое-то время, а потом Блёрри достали вместе с платком из сумки, и девочка взяла его на руки. Вот ведь радость! Теперь он мог наконец смотреть на дорогу сверху.
Какое множество каменных громад увидел он перед собою, и каких высоченных! А сколько же в них то тут, то там светлых отверстий! А над ними, прямо в небе — ясно, для красоты, — ну точь-в-точь, как перья на шляпке его хозяйки, — вился дымок, словно перышко держало во рту сигарету, такую же тоненькую, как та, из которой пускал дым хозяин у него дома. Как забавно все это! А над каменными громадами, наверное, оставалось еще много места, потому что там было все голубое, но гляди-ка, посреди голубого что-то двигалось, что-то белое закрывало его и подплывало все ближе, пока не зависало прямо над головою, но потом всегда уплывало прочь, и тогда над дымком все опять делалось таким же голубым, как раньше.
А внизу, там что-то гудело и неслось быстро-быстро — но где же лапы или ноги, на которых оно так бежало? Их вовсе не было, только какие-то круглые, надутые штуки. Да, оно того стоило: открывать мир! Ведь что толку сидеть дома? Для чего появляемся мы на свет? Оставаться все время со своей мамой? Ну нет! Видеть, узнавать новое — вот для чего хотел он стать взрослым! О да, Блёрри точно знал, чего хочет.
Но наконец девочка остановилась перед дверью. Они вошли в дом, и первое, что Блёрри увидел, — такое же существо, как Мирва, и звалось оно кошкой, как он прекрасно помнил. Кошка стала тереться о ноги белокурой девочки, но та ее отодвинула и подошла с Блёрри на руках к чему-то белому, что мишка уже видел в доме своей хозяйки, но названия чего не знал. Оно возвышалось над полом — широкое, белое и гладкое. С одной стороны виднелось что-то металлическое и блестящее — его можно было крутить, и белокурая девочка тотчас стала это делать.
Блёрри усадили на большую, твердую и холодную доску. Девочка стала его мыть, и прежде всего загривок, то самое место, за которое ужасный зверь на улице ухватил его своими зубами. Было очень больно, и Блёрри сердито ворчал, но никто не обращал на это никакого внимания.
На этот раз мытье длилось не так долго, как у Мирвы, но… было зато гораздо холодней и мокрей. Девочка справилась с ним довольно быстро. Она насухо вытерла Блёрри, завернула в чистый платок и уложила в кроватку на колесиках, точно такую, как у него дома.
Но зачем же в постель? Блёрри совсем не устал и вовсе не хотел спать. И как только девочка вышла из комнаты, он выскользнул из-под одеяла и через множество всяких дверей и проходов пробрался на улицу.
«Ну теперь обязательно нужно поесть», — думал Блёрри. Он слегка принюхался: здесь обязательно должна найтись какая-нибудь еда, явно ведь чем-то пахло. Блёрри пошел на запах и вскоре уже стоял перед дверью, из-за которой доносился этот вкусный аромат.
Он прошмыгнул мимо одетых в чулки ног какой-то дамы и очутился в лавке. Позади высоченной махины стояли две девушки, которые скоро его заметили. Им приходилось целый день тяжело трудиться, и помощь пришлась бы им очень кстати. Поэтому они тут же схватили его и посадили в какое-то темное и очень жаркое место. Блёрри чувствовал себя вовсе не плохо — главное, там можно было есть, сколько душе угодно. На полу и на низких полочках, повсюду вокруг него, рядами лежали булочки и пирожные — так много и такие красивые, каких Блёрри в жизни не видел. А что, собственно, он вообще видел? По правде сказать, совсем не много!
С жадностью набросился он на все эти сласти и съел столько, что его чуть не стошнило. Потом он еще раз внимательно осмотрелся вокруг. Здесь и впрямь было на что посмотреть: настоящая сказочная страна с молочными реками и кисельными берегами. Повсюду булочки, плюшки, печенья, пирожные — прямо бери и ешь. А какое движение царило вокруг: множество каких-то белых ног, и совсем не таких, какие Блёрри видел на улице.
Долго предаваться мечтам ему не пришлось: девушки, поглядывавшие на него издали, дали ему большую метлу и показали, как с ней обращаться. Подмести пол Блёрри, конечно, мог: его мама порой бралась за уборку и он при этом присутствовал. Он смело взялся за работу, но она оказалась не такой уж простой, потому что метла была очень тяжелая, а от пыли щекотало в носу, и он все время чихал. К тому же от непривычной работы, да еще при такой жаре, он стал задыхаться. А когда он время от времени давал себе отдых, тут же кто-нибудь появлялся, понукал его и вдобавок награждал подзатыльником.
«Если бы я не забежал сюда, — думал он про себя, — мне бы не дали такой противной работы». Но теперь ничего не поделаешь, приходилось подметать. И он подметал.
Он подметал уже так долго, что получилась большущая куча мусора. Потом одна из девушек взяла его за руку и отвела в уголок, где были насыпаны желтые жесткие стружки. Она положила на них Блёрри, и он понял, что может поспать.
С наслаждением, будто он был в мягкой постельке, Блёрри вытянулся, заснул и проспал до утра.
Ровно в семь часов нужно было вставать. Ему позволили вволю поесть всяческих вкусностей, а потом — опять за работу. Бедный Блёрри, он совсем не выспался после такого длинного и изнурительного вчерашнего дня. Он совсем не привык так много работать, и к тому же ему сильно докучала жара. Его головка, его ручки и ножки болели, и ему казалось, что у него все опухло.
Теперь ему в первый раз захотелось вернуться домой, к своей маме, своей хозяйке, своей прекрасной постельке, к прежней приятной и уютной жизни, но… как туда попасть? Бежать невозможно, потому что с него не спускали глаз и, кроме того, единственная дверь, когда ее открывали, вела в лавку, где сидели эти две девушки. Они бы снова водворили его на прежнее место. Нет, оставалось лишь ждать!
Мысли его путались, он чувствовал слабость и тошноту. Вдруг все вокруг него закружилось, он быстро сел на пол, никто не приободрил его. Когда Блёрри пришел в себя, он опять принялся за работу.
Но ко всему привыкаешь, так и с работой, которую Блёрри заставляли делать с раннего утра до позднего вечера. После того как он целую неделю не расставался с метлой, он не в состоянии был делать ничего другого.
Медвежата быстро все забывают, и это тоже неплохо; однако свою маму и свой прежний дом — их он все-таки не забыл. Но какими далекими и недостижимыми они казались сейчас!
Между тем девушки, нашедшие медвежонка, прочитали однажды в газете такое объявление: «Предлагается вознаграждение тому, кто вернет маленького коричневого медвежонка, откликающегося на имя Блёрри».
«А не наш ли это медвежонок? — подумалось им. — Делает он, в общем, не так уж много, но чего же еще можно ожидать от такого маленького зверька? Куда выгоднее получить за него вознаграждение!»
И они быстро вбежали в пекарню и громко позвали:
— Блёрри!
Блёрри, оторвавшись от работы, поднял глаза кверху: вроде кто-то позвал его по имени? Большая метла упала на пол, его ушки насторожились. Девушки подошли к нему и позвали еще раз:
— Блёрри!
Блёрри быстро подбежал к ним.
— Да, его действительно зовут Блёрри, вот видишь! — сказала одна из девушек. — Давай сегодня же вечером отнесем его!
На том и порешили. В тот же вечер девушки вернули Блёрри его хозяйке и получили обещанное вознаграждение.
Хозяйка Блёрри всыпала ему за непослушание, а потом поцеловала, потому что он все же вернулся. А от своей мамы он услышал:
— Блёрри, почему же ты убежал?
— Я хотел открыть мир, — ответил Блёрри.
— И ты открыл его?
— О, я столько, столько всего увидел, я теперь так много знаю!
— Ну да, конечно, но я спрашиваю тебя, открыл ли ты мир?
— Нет… э… вообще-то нет, я так и не смог его отыскать!
Фея
Пятница, 12 мая 1944 г.
Фея, о которой я хочу рассказать, не простая фея, каких много в любой волшебной стране. О нет, это была удивительная фея — и по внешности, и по тому, что она делала. Но что же, спросите вы, было в ней удивительного?
Да то, что она была не из тех, которые то делают что-нибудь доброе здесь, то что-нибудь приятное там, — нет, она хотела принести счастье всем людям и всему миру.
Эту удивительную фею звали Элен. Родители ее умерли, когда она была еще совсем маленькой, и оставили ей много денег. Поэтому она уже с малых лет могла делать все, что хотела, и покупать себе все, что ни пожелает. Другие дети, и феи, и эльфы, на ее месте стали бы ужасными капризулями, но ведь Элен была не такой, как все, и деньги нисколько ее не испортили.
Когда Элен подросла, у нее все еще оставалось немало денег, и она покупала себе самые красивые платья и ела самые вкусные лакомства.
Однажды утром, проснувшись, но все еще лежа в постели, Элен стала думать, что бы такое сделать со всеми своими деньгами. «На себя я их все равно никак не смогу потратить, с собой в могилу я тоже их не возьму, так почему бы мне не употребить эти деньги на то, чтобы и других людей сделать счастливыми?» Прекрасная мысль! И Элен сразу же взялась за ее воплощение. Она встала, оделась, достала плетеную корзинку, взяла денег из большой кучи, положила в корзинку и вышла на улицу.
«С чего бы начать? — размышляла она. — О, я, кажется, знаю. Вдова дровосека наверняка обрадуется, если я зайду к ней. Муж ее недавно умер, и бедной женщине приходится теперь нелегко».
Весело напевая, Элен пересекла небольшой палисадник и постучалась в хижину дровосека.
— Войдите! — услыхала она.
Элен отворила дверь и просунула голову внутрь. В темной комнате, в самом дальнем углу, в шатком кресле сидела маленькая старушка и что-то вязала.
Она очень удивилась, когда Элен вошла в комнату и положила на стол пригоршню монет. Но, как и все люди, эта женщина, конечно, прекрасно знала, что дары эльфов и фей всегда нужно принимать и никогда от них не отказываться. Поэтому она сказала любезно:
— Как это мило с твоей стороны, малышка! Не много найдется людей, которые дают просто так, но обитатели волшебной страны, к счастью, ведь исключение.
Элен удивленно посмотрела на нее:
— Что вы этим хотите сказать?
— Ну, я думаю, что не много найдется таких, кто дает, не желая что-нибудь получить взамен.
— Разве? Но почему я должна хотеть что-нибудь получить от вас? Я даже рада, что моя корзинка стала чуть легче.
— Ну вот и хорошо, спасибо тебе от всего сердца!
Элен попрощалась и отправилась дальше. Минут через десять она подошла к другому домику и постучалась, хотя и не знала никого, кто там живет. Стоило ей открыть дверь, как она сразу же поняла, что в деньгах здесь не нуждаются: жившие здесь бедны не деньгами — они бедны счастьем.
Хозяйка встретила Элен хотя и приветливо, но нисколько не оживилась, глаза ее не заблестели, она казалась печальной.
Элен решила, что здесь надо бы задержаться подольше. «Может, я смогу чем-нибудь помочь этой женщине», — подумалось ей. И вправду, как только маленькая милая фея присела на одну из подушек, женщина стала рассказывать ей о своих бедах. Она говорила о дурном муже и о невоспитанных детях, обо всем, что ее огорчало. Элен слушала, иногда спрашивала о том о сем и старалась вникнуть во все ее горести. Когда наконец женщина кончила свой рассказ, обе они помолчали, а потом Элен сказала;
— Милая госпожа, сама я никогда не знала твоих несчастий, у меня нет опыта в подобных делах, и я совсем не знаю, чем могу помочь, но все же я хотела бы дать совет, которому и сама всегда следую, когда чувствую себя такой же одинокой и грустной, как ты. Выйди как-нибудь тихим, ясным утром, пройди через лес — ты знаешь, тот самый, за которым открывается большая вересковая пустошь. Пройди еще немного и сядь там где-нибудь прямо на землю. Посмотри на небо, окинь взглядом деревья — ты почувствуешь покой, и всякая печаль, от которой ты никак не могла избавиться, сразу исчезнет.
— Ах нет, милая фея! Твое средство поможет мне так же мало, как и глоток горячительного, которое я не раз уже пробовала.
— Попробуй все же хоть раз, — настаивала Элен. — Наедине с природой, я знаю, пройдут все печали. Ты успокоишься, станешь веселой и почувствуешь, что Бог тебя не оставил, как ты давно уже думаешь.
— Ну что ж, если тебе будет приятно, я так и сделаю.
— Хорошо, тогда я пойду дальше и навещу тебя на следующей неделе в это же время.
Элен заходила почти в каждый домик, и люди ей радовались. На исходе этого длинного дня она вернулась к себе с пустою корзинкой и с переполненным сердцем. Она видела, что и вправду прекрасно воспользовалась своими деньгами, гораздо лучше, чем если бы купила себе на них дорогие платья.
Теперь Элен часто выходила из дому с корзинкой в руке. Она надевала желтое платье в цветочек, большой бант украшал ее волосы. Она заходила то к одному, то к другому и вносила в каждый дом радость.
Вот и женщина, имевшая вволю денег и вволю горя, стала гораздо счастливее. Элен знала: ее средство всегда помогало!
За время этих посещений у Элен появилось много друзей и подруг, и это были не эльфы и феи, но обыкновенные люди. Они рассказывали ей о своей жизни. Элен обо многом узнала, и скоро уже умела на всякий вопрос найти подходящий ответ.
Но вот с деньгами она ошиблась в расчетах, и уже через год лишних денег совсем не осталось. Теперь ей только-только хватало на жизнь.
Но если кто-нибудь думает, что Элен огорчилась или что ей уже нечего было дарить, тот ошибается. Она продолжала делать подарки — не деньгами, а добрым советом и ласковым словом.
О да, Элен поняла, что если даже лишиться семьи и остаться совсем одной, то и тогда можно сделать свою жизнь прекрасной: как бы ты ни был беден, твои душевные богатства всегда будут доставлять людям радость.
Когда фея Элен, уже совсем старушка, скончалась, ее оплакивали так, как больше никого в мире. Но душа феи не умерла, и, когда люди засыпали, она нередко их навещала. Люди видели прекрасные сны и во сне получали в дар советы этой удивительной феи.
Рик
В четверть пятого я не торопясь шла по довольно тихой улице и как раз решила заглянуть в находившуюся неподалеку кондитерскую, когда из боковой улицы показались две оживленно болтавшие друг с другом девчонки, которые рука об руку шагали в том же направлении, что и я.
Всякому иной раз интересно и заманчиво подслушать болтовню двух девчонок — не только потому, что они хохочут из-за любого пустяка, но и потому, что их смех на редкость заразителен и любой человек, оказавшийся поблизости, невольно заулыбается.
Так и со мною. Идя позади обеих подружек, я поняла из их разговора, что они вели речь о покупке чего-нибудь сладенького на десять центов. Они возбужденно обсуждали, чего бы им купить на эти деньги, и уже заранее предвкушали, какая это будет вкуснятина. Подойдя к кондитерской, они стали выбирать пирожные уже на витрине, и, разглядев из-за их спин все эти прелести, я знала, что именно они выбрали, еще до того, как девочки вошли в лавку.
Внутри было не слишком много народу, и обе девчонки уже заняли место у стойки. Их выбор пал на два больших куска торта, которые они — надо же! — вынесли из лавки, так к ним и не притронувшись. Минуты не прошло, как меня обслужили, и я снова увидела их обеих. Они шли впереди и громко переговаривались.
На другом углу тоже была кондитерская, у окна которой стояла маленькая девочка и жадными глазами рассматривала сласти, выставленные на витрине.
Обе счастливые обладательницы пирожных остановились рядом с нею, чтобы тоже полюбоваться на выставленные в витрине сокровища, и вступили в разговор с этой бедной девочкой. Я подошла к углу, когда разговор уже был в самом разгаре, и поэтому ухватила его только на середине.
— Что, сильно проголодалась? — спрашивала одна из девчонок. — А хочешь пирожное?
Малышка кивнула.
— Ты что, Рик, с ума сошла? — воскликнула другая девчонка. — А ну-ка быстро клади в рот свой кусок. Если дашь его ей, больше ничего не получишь!
Рик ничего не ответила и нерешительно перевела взгляд с торта на девочку. Потом вдруг отдала ребенку свой торт и ласково сказала:
— Ешь, пожалуйста, я еще буду ужинать сегодня вечером!
И сразу же, не дожидаясь благодарности, обе девчонки исчезли. Я пошла дальше, и, когда проходила мимо малышки, уплетавшей торт, она мне сказала:
— Барышня, хотите кусочек попробовать? Мне его подарили!
Я поблагодарила и, улыбаясь, пошла дальше. Ну и кто, скажите мне, получил больше всего удовольствия? Рик, ее подружка или этот бедный ребенок?
Думаю, что все-таки Рик!
Йоке
Йоке стоит у открытого окна своей комнатки и глубоко вдыхает свежий вечерний воздух. Ей тепло, и воздух приятно овевает ее заплаканное лицо.
Она поднимает глаза все выше и выше, и вот перед ее взором только луна и звезды.
«Ох, — думает Йоке, — не могу больше, просто сил нет грустить. Паул меня оставил, и теперь я одна — кто знает, может быть, навсегда. Не могу больше, все из рук валится, одно знаю: я просто в отчаянии».
Пока Йоке смотрит в окно, на природу, с особенной красотой раскрывающуюся перед ней в этот вечер, она мало-помалу успокаивается. Пока следующие один за другим порывы ветра раскачивают деревья перед домом, пока небо постепенно темнеет и звезды скрываются за большими, толстыми облаками, похожими в бледном облачном свете на промокательную бумагу и принимающими всевозможные формы, Йоке чувствует — отчаяние куда-то уходит, а сама она еще на что-то способна, и собственное ее счастье, которое она в себе ощущает, у нее не отнимет никто.
— Никто не отнимет, — шепчет она безотчетно. — Даже Паул.
Простояв час у окна, Йоке исцелена. Конечно, ей грустно, но она уже не впадает в отчаяние; и каждый, кто долго и внимательно вглядывается в Природу, а тем самым в себя самого, так же, как Йоке, исцелит себя от отчаяния.
Почему?
«Почему?» — это слово, в сущности, живет и растет вместе со мной еще с тех пор, как я была совсем ребенком и не умела правильно разговаривать.
Известно, что маленькие дети спрашивают обо всем на свете, потому что им почти все еще незнакомо. У меня это проявлялось особенно сильно. Больше того — и много позже я никак не могла удержаться от желания узнать обо всем поподробнее.
Само по себе это не так уж плохо, и могу сказать, что родители довольно терпеливо отвечали на мои вопросы, но… я и чужих не оставляла в покое, а другие люди в большинстве случаев терпеть не могут «этих несносных детских вопросов».
Должна добавить, что они действительно могут быть обременительными, но я утешала себя мыслью, что, спрашивая, ты становишься умнее, — правило, не вполне соответствующее истине, ибо в этом случае я уже давно стала бы профессором.
Повзрослев, я заметила, что далеко не каждому можно задавать любые вопросы и что есть много «почему», на которые невозможно ответить.
Поэтому я попыталась помочь себе тем, что сама стала размышлять над своими собственными вопросами. И пришла к знаменательному открытию, что вопросы, которые непозволительно или невозможно задать открыто, или те, которые нелегко выразить словами, можно прекрасно решить «изнутри». Таким образом, слово «почему» научило меня, собственно, не только спрашивать, но также и думать.
Теперь о другой стороне словечка «почему». Если бы только каждый, совершая какой-нибудь поступок, сперва спрашивал себя: «Почему?»! Думаю, тогда люди стали бы намного, намного честнее и лучше. Ибо можно очень легко стать добрым и честным, если никогда не упускать случая проверить самого себя.
Нежелание сознаться самому себе в своих промахах и недостатках (а они есть у каждого) — самое подлое, что только можно представить. Это относится и к детям, и к взрослым. Потому что здесь речь идет об одном и том же. Большинство людей думают, что именно родители должны воспитывать своих детей и пытаться формировать их характер как можно лучше, но дело вовсе не в этом.
С малых лет дети должны сами себя воспитывать и сами стараться выработать свой характер. Многие решат, что это — полная чушь, но я думаю по-другому. Ребенок, каким бы маленьким он ни был, все-таки уже личность; он уже обладает совестью. Заставить ребенка осознать, что собственная совесть накажет его сильнее всего, — это и есть воспитание.
Когда детям исполнится четырнадцать-пятнадцать лет, всякое наказание смешно, ибо такой ребенок прекрасно знает, что никто, в том числе и его собственные родители, не сможет ни приблизиться к нему с помощью наказания, ни причинить ему боль. Только словом, и в том случае, если ребенок относит это слово именно к себе, можно добиться улучшения, и гораздо более скорого, чем самыми суровыми наказаниями.
Но давать педагогические советы — не моя цель, я хотела только сказать, что для каждого ребенка и для каждого человека слово «почему» играет, и должно играть, огромную роль.
Поэтому правило «от вопросов делаешься умнее» справедливо лишь постольку, поскольку оно заставляет думать, а от этого никто и никогда не становится хуже — наоборот, только лучше.
Кто интересен?
На прошлой неделе я сидела в поезде. Я ехала к моей тете в Бюссум и под пыхтение паровоза строила планы хотя бы в поезде занять себя чем-нибудь, поскольку перспектива провести целую неделю в обществе тети Жозефины уж никак не казалась мне занимательной.
Итак, я ехала в поезде и строила планы, но мне не везло, потому что в своих попутчиках я на первый взгляд не увидела ничего интересного или занимательного. Маленькая старушка напротив меня была мила ко мне, но нисколько не занимательна, а сидевший рядом с ней представительный господин с газетой, где ничто не задерживало его внимания, и того меньше. С крестьянкой по другую сторону этого господина мне также вряд ли удалось бы весело поболтать, но все же я намеревалась себя как-то занять, и для этого нужно было что-нибудь сделать.
Должна же я, по крайней мере, отыграться на ком-нибудь, свалив за это вину на длинную худую шею тети Жозефины. Я уже с четверть часа вынашивала эти планы и, конечно, выглядела столь же малоинтересной, как и мои попутчики по купе, когда поезд остановился на первой станции и, к моей величайшей радости, в вагон вошел господин лет тридцати, который показался если и не забавным, то, во всяком случае, интересным.
Вообще говоря, среди женщин бытует мнение, что мужчины с молодыми лицами и седыми висками всегда интересны, и я вроде бы никогда не сомневалась в истинности подобного утверждения. Ну что ж, попробую испытать этого столь интересного мужчину — не зря же мне считать его интересным.
Но вот вопрос: как из этой интересности извлечь интересное? Определенно прошло не менее четверти часа, пока я случайно не набрела на простое, но, бесспорно, весьма распространенное средство. Я уронила платок — и действительно, эффект был поразительный.
Интересный господин не только весьма галантно (а иначе и быть не могло, не правда ли?) поднял мой платок с грязного пола, но и сам ухватился за возможность вступить со мной в разговор.
— Вот, юффроу, — начал он, конечно же слегка приглушив голос, ибо другим пассажирам вовсе не следовало все это слышать, — получите обратно вашу собственность, но в обмен на ваш платок я хотел бы узнать, как вас зовут.
Откровенно говоря, этот человек показался мне довольно бесцеремонным, но раз уж я непременно хотела себя развлечь, я ответила ему в том же тоне:
— Ну разумеется, сударь, меня зовут юффроу ван Берген.
Он поглядел на меня с явным упреком и спросил вкрадчиво:
— О, милая барышня, мне бы очень хотелось узнать ваше имя!
— Ну тогда — Хэтти, — ответила я.
— Так, стало быть, Хэтти, — повторил мой новый сосед. Затем мы немного поболтали о всякой всячине, но, как я ни старалась, мне никак не удавалось сделать разговор интересным, и, собственно, я ожидала этого от мужчины, которого все сочли бы интересным.
На следующей станции он сошел, и я чувствовала себя совершенно разочарованной.
И тут сидевшая в своем уголке старушка заговорила со мной. Она говорила обо всем с таким юмором и так интересно, что время летело, и я не заметила, как доехала до своей станции.
Я поблагодарила эту интересную женщину и знаю теперь, что репутация интересных мужчин относится только к их внешности.
Так что если во время поездки или чего другого вы захотите развлечь себя, посмотрите, нет ли рядом, как это было со мною, пожилых или некрасивых людей. Они гораздо скорее доставят вам желаемое развлечение, чем господа, на лицах которых написана самонадеянность.
Жизнь Кади
(Неоконченный роман)
Часть I
Глава I
Как только Кади открыла глаза, она увидела, что все кругом белое. Последнее, что она ясно помнила, — чей-то крик… машина… она упала… а потом наступила тьма. Сейчас она чувствовала колющую боль в правой ноге и левой руке и — неосознанно — слегка застонала. Тут же над ней склонилось чье-то участливое лицо, обрамленное белым чепцом.
— Очень больно, бедняжка? Ты помнишь, что с тобою случилось? — спросила сестра.
— Ничего… — Сестра улыбнулась. Кади продолжала, хотя и с трудом: — Да… машина, я упала… больше ничего!
— Тогда скажи мне только, как тебя зовут. Сюда смогут прийти твои родители, а то они ждут и волнуются!
Кади перепугалась:
— Но… но… э… — Больше она ничего не смогла выговорить.
— Не бойся, твои родители ждут не так уж долго, ты у нас всего один час.
Кади с трудом удалось чуть-чуть улыбнуться.
— Меня зовут Каролина Доротея ван Алтенховен, сокращенно Кади, я живу на Зёйдер Амстеллаан, 261.
— Ты уже соскучилась по своим родителям?
Кади кивнула в ответ. Она чувствовала такую усталость, и все так болело. Она тихо застонала и снова уснула.
Сестра Анк, сидевшая у постели Кади в небольшой белой палате, с беспокойством смотрела на маленькое бледное личико, которое безмятежно покоилось на подушке, словно не случилось ничего страшного. Но это случилось. Как сестра узнала со слов доктора, девочку сбила машина, выехавшая из-за угла как раз в тот момент, когда она хотела перейти улицу. Она упала, но, к счастью, тормоза оказались хорошими, и машина ее не переехала. Как полагал доктор, у девочки был двойной перелом ноги, ей отдавило левую руку, и левая ступня тоже получила повреждение. Сможет ли когда-нибудь это милое дитя снова ходить? Сестра Анк испытывала сомнения: лицо доктора казалось очень серьезным. К счастью, девочка ни о чем не подозревала, и по возможности не следовало ей открывать правду. Кади застонала во сне, и сестра Анк очнулась от своих размышлений. Но она ничем не могла помочь девочке. Она встала, нажала на кнопку и вошедшей сестре передала записку с именем и адресом ван Алтенховенов.
— Найдите поскорей в телефонной книге их номер и осторожно расскажите им, что случилось с их дочерью. Пусть приедут как можно быстрее. Если номера телефона найти не удастся, напишите записку и отошлите с посыльным!
Дверь бесшумно закрылась. Вздохнув, сестра Анк взяла свое вязанье со столика, стоявшего подле кровати. Сегодня у нее особенно тяжело на сердце. Почему ее так трогает судьба этой девочки? Разве за свою жизнь она повидала мало искалеченных людей, таких же, как этот ребенок? Разве не научилась она давным-давно скрывать свои чувства? Однако никакие доводы не помогали, и ее мысли снова и снова возвращались к случившемуся.
В дверь тихо постучали. Одна из сестер впустила в палату даму среднего роста и высокого элегантного господина. Сестра Анк встала — это, должно быть, родители Кади. Мефроу ван Алтенховен была очень бледна и испуганными глазами смотрела на дочь. Та все еще спокойно спала и не заметила их прихода.
— Сестра, расскажите же, что с ней. Мы так ее ждали, но и подумать не могли, что с ней могло случиться несчастье… нет, нет…
— Пожалуйста, успокойтесь, мефроу. Ваша дочурка уже пришла в сознание.
Сестра Анк рассказала все, что знала о происшествии, и, поскольку представила все гораздо легче, чем оно было на самом деле, она и сама почувствовала некоторое облегчение. Кто знает, может, девочке и вправду станет получше!
Пока взрослые стояли возле ее постели и разговаривали, Кади проснулась и, как только увидела в своей палате родителей, сразу же почувствовала себя гораздо хуже, чем ей казалось, когда она оставалась только вдвоем с сестрой. Девочку одолевали разные мысли; со всех сторон ее обступали картины, одна страшнее другой. Она видела себя на всю жизнь калекой… без руки… и еще всякие ужасы.
Мефроу ван Алтенховен между тем заметила, что Кади проснулась, и приблизилась к ее постели:
— Тебе очень больно? Как ты? Я побуду с тобой? Хочешь чего-нибудь?
Кади не могла ответить на все эти вопросы. Но она кивнула и с тоской подумала: хорошо бы, если бы вся эта суета прекратилась.
— Папа! — единственное, что она вымолвила.
Менеер ван Алтенховен подошел к краю большой железной кровати и, не говоря ни слова и не спрашивая, как она себя чувствует, взял руку дочери.
— Спасибо, спасибо тебе… — Больше Кади ничего не сказала, она опять погрузилась в сон.
Глава II
С того несчастного дня прошла неделя. Мать приходила к Кади каждое утро и в середине дня, но не надолго, потому что очень утомляла Кади своими непрекращающимися и нервозными разговорами, и сестра, которая всегда ухаживала за девочкой, сразу заметила, что Кади гораздо больше ждала отца, а не мать.
Сестра вообще не испытывала больших хлопот с доверенной ей пациенткой. Хотя девочку мучили сильные боли, прежде всего при врачебных осмотрах и процедурах, она никогда не жаловалась и никогда не проявляла неудовольствия.
Больше всего ей нравилось тихо лежать и мечтать, а сестра Анк сидела у ее постели с книгой или вязаньем. После первых, самых трудных дней Кади уже не спала так много. Она не прочь была поговорить и ни с кем не чувствовала себя до такой степени хорошо, как с сестрой Анк, спокойной и мягкой женщиной. Ее мягкость особенно привлекала Кади — та материнская нежность, в которой, как теперь Кади ясно вдруг поняла, она всегда так нуждалась.
Мало-помалу между Кади и сестрой Анк возникло чувство доверия, и девочка постоянно расспрашивала ее о самых разных вещах.
Когда прошло две недели и Кади уже многое ей рассказала, сестра Анк осторожно спросила ее однажды утром о матери. Кади ждала такого вопроса, и ей очень хотелось поделиться своими чувствами.
— Почему вы спрашиваете об этом? Может быть, вам показалось, что я невежлива с матерью?
— Нет-нет, но у меня такое чувство, что к матери ты относишься по-другому, более холодно, чем к отцу.
— Вы правы, настоящей теплоты к матери я не чувствую, и для меня это большое горе. Мать так на меня не похожа. Это бы еще ничего, но она совершенно не понимает вещей, которые важны для меня и дороги моему сердцу. Вы не могли бы помочь мне, сестра Анк, и сказать, как мне улучшить свое отношение к матери, чтобы она больше не чувствовала, что я не могу ее любить так, как люблю папу? Я ведь знаю, что меня, свое единственное дитя, мама очень любит!
— Я думаю, твоя мать прекрасно понимает, что и ей не удается выбрать с тобой правильный тон. Возможно, она, со своей стороны, немного робеет?
— О нет, вовсе нет. Она думает, что ее поведение как матери безупречно. Она бы онемела от удивления, если бы кто-нибудь ей сказал, что она взяла по отношению ко мне не тот тон. Она абсолютно уверена, что ошибки могут быть только с моей стороны. Сестра Анк, вы как раз такая мать, какую я бы хотела иметь. Мне так не хватает настоящей матери, и моя мама это место никогда не заполнит.
Ни у кого в мире нет в полной мере того, что он хочет, хотя обо мне многие думают, что я ни в чем не испытываю недостатка. У нас хороший дом, отец с матерью прекрасно ладят друг с другом, я получаю все, чего только могу пожелать, и все же — разве добрая, чуткая мать не занимает в жизни девочки совсем особое место? А может быть, так дело обстоит и не только в жизни девочек? Что я знаю о мыслях и чувствах мальчиков? Я никогда не была близко знакома ни с одним мальчиком. Конечно, они испытывают такую же потребность в чуткой матери, но, возможно, по-своему!
Теперь я вдруг поняла, чего недостает моей матери, — такта. Слышать ее рассуждения о некоторых самых деликатных вещах так неприятно! Она совершенно не понимает, что во мне происходит, а еще говорит, что мой возраст для нее интересен. Она не имеет никакого представления о том, что такое терпение и мягкость. Она женщина, но не настоящая мать!
— Не говори так резко о своей матери, Кади. Возможно, она и не такая, как ты, но она многое испытала и не поэтому ли хочет избежать разговоров на трудные темы?
— Не знаю. Да и что вообще знает девочка вроде меня о жизни своих родителей? О жизни своей матери? Разве ей об этом рассказывают? Именно из-за того, что я не понимаю матери, а она — меня, между нами никогда не возникало доверия.
— А как с папой, Кади?
— Папа знает, что мы с мамой не очень ладим. Он понимает обеих: и меня, и маму. Он — просто сокровище и старается возместить то, чего мне не хватает в матери. Но он немного боится говорить на подобные темы и старается избегать разговоров, которые могли бы задеть мать. Мужчина многое знает, но заменить мать он никак не может!
— Хотела бы тебе возразить, Кади, но не могу. Знаю, что ты права. Думаю, очень жаль, что у тебя с мамой такие отношения и между вами нет близости. Ты думаешь, что ничего не изменится, даже когда ты станешь старше?
Кади чуть-чуть пожала плечами:
— Сестра Анк, мне так не хватает матери. Мне очень хочется иметь кого-нибудь, кому я могла бы довериться и кто бы доверился мне!
— Кади, я тебя очень люблю и хочу быть с тобой откровенной, но чувствую, что никогда не смогу стать для тебя такой, как ты мечтаешь. Я могла бы тебе многое рассказать и о себе, но такого доверия, какое существует между матерью и дочерью или между двумя подругами, между нами быть не может, потому что такое доверие возникает не сразу!
От этих слов сестры Анк у Кади на глаза навернулись слезы. Когда сестра смолкла, Кади протянула ей руку, потому что подняться еще не могла. Сестра Анк так хорошо поняла все, что она хотела сказать.
— Дорогая сестра, я понимаю, мне очень досадно, но вы правы. Я могу вам довериться, а вы мне — нет.
Когда Кади смолкла, вид у сестры Анк был очень серьезный.
— Давай не будем больше говорить об этом, дитя мое. И все-таки хорошо, что ты рассказала мне о своей матери. — И неожиданно перешла к совсем другому предмету: — Да, чуть не забыла. У меня для тебя новость. Если и дальше все пойдет хорошо, на следующей неделе к тебе смогут по очереди приходить твои подружки!
По глазам Кади сразу можно было понять, насколько она обрадовалась. И не столько потому, что снова увидит своих подружек, сколько потому, что, судя по всему, дело шло на поправку.
Удовлетворенная и успокоившаяся, она съела кашу, которую ей принесли, и снова легла: после обеда полагалось поспать.
Глава III
Недели тянулись для Кади довольно однообразно. К ней приходило много друзей и знакомых, но большую часть дня она все же оставалась одна. Состояние ее между тем настолько улучшилось, что ей разрешили сидеть, и у нее появилась возможность читать. Она получила особый столик для лежачих больных, а папа купил ей дневник. Теперь она часто сидела и записывала свои чувства и мысли. Никогда бы она не подумала, что это может быть таким интересным занятием и приносить столько радости.
Сестра Анк, которая теперь ухаживала за другими больными, все-таки придерживалась привычки, после того как помогала Кади утром умыться и одеться, остаться с ней на полчасика и поболтать.
Жизнь в такой больнице очень однообразна. Один день похож на другой, все по часам, никаких происшествий. Повсюду царит тишина, и Кади, у которой ни рука, ни нога уже не болели, очень хотела бы видеть вокруг больше жизни и суеты. И все же, несмотря ни на что, время шло сравнительно быстро. Кади не скучала: ей приносили всякие игры, в которые она могла играть одна и пользуясь только правой рукой. Не забудем и о школьных учебниках: каждый день время отводилось учебе. Три месяца провела она здесь, но теперь ее заточение уже подходило к концу. Переломы оказались не столь серьезными, как опасались сначала, и врачи полагали, что, поскольку ей стало лучше, нужно отправить ее в санаторий и там Кади уже окончательно выздоровеет.
И вот на следующей неделе мефроу ван Алтенховен собрала все ее вещи, и в больничной машине Кади вместе с матерью несколько часов ехали в санаторий. Здесь дни для Кади потекли еще более одиноко. Приезжали к ней один-два раза в неделю, не было здесь сестры Анк, и все казалось чужим. Единственная радость — она выздоравливала.
Когда Кади уже совсем прижилась в санатории и с нее сняли повязки, ей пришлось заново учиться ходить. Вот ужас! Поддерживаемая двумя сестрами, она приставляла одну ногу к другой, и каждый день все упражнения начинались сначала. Но чем больше она ходила, тем лучше у нее получалось, и скоро уже ноги снова привыкли к движению.
Это был настоящий праздник! Она вновь стала на ноги, и они настолько хорошо ее слушались, что ей разрешили с палкой и в сопровождении сестры выходить в сад.
Глава IV
В хорошую погоду Кади вместе с сестрой Трюс, которая всегда ее сопровождала, выходили в большой сад, сидели на скамейке и беседовали или читали что-нибудь, если Кади брала с собой книжку. А недавно они даже совершили прогулку в соседний лес, и, поскольку Кади нашла, что там гораздо красивее, сестра не возражала против того, чтобы они ходили туда гулять. Однако идти приходилось очень медленно, и малейшее неловкое движение вызывало боль в ноге. И все же каждый день Кади снова мечтала о получасовой прогулке, когда можно будет очутиться среди вольной природы, где она могла представлять себе, что уже выздоровела.
Через три недели, когда Кади изучила каждый камушек на главной и боковых дорожках, доктор спросил, не хотелось бы ей ходить гулять одной, без посторонней помощи. Кади пришла в восторг:
— А что, правда можно?
— Да, да, иди одна, иди прямо сейчас, и чтобы мы тебя больше не видели, — пошутил доктор.
Кади собралась, взяла свою палку и направилась к выходной двери. Ее охватило необыкновенное чувство: она ведь уже так привыкла к тому, что сестра Трюс всегда с нею рядом. В этот первый день ей не разрешили выходить за ограду, окружавшую сад. Через полчаса дежурная сестра увидела, что она возвращается счастливая и с румянцем на щеках, которого давно уже не было.
— Как видно, прогулка тебе понравилась! Хорошо хоть ненадолго от нас избавиться?
— Вас не проведешь, — отвечала Кади, — но до чего же хорошо снова хоть немножко походить одной!
Сестра понимающе кивнула и посоветовала ей теперь полежать.
С этого дня Кади можно было каждый день видеть в саду, и, поскольку все шло хорошо, ей разрешили ненадолго выходить за ограду. Санаторий располагался в тихой местности, домов поблизости почти не было, кроме больших вилл, находившихся в десяти минутах ходьбы и на таком же расстоянии одна от другой.
На одной из боковых дорожек Кади обнаружила скамью, сделанную из лежащего на земле ствола дерева, и стала брать с собой что-нибудь подстелить, чтоб устроиться удобнее.
Каждое утро приходила она сюда посидеть, мечтала или читала. Если Кади брала с собой книгу, то прочитывала всего несколько страниц; книга выпадала из рук, и она думала про себя: «Да что, собственно, может мне дать эта книга? Разве не лучше просто сидеть здесь и смотреть на что-нибудь? Разве не лучше самой размышлять о мире, о том, как он устроен, чем читать о переживаниях этой девочки из книжки?»
Она смотрела вокруг, на птиц, на цветы, следила за муравьем, который с былинкой быстро пробегал около ее ног, и была счастлива. Она мечтала о том времени, когда вновь сможет бегать и прыгать, где и как ей захочется, и приходила к выводу, что несчастный случай, который принес с собой столько боли, имел и свои хорошие стороны. Кади вдруг поняла, что здесь, в лесу, в санатории и в тихие часы в больнице она открыла в самой себе что-то новое. Она открыла в себе человека с собственными чувствами, мыслями и мнениями, человека, который не зависит от других и что-то значит сам по себе.
Как случилось, что раньше она никогда не задумывалась об этом, что прежде ей никогда не приходила в голову мысль подумать о людях, которые ее каждый день окружали, даже о собственных родителях?
Ведь что сказала ей сестра Анк? «Быть может, твоей матери столько пришлось испытать, что она избегает разговоров на трудные темы?» И каков был ее ответ? «Что знает дочь о жизни своих родителей?»
Как мог вырваться у нее столь горький ответ, если она знала, что до сих пор никогда не размышляла об этом? И все же разве сейчас она ответила бы иначе? Разве она сказала неправду? Что знает ребенок о жизни других людей? То же самое она могла бы сказать о жизни своих подруг, своей семьи, своих учителей. Что знала она о них, кроме чисто внешней стороны? Да приходилось ли ей говорить хоть с кем-нибудь из них серьезно? В глубине души ей было стыдно, хотя она и не знала, как следует поступить, чтобы что-то узнать о людях. И Кади подумала: «Какой, собственно, толк в том, что я пользуюсь их доверием? Разве я могу помочь им в их затруднениях?» И хотя она понимала, что не знала, как им помочь, она понимала также, какое это утешение и поддержка, если можешь кому-то довериться. Ведь она и сама недавно очень переживала из-за того, что не имела никого, с кем могла бы поговорить «по-настоящему». Разве не этим объясняется чувство гнетущего одиночества, которое охватывало ее иногда? Разве оно не исчезло бы, окажись рядом с ней подруга, которой можно обо всем рассказывать? Кади определенно знала, что мало что сделала для других людей, но ведь и они тоже никогда не обращали на нее внимания.
Кади подняла глаза и заметила, что все это время не слышала никаких звуков. Она снова взялась за книгу и читала в то утро так долго, как никогда еще в лесу не читала.
Глава V
По своей натуре Кади была девочкой жизнерадостной и охотно разговаривала с людьми. К тому же она больше не чувствовала себя одинокой, если выпадала возможность о чем-нибудь поговорить. Хотя, впрочем, это не так — чувство одиночества заключалось в чем-то другом.
Ну вот, она снова задумалась. Пожалуй, из-за того, что все время крутишься вокруг одной точки, еще больше тупеешь. Кади мысленно шлепнула себя и посмеялась над такой глупостью: теперь, когда она вообще не слышала упреков со стороны, ей их, видимо, не хватало и она сама их выдумывала.
Неожиданно она подняла глаза: послышались приближающиеся шаги. Прежде ей еще не доводилось кого-нибудь встретить на этой уединенной дорожке. Шаги раздавались все ближе и ближе, и вот из-за деревьев показался юноша лет семнадцати. Он приветливо поздоровался с нею и прошел мимо.
«Кто бы это мог быть? — подумала она, — может, один из обитателей этих вилл? Да, пожалуй, что так, никого другого здесь быть не может».
Этой мыслью происшествие было исчерпано, и она уже совсем позабыла о внезапном прохожем. Однако на следующее утро он снова прошел мимо нее, и это повторялось всю неделю, в одно и то же время.
Но однажды утром, когда Кади снова сидела на своей скамейке и юноша вышел из леса, он остановился и, протянув руку, сказал:
— Меня зовут Ханс Донкерт, мы знаем друг друга, и уже довольно давно, так почему бы нам и в самом деле не познакомиться?
— Меня зовут Кади ван Алтенховен, — отвечала Кади. — И, — добавила она, — очень мило, что ты остановился.
— Знаешь, я все думал, не покажется ли тебе глупым и то, что я все время молча прохожу мимо, и то, что, наоборот, возьму и заговорю с тобой. Но в конце концов мне стало любопытно, и я решился!
— Неужели я так выгляжу, что со мной страшно заговорить? — спросила Кади насмешливо.
— Ну, когда я тебя разглядел поближе, то совсем нет, — подхватил Ханс ее шутку. — Но я, собственно, хотел спросить, ты живешь в какой-нибудь из этих вилл или ты из санатория?.. Хотя как-то не верится, — поспешил он добавить.
— Не верится? — Кади не могла удержаться, чтобы не переспросить. — Ну разумеется, из санатория. У меня был перелом ноги и ушиб руки и стопы, и теперь нужно полгода, чтобы полностью все прошло.
— Столько всего сразу?
— Да, я по глупости попала под машину. Не пугайся, сам видишь, что даже не принял меня за пациентку!
Ханс и в самом деле был немного испуган, но счел за лучшее не продолжать эту тему.
— Я живу на вилле Деннегрун, вон там, — показал он направление указательным пальцем. — Тебе, может быть, покажется странным, что я всегда прохожу здесь в одно и то же время, — просто у меня каникулы, я приехал из школы домой и каждое утро хожу к одному своему товарищу, потому что, по правде говоря, здесь довольно-таки скучно.
Кади собралась встать, и Ханс, заметив это, тут же протянул ей руку, потому что с такой низкой скамьи ей не легко было подняться самой. Но Кади была упряма и не захотела взять его руку:
— Не обижайся, но мне нужно стараться вставать самостоятельно.
Ханс, который все-таки хотел помочь Кади, взял ее книгу и счел это достаточным предлогом, чтобы проводить симпатичную девочку до санатория. Перед оградой они попрощались, словно давно уже знали друг друга, и Кади нисколько не удивилась, когда на следующее утро Ханс пришел немного раньше обычного и сел рядом с нею на скамью, устроенную из ствола дерева.
Они говорили о множестве вещей, но ни о чем серьезном, и Кади, которой Ханс ужас как нравился, досадовала, что в разговоре с ним ни разу не коснулась такого, что выходило бы за рамки повседневной жизни.
Однажды утром они сидели на этом древесном стволе, несколько поодаль друг от друга, и разговор как-то не клеился, чего еще никогда не случалось. Наконец они оба смолкли и безмолвно глядели перед собой. Кади, совсем погрузившаяся в свои мысли, почувствовала вдруг устремленный на нее взгляд. Ханс уже некоторое время вглядывался в это личико рядом с собою, и теперь их глаза встретились. Невольно они смотрели друг на друга дольше, чем, собственно, предполагали, — пока Кади не спохватилась и не опустила глаза, уставившись в землю.
— Кади, — прозвучал его голос рядом с нею, — Кади, ты не могла бы мне сказать, что с тобой происходит?
Кади с минуту молчала и потом ответила:
— Это так трудно, ты не поймешь — решишь, что это слишком по-детски.
Девочку вдруг покинула вся ее смелость, и при этих последних словах ее голос дрогнул.
— Ты так мало мне доверяешь? Ты думаешь, у меня нет таких чувств и мыслей, которые я не стану открывать первому встречному?
— Я вовсе не хотела сказать, что не доверяю тебе, но это так трудно. Я и сама не знаю, что, собственно, тебе рассказать.
Они оба сидели, глядя в землю, с серьезными лицами. Кади видела, что огорчила Ханса; ей было очень досадно, и она вдруг сказала:
— Скажи, ты тоже часто чувствуешь себя таким одиноким, даже если неподалеку твои друзья, — внутренне одиноким, я имею в виду?
— Я думаю, что все молодые люди время от времени чувствуют себя одинокими, один больше, другой меньше. Я — тоже, и я тоже ни с кем не мог поделиться. Мальчики открываются своим товарищам далеко не так быстро, как девочки, они гораздо больше опасаются, что их не поймут и поднимут на смех.
Кади некоторое время смотрела на него, когда он умолк, а потом сказала:
— Я очень часто думала над тем, почему люди так мало доверяют друг другу, почему они скупятся на «взаправдашние» слова. Ведь иной раз нескольких фраз бывает довольно, чтоб разрешить большие трудности и недоразумения!
И снова никто из них долго не раскрывал рта. Но тут Кади словно бы внезапно решилась:
— Ханс, ты веруешь в Бога?
— Да, конечно, я верую в Бога.
— Я очень много думала о Боге в последнее время, хотя никогда не говорила об этом. Дома я еще ребенком научилась читать на ночь молитву, перед тем как ложилась спать, и делала это по привычке, точно так же, как каждый день чищу зубы. Я никогда не задумывалась о Боге — я имею в виду, что Он никогда не входил в мои мысли, потому что все, чего мне тогда хотелось, в основном могли сделать люди. Но с тех пор, как со мной произошел несчастный случай и я столько времени оставалась одна, у меня оказалось достаточно времени, чтобы как следует поразмыслить. В один из первых вечеров, когда я попала сюда, я молилась и вдруг заметила, что в своих мыслях нахожусь далеко-далеко отсюда. Я одернула себя и задумалась о более глубоком смысле произносимых мною слов. И я сделала открытие, что в простодушной, казалось бы, детской молитве кроется гораздо больше, чем я когда-либо предполагала. С тех пор, помимо обычной молитвы, я возносила молитвы и о другом — о том, что мне казалось прекрасным. Но несколько недель спустя я опять повторяла обычную свою молитву, как вдруг словно молния пронзила меня: «Почему Бог, о котором я никогда не думаю, если со мной все в порядке, должен помочь мне теперь, когда мне это понадобилось?» И этот вопрос не давал мне покоя: я понимала, что было бы только справедливо, если бы теперь Бог, в свою очередь, обо мне тоже не думал.
— С тем, что ты сказала в конце, я все-таки не могу полностью согласиться. Раньше, когда ты благополучно жила себе дома, ты же не намеренно молилась без особого смысла — помолившись, ты просто потом о Боге не думала. А теперь, когда ты Его ищешь, потому что испытываешь боль и страх, теперь, когда ты действительно стараешься быть такой, какой, по твоему мнению, должна быть, теперь, конечно, Бог тебя не оставит. Положись на Него, Кади. Он ведь помог столь многим!
Кади задумчиво смотрела на деревья.
— Ханс, откуда нам знать, существует ли Бог? Кто Он и что? Никто ведь Его не видел. Иногда у меня возникает такое чувство, что все наши молитвы, все это уходит на ветер!
— Если ты меня спрашиваешь, кто Он и что, я могу ответить только одно: никто не скажет тебе, кто Он и как Он выглядит, потому что никто этого не знает. Но если ты спросишь, что Он такое, тогда я смогу ответить. Посмотри вокруг себя — на цветы, на деревья, на животных, на людей, — и ты узнаешь, что такое Бог. Все то удивительное, что живет и умирает, что произрастает и зовется природой, — это и есть Бог. Все это Он таким создал, другого представления о Нем иметь и не надо. Люди объединили все это чудо в одном слове: Бог. Так же точно это можно было бы назвать и по-другому. Ты согласна со мной, Кади?
— Да, я это понимаю и сама тоже над этим думала. Иногда, когда доктор в больнице говорил мне: «Ты так быстро поправляешься, теперь я почти уверен, что ты скоро совершенно выздоровеешь», — это наполняло меня такой благодарностью! И кого еще, кроме сестер и доктора, должна была я благодарить, как не Бога? Но в другой раз, испытывая сильную боль, я думала: то, что я называю Богом, на самом деле — Судьба. Так я и двигалась все время по кругу, не приходя ни к какому решению. Но когда я потом спрашивала сама себя: ну и во что же ты теперь веришь? — я все же точно знала, что верю в Бога. Очень часто я, как бы это выразить, прошу у Бога совета и всегда безошибочно знаю, что получу единственно правильный ответ. Но, Ханс, разве не может этот ответ каким-то образом исходить от меня самой?
— Как я уже сказал, Кади, человека и все живое создал Бог — таким, как оно есть. И душа, и чувство справедливости также исходят от Него. Ответ, который ты получаешь на свои вопросы, исходит от тебя самой, но также от Бога, потому что Он тебя создал такой, какая ты есть.
— Ты, стало быть, считаешь, что Бог говорит мне, по сути дела, через меня?
— Да, я так считаю, и тем, что мы сказали, Кади, мы уже очень многое доверили друг другу. Дай мне свою руку в знак того, что мы всегда будем доверять друг другу, и если один из нас встретится с трудностями и ему захочется о них рассказать другому, то мы оба, по крайней мере, будем знать, куда нужно идти.
Кади тотчас же протянула руку, и они долго сидели так, рука в руке, ощущая, как в них обоих растет ощущение удивительного покоя.
После этого разговора о Боге Ханс и Кади чувствовали, что между ними возникла дружба, гораздо более глубокая, чем кто-либо мог бы подумать. Между тем Кади уже настолько привыкла записывать в дневник все происходившее с ней, что постепенно смогла вполне описать свои чувства и мысли, за исключением тех, что имели отношение к Хансу. И вот она записала:
«Несмотря на то что у меня теперь есть друг, „настоящий“ друг, мне все же не всегда весело и радостно на душе. Неужели у всех людей так меняется настроение? Но если бы мне всегда было весело, я, вероятно, недостаточно думала бы о тех вещах, о которых действительно стоит думать.
Наш разговор о Боге не выходит у меня из головы, и часто бывает, что вдруг во время чтения, в постели или в лесу, я думаю: ну как же все-таки Бог говорит через меня? И тогда все мысли путаются у меня в голове.
Я верю, что Бог „говорит через меня“, потому что Он, до того как посылает людей в мир, каждому из них дает частицу Самого Себя. Эта частичка и есть то самое, что создает в людях различие между добром и злом, что отвечает на их вопросы. Эта частичка — та же природа, точно так же, как произрастание цветов и пение птиц.
Но Бог также дал людям желания и страсти, и во всех людях идет борьба между их желаниями и справедливостью. Ханс сказал: „Чувство справедливости также исходит от Бога“.
Но действительно ли все люди обладают чувством справедливости? В том числе и преступники? Я склонна думать, что оно есть и у них, но у таких людей желания мало-помалу одерживают верх, и поэтому страсти пересиливает чувство справедливости. Неужели люди могут превратить в ничто все, что Бог дал им как благо? Неужели от этого блага ничего не остается? Или даже самые страшные преступники, которые пагубны для всего мира, имеют в себе что-то такое, что раньше или позже может все-таки проявиться?
И все же с этим чувством справедливости часто не все в порядке, ибо что такое война, как не желание каждой из сторон оспорить право друг друга?
Война… и почему я вдруг подумала о войне? В последние недели ужасно много говорят о надвигающейся войне.
Но я еще не закончила.
Всем тем, кто признавал единственно лишь свое право, до сих пор не сопутствовала удача. Проходили годы, иногда очень много лет, и отдельные люди хотели вернуть свою свободу и свои права. Потому что если одно-единственное право распространяется на всех, это само по себе опять-таки несправедливо. Вообще-то право для всех людей Бог создал не на один лад; если же все они многие годы руководствуются только одним видом права, возникает угроза, что они утратят свое собственное. Но не все. В один прекрасный день стремление к свободе непременно снова одержит верх.
Я незаметно перешла от права к свободе, но я верю, что и то, и другое только совместно могут вырасти во что-то великое.
Кто знает, станут ли когда-нибудь люди больше прислушиваться к „частичке Бога“, которая называется совестью, чем к своим страстям!»
Между тем время для евреев не становилось лучше. В 1942 году судьба многих из них была уже решена. В июле начали вызывать и вывозить юношей и девушек старше шестнадцати лет. По счастью, о Мэри, подружке Кади, вероятно, забыли. Затем беда обрушилась не только на молодежь, всем пришлось это почувствовать. Осенью и зимой Кади видела страшные вещи. Вечер за вечером слышала она, как по улицам проезжали грузовики; раздавались крики детей и стук в дверь. При свете лампы менеер и мефроу ван Алтенховен и Кади смотрели друг на друга, и в их глазах читался вопрос: «Кого опять здесь не окажется завтра?»
Однажды вечером в декабре Кади решила сходить к Мэри и хоть как-то ее отвлечь. В этот вечер шума на улицах было больше, чем обычно. Кади позвонила к Хопкенсам три раза и успокоила Мэри, когда та, подбежав к двери, осторожно глянула наружу через окошечко. Кади вошла в комнату, где вся семья, уже наготове, сидела в тренировочных костюмах и с рюкзаками. Все были бледны, и никто не сказал ни слова, когда Кади вошла в комнату. Неужели им месяц за месяцем сидеть так каждый вечер с бледными, охваченными ужасом лицами? При каждом близком ударе захлопывающейся со стуком двери все вздрагивали. Эти удары символически говорили о том, что захлопнулась дверь чьей-то жизни.
В десять часов Кади попрощалась. Для нее не было смысла здесь оставаться: она не могла помочь этим людям, которые уже, казалось, находились в каком-то другом мире, не могла их отвлечь от своих мыслей. Только Мэри старалась держаться. Она кивала Кади время от времени и изо всех сил пыталась заставить своих сестер и родителей хоть что-нибудь съесть.
Мэри проводила ее до порога и заперла за нею дверь. Кади, с фонариком в руке, пошла домой. Она не сделала и пяти шагов, как, прислушавшись, остановилась: за углом она услыхала приближавшийся топот, словно шагал целый полк солдат. В темноте она ничего не могла различить, но очень хорошо знала, кто приближался и что все это значило. Кади прижалась к стене, погасила фонарик и надеялась, что ей удастся остаться незамеченной. Но вдруг перед ней остановился человек с пистолетом в руке и устремил на нее угрожающий взгляд. Лицо его не предвещало ничего хорошего.
— Mitgehen![15] — приказал он, и ее тут же грубо схватили и потащили.
— Я христианка, менеер, дочь уважаемых родителей! — отважилась она сказать. Она дрожала с головы до ног, не зная, что с нею сделают. Любой ценой нужно было убедить их посмотреть ее паспорт.
— Was ehrbar, zeig dein Beweis![16]
Кади достала паспорт из своей сумочки.
— Warum hast du das nicht gleich gesagt? — спросил человек, разглядывая его. — So ein Lumpenpack[17]. — И не успела она понять, что происходит, как ее швырнули на мостовую. В бешенстве, что ошибся, немец дал хорошего пинка «христианке». Не думая ни о боли, ни о чем другом, Кади встала и поспешила к дому.
После этого вечера прошла неделя. Кади не видела повода снова зайти к Мэри. Но однажды днем она улучила момент, не заботясь ни о делах, ни о прочих обязанностях. Еще не дойдя до квартиры Хопкенсов, она уже почти наверняка знала, что не застанет там Мэри, и действительно, приблизившись к дому, она увидела, что их дверь опечатана.
Гнетущая тоска охватила Кади. «Кто знает, — думала она, — где теперь Мэри». Она повернулась и пошла домой. Там она бросилась в свою комнатку и захлопнула дверь. Она рухнула на диван, как была в пальто, и все думала, думала о Мэри.
Почему Мэри куда-то отправили, а она могла оставаться здесь? Почему на долю Мэри выпал ужасный жребий, а она могла жить в свое удовольствие? В чем разница между ними? Разве она хоть сколько-нибудь лучше Мэри? Разве они обе не одинаковы? В чем Мэри провинилась? О, нет, какая ужасная несправедливость! И вдруг она ясно увидела хрупкую фигурку Мэри, запертой в тюремную камеру, в каких-то лохмотьях, с осунувшимся и исхудавшим лицом. Громадными глазами она смотрела на Кади, так печально и с таким упреком! Кади не могла больше этого выдержать. Она упала на колени и плакала, плакала, все ее тело содрогалось от рыданий. Она снова и снова видела глаза Мэри, ее взгляд молил о помощи — помощи, которую, Кади знала, она не могла оказать.
— Мэри, прости меня, Мэри, вернись…
Кади уже не знала, что говорить и что думать. Это горе, которое так ясно стояло перед ее глазами, нельзя было описать словами. В ушах Кади раздавался стук дверей, она слышала детский плач и видела перед собой отряд грубых, вооруженных людей, ничем не отличавшихся от тех, один из которых швырнул ее в грязь, и среди всего этого — беспомощную и одинокую Мэри. Мэри — точно такую же, как и она сама.
Фрагмент 1
Назавтра был обычный серый апрельский день. Дождь еще не начался, но барометр упал до самой низкой отметки. В десять часов Кади уже проснулась и услышала от сестры Анк более обстоятельный рассказ о случившемся. Ее слегка умыли, она съела немного каши и снова уснула. Так продолжалось четыре дня. Кади время от времени просыпалась, что-нибудь ела и засыпала снова. Боли она не испытывала, и, если не считать того, что она все еще вынуждена была лежать, чувствовала Кади себя совсем неплохо.
На четвертый день, в полдень, когда пришла мать, Кади в первый раз не спала. Мефроу ван Алтенховен до сих пор всегда заставала свою дочь спящей и, посидев с четверть часа у ее постели, уходила. Для нее было большим сюрпризом, когда Кади вдруг радостно с ней поздоровалась:
— Что, мама, пришла очередь и меня навестить?
— Дитя мое, но я же каждый день прихожу к тебе, лежебока. А ты все спишь!
— Я знаю, сестра Анк всегда передавала мне привет от тебя.
Мать и дочь не знали, о чем еще говорить друг с другом. Кади расспросила про друзей и соседей, и разговор оборвался. Через полчаса мефроу ван Алтенховен наклонилась к дочери и поцеловала ее:
— Ну, до свиданья, до завтра!
И она вышла. Мать Кади не считалась красивой женщиной, но лицо у нее было умное и решительное. Большой острый нос и карие проницательные глаза придавали ей холодность, и, когда она на кого-нибудь смотрела, взгляд у нее был неприятный. Когда она смеялась, обнажался ряд красивых зубов, и сразу становилось ясно, что лицо у нее совсем не холодное. Как выглядела ее мать, Кади никогда особенно не задумывалась, но сейчас ей показалось, что она идет, несколько переваливаясь. Хотя Кади ни за что на свете не высказала бы этого вслух, она не могла удержаться и про себя рассмеялась, все-таки укоряя себя, потому что, глядя на мать, невольно назвала ее старой гусыней.
Вечером, когда приближалось время посещений, Кади никогда не испытывала сонливости. Лежа в постели, она с нетерпением ожидала отца, никогда не забывавшего что-нибудь принести для нее. Букетик тюльпанов, фрукты — и пусть это была какая-нибудь мелочь, Кади так любила эти маленькие подарки! Когда дверь распахивалась и менеер ван Алтенховен входил в палату, глаза Кади вспыхивали, и он всегда мог оставаться с ней дольше, чем мать.
Отец Кади был спокойный, красивый мужчина, с густыми седыми волосами и голубыми глазами. На кого бы он ни смотрел, в его взгляде всегда таились теплота и веселье. Казалось, что для Кади это прямо-таки волшебное средство. Они с отцом могли сколько угодно просто спокойно сидеть, не говоря ни слова, радуясь только от того, что находятся вместе.
Сестра Анк, ухаживавшая за Кади, всегда смотрела с благодарностью на этого приветливого человека, который ни дня не пропускал, чтобы не доставить какой-нибудь радости своей дочери.
Сестре вовсе не была в тягость вверенная ей пациентка. Кади, которая во время лечебных процедур часто страдала от боли, никогда не жаловалась и вопреки всему была всегда довольна.
Фрагмент 2
Как сказала сестра Анк, так и вышло. В воскресенье в три часа дня к Кади впервые пришла юная посетительница. Это была высокая девочка, некрасивая, но с приятным, веселым лицом. Она спросила у портье Каролину Доротею ван Алтенховен.
— О, вам нужна эта милая девочка, которую зовут Кади, — третья дверь направо, палата номер четыре.
Кади заслужила симпатию портье тем, что кулек конфет, которые ей принесли, попросила раздать всей больнице, так что и сестрам, и пациентам — тем, которым разрешалось есть сладкое, — досталось по две конфеты. Вот почему Кади даже среди тех, кто ее вовсе не знал, стала известна как «эта милая девочка Кади».
Между тем посетительница подошла к двери ее палаты и постучала. Сестра Анк открыла дверь и спросила:
— Ты, наверно, Греет? Входи-ка.
— Привет, Греет, входи, не бойся, я вроде еще цела!
Кади была в восторге, что увидит кого-то другого, а не всех этих сестер с их серьезными лицами.
— Ну, Кади, как дела?
Греет явно была в замешательстве, и сестра Анк, чтобы дать ей освоиться, вышла из палаты.
Когда чуть позже она вернулась, то еще издали услыхала доносившийся из палаты смех. Она быстро распахнула дверь и воскликнула:
— Тссс! Потише, девочки!
— О, сестра, я просто не могу, вы только послушайте, какую штуку они выкинули в школе! Какая жалость, что меня там не было!
И сестра Анк выслушала полный отчет, со всеми подробностями.
Когда Греет в полчетвертого ушла, Кади чувствовала себя смертельно уставшей, но была очень довольна, и это самое главное, потому что спать она могла вволю.
Но, вообще говоря, недели текли довольно однообразно.
Фрагмент 3
Третьего сентября покой в санатории — впервые с тех пор, как Кади туда попала, — был нарушен.
В час дня, когда она как раз слушала через наушники новости по радио, ее ужасно напугало сообщение диктора А. & В. о том, что премьер-министр Чемберлен объявил войну Германии. Кади никогда не интересовалась политикой, что вполне естественно для четырнадцатилетней девочки, и ее никак не затрагивало то, что происходило в далеких странах. Но тут она смутно почувствовала, что объявление войны может коснуться и ее тоже. Когда после мертвого часа разносили чай, сестра рассказала об этом и другим пациентам.
В палате, где лежала Кади, находились только те, кто уже шел на поправку.
За день до объявления войны в палате появилась новая дама. Ее кровать стояла рядом с кроватью Кади. Со своей соседкой Кади не обменялась ни словом, кроме пожеланий «Доброго утра!» и «Спокойной ночи!», но теперь между ними сам собой завязался разговор.
Когда сестра сообщила эту новость, со всех сторон послышались восклицания, и только соседка Кади молчала. Кади не могла не обратить на это внимания, а когда увидела, что слезы текут по лицу этой еще молодой женщины, почувствовала к ней жалость и сострадание. Кади не осмеливалась задать ей вопрос, боясь задеть женщину, глубоко погруженную в свои мысли. Позже, когда Кади читала, рядом послышались всхлипы. Быстро отложив книгу в сторону, она участливо спросила:
— Я позову сестру? Вам нехорошо?
Женщина повернула к ней заплаканное лицо. Окинув Кади взглядом, она сказала:
— Нет, дитя мое, не нужно. Моему горю не поможет ни сестра, ни лекарство.
Но от этих слов Кади стало жаль ее еще больше. Женщина казалась такой подавленной, такой безутешной, что Кади никак не могла оставаться безучастной.
— Может быть, тогда я смогу вам помочь?
Женщина откинулась на подушки, приподнялась снова, вытерла платком слезы и посмотрела на Кади с признательностью.
— Я вижу, что ты спрашиваешь не из любопытства. Хотя ты еще совсем девочка, я расскажу тебе о своем горе. — Она на минуту запнулась, посмотрела невидящим взором вокруг и продолжила: — Мой сын. Это из-за моего сына. Он в Англии в интернате и уже должен был вернуться в следующем месяце, и вот, вот…
Рыдания не давали ей говорить, но Кади закончила ее фразу:
— Теперь он не сможет вернуться?
Женщина чуть кивнула в ответ:
— Кто знает, сколько продлится война и что там случится. Из всего услышанного я вижу, что несколькими месяцами здесь дело не обойдется. Война всегда длится гораздо дольше, чем думают.
— Но пока что, кроме Польши, ведь нигде не воюют? Не нужно так уж бояться. Ведь о вашем сыне заботятся.
Хотя Кади ничего не знала о ее сыне, она хотела, чтобы соседка хоть что-нибудь ей ответила, пусть даже грустное, только бы не молчала. Однако женщина вообще не отозвалась на ее замечание.
— После каждой войны всегда говорят: это никогда больше не повторится, война — такой ужас, любой ценой нужно избежать ее повторения. И вот люди снова воюют друг с другом, и никогда не бывает иначе. Пока люди живут и дышат, они должны постоянно ссориться, и как только наступает мир, они опять ищут ссоры.
— Не знаю, я никогда не переживала войны, и… мы же ведь не воюем, до сих пор война нас не затронула. То, что вы рассказываете о своем сыне, конечно, несчастье, но после войны, я надеюсь, вы увидите друг друга здоровыми и невредимыми. Но… погодите, а почему ваш сын не может вернуться? Сообщение между Англией и Голландией ведь не прервано? Спросите у доктора, он наверняка должен знать. Если ваш сын захочет уехать, он всегда может вернуться домой!
Никогда еще Кади не приходилось видеть, чтобы выражение лица у человека так быстро менялось!
— Ты правда так считаешь? Я об этом и не подумала. Вон идет сестра, я спрошу у нее.
Она поманила сестру, и та подошла к ним.
— Сестра, — спросила женщина, — не знаете ли, не приостановлено ли сообщение между Англией и Голландией?
— Ни в коем случае. Вы собираетесь в Англию?
— О нет, я не об этом. Тысяча благодарностей!
Бросив на Кади еще один благодарный взгляд, женщина отвернулась и стала обдумывать, что написать своему сыну.
Примечания
1
СД (сокр. нем. Sicherheitsdienst — Служба безопасности в нацистской Германии (Здесь и далее, если не указано иное, примеч. переводчика.).
(обратно)
2
Вымышленный адресат «Дневника» Анны Франк.
(обратно)
3
Прозвище Отто Франка, отца Анны.
(обратно)
4
От друга Р. (фр.).
(обратно)
5
Отметки 5/6 и 4/5 означают соответственно «между пятью и шестью» и «между четырьмя и пятью» — низкие баллы в голландской системе школьных оценок.
(обратно)
6
Первый класс лицея, вторая группа.
(обратно)
7
Любопытная оговорка; известное выражение звучит ровно наоборот.
(обратно)
8
Определенное, предписанное количество работы (лат.).
(обратно)
9
Когда часы бьют полдевятого (нем., последнее слово частично написано по-голландски).
(обратно)
10
Katje — киска (нидер.).
(обратно)
11
Artis — зоологический сад в Амстердаме.
(обратно)
12
Шуточное обыгрывание голландского natuurlijke historie (естественная история): слово natte означает «описавшийся».
(обратно)
13
Фамилию учительницы Бихел (Biegel), с долгим «и», папа произносил кратко: Биггел (Biggel), что означает «поросеночек».
(обратно)
14
Пропуск в рукописи (Примеч. нидерл. издателя.).
(обратно)
15
Увести! (нем.).
(обратно)
16
Уважаемых? Покажи паспорт! (нем.).
(обратно)
17
Почему не сказала сразу?… Сволочь (нем.).
(обратно)
Оглавление
Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg
Анна Франк
От переводчика
Издано при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям в рамках Федеральной целевой программы «Культура России».
Издательство благодарит за содействие Фонд издания и перевода нидерландской литературы.
* * *
Читатели всего мира давно знакомы с «Дневником» Анны Франк, описывающим жизнь случайно образовавшегося сообщества из восьми человек, евреев, которые более двух лет безвылазно скрывались в своем амстердамском Убежище перед тем как их отправили в концлагерь.
Книга «Рассказы из Убежища» значительно расширяет и углубляет наши представления о самой Анне Франк, о которой, казалось бы, мы всё уже знаем. Но кроме того, она дает новое понимание отношения человека к истории.
Эта книга, так же как и «Дневник», абсолютно уникальна тем, что каждый из нас неминуемо читает ее с конца. Это качество превращает ее в поразительный детективный роман, где читатель, поневоле зная конец, вопреки собственному рассудку, в извечном протесте против неотвратимости смерти настойчиво убеждает себя в том, что здесь этот конец все-таки будет другим!
Читая эту книгу, мы проникаемся таким чувством бессмертия, что смерть «литературных» персонажей, в число которых входит и автор — сама Анна Франк, — физическая их смерть, как будто меркнет для нас, кажется неправдоподобной. Но вместе с этим мы не можем не понимать, что чувство бессмертия, с такою энергией излучаемое книгой и охватывающее читателя, парадоксально поддерживается именно тем, что мы изначально знаем, какой ужасный конец уготован был этим людям, совсем не похожим на литературных героев.
Анна Франк настолько живо и с такой непосредственностью запечатлевает доступную ей действительность, что всякая преграда между текстом и нашим восприятием этого текста полностью исключается. Наш собственный инстинкт жизни, чувство самосохранения не позволяют допустить — именно потому, что мы знаем, чем все это кончилось, — что эта живая действительность вообще может исчезнуть. Она описана с такими подробностями, вплоть до таких мелочей, что поневоле кажется сном. Это такой реализм, который по самой своей природе становится сюрреализмом. Не фантасмагорическим сюрреализмом Дали, а устрашающим сюрреализмом Платонова — с той, однако, разницей, что у Платонова это искусство, открывающее нам иные миры, а у Анны Франк — белая магия, побуждающая нас открывать в самих себе наше второе «я».
Вчитываясь в мельчайшие подробности жизни обитателей Убежища и отношений, возникающих между ними, мы бессознательно включаем все это в свой собственный опыт, автоматически отождествляем с собою и со своими реакциями. Таким образом, и «Дневник», и сюжеты этой книги неизбежно становятся убийственно жестокой, но и окрыляющей машиной времени.
«Рассказы из Убежища» — мимолетные зарисовки и милые детские сказки, написанные с живым чувством и искренностью. Литературное мастерство автора не может не вызывать нашего изумления.
Поражает, насколько серьезно Анна Франк, в сущности еще девочка, судит (язык не поворачивается сказать: судила) о вопросах морали и свободы воли. Ее богословские рассуждения возвращают нас непосредственно к Книге Иова.
Написанное Анной Франк читали и будут читать миллионы людей. В амстердамское Убежище, превращенное в музей, всегда стоит длинная очередь — в большинстве своем молодежь. Разве это не свидетельство чуда, совершенного девочкой-подростком, вложившей все наши жизни в двадцать пять месяцев своего заточения!
* * *
В нидерландском издании помещено введение Герролда ван дер Строома с кратким обзором всего написанного Анной Франк («Дневник», «Рассказы из Убежища», начало романа «Жизнь Кади»), Первая публикация «Дневника» (в сокращении) состоялась в Нидерландах в 1947 г. Понадобилось несколько десятков лет, чтобы опубликовать все ее наследие полностью.
Анна Франк родилась в Германии во Франкфурте-на-Майне 12 июня 1929 года. Свой первый «Дневник» она начала вести в Голландии в амстердамском Убежище в день своего тринадцатилетия, 12 июня 1942 г. Сохранилось несколько версий этого дневника; последняя запись сделана
1 августа 1944 г., за три дня до ареста.
Во введении Г. ван дер Строома мы читаем: «Анна Франк, ее семья и четверо других затворников в доме на Принсенхрахт, 263, в Амстердаме были арестованы 4 августа 1944 г. в результате предательства. К этому времени они уже более двух лет тайно скрывались в своем Убежище. Из-за внезапного вторжения СД[1] Анна, конечно, не имела возможности разобрать свои рукописи, спрятать их в надежное место или, в крайнем случае, уничтожить. Подобную судьбу она разделяет с другими авторами, имевшими несчастье уйти из жизни или в юности, или так же внезапно: с Вергилием, Шелли, Кафкой… Ей, однако, выпал более жестокий жребий: она умерла в конце февраля или начале марта 1945 г. в ужасных условиях в концентрационном лагере Берген-Бельзен».
Помимо «Дневника», до нас дошла небольшая книжка «Замечательные высказывания», куда Анна переписывала понравившиеся ей цитаты — из трагедии Гёте «Эгмонт», из «Школы князей» Мультатули, из произведений средневекового нидерландского поэта Якоба ван Марланта, «Саги о Форсайтах» Джона Голсуорси и др. Кроме того, сохранилась воспроизводимая здесь тетрадь, названная Анной «Коротенькие рассказы и Происшествия из Убежища», а также отдельные разрозненные заметки и четыре коротких рассказа, написанных на отдельных листках. Как отмечает Г. ван дер Строом, «Анна начала писать рассказы в возрасте тринадцати с половиной лет — спустя полгода после того, как приступила к своему „Дневнику“, — и писала их почти до пятнадцати лет. Старше пятнадцати она уже не была никогда».
Анна работала и над романом «Жизнь Кади». Читаем у Г. ван дер Строома: «То, что роман остался неоконченным, можно ясно заключить как из дошедшего до нас текста, так и из обозначенной Анной линии повествования. Но почему она его не окончила: из-за препятствий, которые, вероятно, испытывала при писании, или же из-за ареста SD — установить уже невозможно».
«Вероятно, он никогда не будет окончен или попадет в корзину для мусора или в печку», — опасалась Анна в апреле 1944 г. Первый страх оправдался, второй — нет.
Когда именно Анна приступила к рукописи своего романа, нам не известно. Во всяком случае, 17 февраля 1944 г. она дала прочитать семнадцатилетнему Петеру ван Пелсу, одному из обитателей Убежища, «кусок про Кади и Ханса о Боге»; отрывок охватывает почти половину ее — незаконченного — романа, который тогда насчитывал 23 страницы. «Я… хотела дать ему убедиться, что описывала вовсе не только всякие забавные вещи». Два месяца спустя она жалуется своей Китти[2]: «Многое из „Жизни Кади“ неплохо, но в целом все это ерунда!» И признается: «Над Кади я уже давно не работала, в мыслях я точно знаю, как оно будет дальше, но все что-то не ладится». Еще месяц спустя она описывает суть продолжения, и заканчивает интригующей фразой: «Это вовсе не сентиментальная чепуха, потому что здесь переработан роман о жизни отца».
Читать дальше
Рассказы из Убежища
СкачатьЧитать онлайн
Анна Франк, еврейская девочка, погибшая в концлагере Берген-Бельзен, стала известна во всем мире благодаря дневнику, который она вела в Амстердаме, прячась с семьей от нацистов. В России книга «Убежище. Дневник в письмах» за последние годы четырежды выходил в издательстве «Текст». Кроме дневника Анны сохранилось несколько десятков ее рассказов, сказок, набросков и даже неоконченный роман. Они и составили эту книгу. «Рассказы из Убежища» написаны с живым чувством и искренностью, а литературная зрелость их юного автора вызывает изумление.
На русском языке издается впервые.
Скачать книгу «Рассказы из Убежища»
О книге
Любой человек ежедневно сталкивается с множеством дел, и иногда так не хватает времени на отдых. Часто на выручку приходит книга. Литература показывает, сколь различны и многовариантны судьбы людей, и ты осознаёшь, что ты – только часть огромного мира.
В современной литературе книга Анна Франк «Рассказы из Убежища» занимает почетное место. Это книга, в которой можно найти для себя полезные мысли и сделать выводы, наблюдая за поступками героев. Читая, понимаешь, что герои – такие же люди, что у них есть такие же переживания и чувства, и это вызывает ещё больший отклик в душе.
И важно, что всё, о чем пишет автор, вызывает интерес в любое время, потому что об этом думает каждый. Это такое произведение, которое приносит не только удовольствие при чтении, но и развивает духовно. После прочтения книги понадобится ещё какое-то время, чтобы осмыслить рассказанное и сделать выводы для себя. Книга была выпущена издательством «Текст» в 2007 году, её объём составляет 32 страницы. Книгу «Рассказы из Убежища» можно скачать на нашем сайте в формате epub, fb2 или читать онлайн.
Популярные книги жанра «Классическая художественная проза»
С этой книгой читают
РассказыЗахар Прилепин
В сборник вошли рассказы «Грех», «Убийца и его маленький друг», «Сержант», «Карлсон» и повесть «Какой случится день недели».
Сто рассказов из русской историиАлексеев Сергей Петрович
В книге, написанной живым, образным языком, перед читателем предстанут яркие картины исторического прошлого нашей Родины — России, люди, оставившие в ее истории…
Полное собрание рассказов в одном томе.Шукшин Василий Макарович
Под пером выдающегося писателя Василия Макаровича Шукшина (1929–1974) оживает целая галерея образов русского характера. Герои его рассказов – странные непутевые люди,…
Последний поклон Астафьев Виктор Петрович
В очередной том серии «Проза века» вошла лирическая повесть в рассказах известного российского писателя В.Астафьева «Последний поклон». В ней писатель воссоздает жизнь…
Рассказы и повести Токарева Виктория Самойловна
СОДЕРЖАНИЕ01. О том, чего не было02. Уж как пал туман…03. Зануда04. Закон сохранения05. «Где ничто не положено»06. Будет другое лето07. Рубль шестьдесят — не…
Фиалки по средам Андре Моруа
Предлагаем вашему вниманию сборник рассказов Андре Моруа «Фиалки по средам».
Опальные рассказыЗощенко Михаил Михайлович
В книгу вошли яркие и характерные произведения писателя, в них пародийны и герои, и художественное пространство, в котором они живут, и рассказчик, ведущий…
Дом с призраками. Английские готические рассказыЭлизабет Гаскелл, Эдит Уортон, Джозеф Шеридан Ле Фаню, Чарльз Диккенс, Бенсон Эдвард Фредерик, Уильям Уилки Коллинз, Генри Джеймс, Блэквуд Элджернон Генри, Бульвер-Литтон Эдвард Джордж, Мотегью Роудс Джеймс
В антологию, предлагаемую вниманию читателей, вошли рассказы и новеллы английских и американских писателей XIX–XX веков, посвященные пугающим встречам человека со…
Дневник в письмах: 12 июня 1942 — 1 августа 1944
Оглавление
Об этой книге
Вместо предисловия
Дневник Анны Франк
Послесловие
Из книги Мип Гиз «Воспоминания об Анне Франк
Карол Анн Лей. Последние дни Анны Франк
Об этой книге
Дневник голландской девочки Анны Франк — один из наиболее известных и впечатляющих документов о зверствах фашизма — сделал ее имя знаменитым на весь мир.
Анна вела дневник с 12 июня 1942 по 1 августа 1944 года. Сначала она писала только для себя, пока весной 1944 года не услышала по радио выступление министра образования Нидерландов Болкенштейна. Тот сказал, что все свидетельства нидерландцев периода оккупации должны стать всенародным достоянием. Под впечатлением от этих слов Анна решила после войны издать книгу, в основу которой лег бы ее дневник.
Анна стала переписывать свои заметки, при этом она что-то изменяла, опускала куски, казавшиеся ей неинтересными, и прибавляла из своих воспоминаний новые. Наряду с этой работой она продолжала вести первоначальный дневник, последняя запись которого датирована 1 августа 1944 года. Три дня спустя, четвертого августа, восемь обитателей Убежища были арестованы немецкой полицией.
Мип Гиз и Беп Фоскейл подобрали Аннины записки сразу после ареста. Мип хранила их в ящике стола конторы и отдала отцу девочки Отто Франк, когда о смерти Анны стало достоверно известно.
Первоначально Франк не ставил перед собой цели опубликовать дневник, но позже решился на это, поддавшись советам и уговорам друзей. Из первоначального дневника и второй его версии он составил новый сокращенный вариант, опубликованный в 1947 году. В то время не было принято открыто говорить на сексуальные темы, поэтому соответствующие отрывки Отто Франк не включил в издание. Также он опустил пассажи, в которых Анна негативно отзывалась о своей матери и других обитателях Убежища. Ведь она писала дневник в сложный возрастной период — между тринадцатью и пятнадцатью годами — и выражала как симпатии, так и антипатии прямо и открыто.
Отто Франк умер в 1980 году. Оригинал дневника Анны он завещал Амстердамскому государственному институту военной документации. Институт провел расследование, установившее несомненную подлинность записей, после чего был издан новый вариант «Убежища», представляющий из себя комбинацию двух Анниных версий. Последняя публикация конца девяностых годов дополнена записью 8 февраля 1944 года и еще некоторыми пассажами, не известными до сих пор широкой публике.
Во второй версии дневника Анна всем действующим лицам, включая себя, дала псевдонимы. Отто Франк сохранил их частично в первом издании, оставив за членами своей семьи настоящие имена. В последующих публикациях истинные имена сохранены также у помощников обитателей Убежища, получивших к тому времени мировую известность. Из псевдонимов остались лишь Альберт Дюссель и Августа, Герман и Петер ван Даан. Соответствующие им истинные имена приведены ниже.
Семья ван Пелс
Августа (род. 29-9-1900), Герман (род. 31-3-1898) и Петер (род. 9-11-1929) ван Пелс представлены в этой книге как Петронелла, Герман и Петер ван Даан.
Фриц Пфеффер (род. в 1889) представлен под псевдонимом Альберт Дюссель.
Вместо предисловия
Детство
Анна Франк родилась 12 июня 1929 г. во Франкфурте-на-Майне, в еврейской семье. Отец Анны, Отто Франк, был офицером в отставке, мать, Эдит Холландер Франк, — домохозяйкой. Сама Анна была младшим ребёнком в семье Франк. Старшая сестра Анны, Марго Франк родилась 16 февраля 1926 года.
После прихода Гитлера к власти в стране и победы НСДАП на муниципальных выборах во Франкфурте в 1933 году Отто Франк эмигрирует в Амстердам, где становится директором акционерного общества Opekta. В сентябре того же года в Амстердам переезжает мать Анны. В декабре к ним присоединяется Марго, а в феврале 1934 года — и сама Анна.
До шести лет Анна Франк посещала детский сад при школе Монтессори, потом пошла в первый класс этой школы. Там она проучилась до шестого класса, а потом перешла в Еврейский лицей.
Памятник Анне Франк в Амстердаме
Жизнь в убежище
В мае 1940 г. Германия оккупировала Нидерланды, и оккупационное правительство начало преследовать евреев.
В июне 1942 через несколько дней после тринадцатилетия Анны Франкам приходят повестки в гестапо на имена Отто и Марго. После чего 6 июля Франки переселились в убежище, устроенное сотрудниками производящей джемовые примеси и добавки фирмы «Опекта», в которой работал Отто Франк, по адресу Принсенграхт 263.
Как и другие здания Амстердама, стоящие вдоль каналов, дом номер 263 на набережной Принсенграхт состоит из парадной и задней части. Офис и помещение хранилища занимают переднюю часть строения. Задняя часть дома — нередко пустующее помещение. Вот его-то с помощью своих подчинёных Виктора Кюглера, Йоханнеса Клеймана, Мип Хиз и Беп Фоскёйл и облюбовал Отто Франк под будущее убежище. Вход был замаскирован под шкаф с документами.
13 июля к ним присоединилась семья Ван Пельс из Оснабрюка в составе Германа ван Пельса, его жены Августы и сына Петера.
16 ноября 1942 года в убежище принимается восьмой житель — дантист Фриц Пфеффер.
В убежище Анна вела дневник в письмах. Эти письма она писала вымышленной ею подруге Китти. В них она рассказывала Китти, всё что происходило с ней и с другими обитателями убежища каждый день. Свой дневник Анна назвала Het Achterhuis (В заднем доме). В русской версии — «Убежище». Первую запись в дневнике Анна сделала в день своего рождения, 12 июня 1942 года, когда ей исполнилось 13 лет. Последнюю 1 августа 1944 года.
Сначала Анна вела дневник только для себя. Весной 1944 года она услышала по нидерландскому радио Оранье (редакция этого радио эвакуировалась в Англию, откуда вещала вплоть до конца войны) выступление министра образования Нидерландов Болкестейна. В своей речи он призывал граждан сохранять любые документы, которые станут доказательством страданий народа в годы фашистской оккупации. Одним из важных документов были названы дневники.
Под впечатлением от выступления Анна решила на основе дневника написать роман. Она тут же начинает переписывать и редактировать свой дневник. Параллельно она продолжает пополнять первый дневник новыми записями.
Обитателям убежища Анна, включая себя, дает псевдонимы. Себя она хотела сначала назвать Анной Аулис, потом Анной Робин. Семейство Ван Пельс Анна назвала Петронеллой, Гансом и Альфредом Ван Даан (в некоторых изданиях — Петронелла, Герман и Петер Ван Даан).
Арест и депортация
В 1944 году власти получили донос на группу скрывавшихся евреев, и 4 августа дом, где пряталась семья Франк, был захвачен полицией. Семья Франк была помещена в транзитный концентрационный лагерь Вестерборк, откуда 3 сентября они были депортированы в Освенцим. В октябре Анна и Марго были перевезены в Берген-Бельзен. В начале марта 1945 года обе сестры с разницей в несколько дней умерли от тифа. Точные даты их смерти неизвестны. 12 марта 1945 года англичане оcвободили Берген-Бельзен.
Единственным членом семьи, выжившим в нацистских лагерях, был отец Анны Отто Франк. После войны он вернулся в Амстердам, а в 1953 году переехал в Базель (Швейцария). Он умер в 1980 году.
Физические анализы блокнотов, бумаги и чернил доказывают, что все эти предметы были подлинными и соответствуют тому времени. Почерк и надписи печатными буквами в дневнике точно совпадают с другими известными записями, выполненными рукой Анны Франк. Дневник — не подделка, он написан рукой Анны Франк.
Версия Отто Франка точно воспроизводит записи его дочери. В первой редакции Отто Франк опустил некоторые сугубо личные вещи — такие, как высказывания Анны в отношении ее матери. Впоследствии эти тексты были восстановлены.
Доносчик
В 1948 году амстердамская полиция начала процедуру по розыску предателя. Согласно полицейским отчетам такой человек существовал, но его имени не знал никто. Было известно лишь, что за каждого еврея он получил награду в семь с половиной гульденов. Поскольку господин Франк отказался участвовать в расследовании, оно было прекращено, но в 1963 году начато снова. Дневник к тому времени приобрел мировую известность, и со всех сторон поступали требования о том, что предатель, по вине которого погибли невинные люди, должен быть найден и наказан.
Обычно называют трёх возможных доносчиков: работник склада Виллем ван Маарен, уборщица Лена Хартог или помощник отца Анны по бизнесу, член Голландской нацистской партии Антон (Тони) Ахлерс.
Мирьям Пёльцер, выпустившая в 1998 биографию Анны, наоборот, считает, что Виллем ван Марен по случайности узнал о наличии нелегалов и рассказал обо всём уборщице Лене ван Блаарден Хартог. Обоих преследовал страх: ведь если в гестапо узнают о беженцах, то несдобровать было всем, кто работал в «Опекте». К тому же у Лены Хартог сын уже подвергся аресту и она боялась, что тогда пострадает и её муж. Другое дело, если донос сделает человек, работающий в фирме. Мирьям Пёльцер считает, что именно это обстоятельство вынудило Лену Хартог сделать звонок в гестапо.
Однако в 2002 одна книга спровоцировала неожиданное признание вины — правда, не самим предателем, а его близкими. По данным автора публикациии, Анну Франк предал знакомый её отца. Его звали Тонни (Антон) Аллерс.
Публикации дневника
На русском языке впервые записи, с некоторыми сокращениями, под названием «Дневник Анны Франк» были опубликованы в 1960 году (перевод Р. Райт-Ковалёвой, предисловие И. Эренбурга).
Дневник Анны Франк
12 июня 1942
Очень надеюсь, что смогу тебе все доверить так, как не доверяла еще никому, а от тебя жду помощи и поддержки.
28 сентября 1942 (публикуется впервые)
Ты мне очень помогаешь, ты и Китти. Вести дневник в письмах очень здорово, и часто я не могу дождаться свободной минутки, чтобы снова писать.
О, как я рада, что взяла тебя с собой!
Воскресенье, 14 июня 1942
Начну с того момента, когда увидела тебя на столе среди других подарков ко дню рождения. (То, что я накануне сама выбрала тебя в магазине, не имеет значения).
В пятницу 12 июня я проснулась в шесть утра. И не удивительно, ведь это был день моего рождения! Но встать так рано я не могла, так что пришлось усмирять свое любопытство до без четверти семь. Терпеть дольше было невозможно, и я спустилась в столовую, где меня радостно приветствовал наш кот Морши. В семь часов я заглянула к маме с папой, а потом в гостиную, чтобы рассмотреть подарки. Первым увидела тебя — мой самый лучший подарок.
Еще были букет роз и два букета пионов. От родителей я получила голубую блузку, настольную игру и бутылку виноградного сока, которое, по-моему, напоминает по вкусу вино (вино ведь тоже делают из винограда), настольную игру, баночку крема, 2.5 гульдена и талон на две книжки. Еще книгу «Камера Обскура», которую я, правда, поменяла, потому что она уже есть у Марго, домашнее печенье (испеченное, разумеется, мною, я — мастерица по печенью!), много сладостей и мамин клубничный торт. А также письмо от бабули, пришедшее именно в этот день, случайно, разумеется.
Потом за мной зашла Ханнели, и мы отправились в школу. На перемене я угостила учителей и учеников печеньем, а в остальном это был обычный школьный день. Вернулась домой я только в пять часов. Я была на уроке гимнастики, обычно меня к ней не допускают из-за частых вывихов рук и ног.
Но сегодня я, как именинница, даже имела право решать, во что мы будем играть, и я выбрала волейбол! Дома меня уже ждала Санна Ледерман и Ильза Вагнер. Ханнели Хослар и Жаклин ван Марсен пришли после физкультуры вместе со мной, поскольку мы учимся в одном классе. Ханнели и Санна были раньше моими лучшими подругами, и о нашей тройке часто говорили: «Вот идут Анна, Ханна и Санна». С Жаклин ван Марсен я познакомилась в еврейском лицее, и с тех пор она стала моей лучшей подругой. Ханнели теперь дружит с Ильзой, а Санна учится в другой школе, и дружит там со своими одноклассницами.
Девочки подарила мне прекрасную книжку «Голландские сказки и легенды», но по ошибке купили второй том, так что две другие подаренные книги я обменяла на первый. От тети Хелены я получила головоломку, от тети Стефани хорошенькую брошку, а от тети Ленни еще одну книжку «Каникулы Дэйзи в горах».
Сегодня утром, сидя в ванне, я мечтала о собаке той же породы, как Рин-тин-тин [1]. Я бы тоже назвала ее Рин-тин-тин и всегда брала бы с собой в школу. Во время уроков она ждала бы меня в подвале, а в хорошую погоду — у стоянки велосипедов.
Понедельник, 15 июня 1942
Мой день рождения отмечали в воскресенье. Посмотрели фильм о Рин-тин-тине — все в полном восторге! Мне подарили две брошки, закладку и две книги. Но сейчас я хочу рассказать о своем классе и вообще о школе.
Начну с учеников. Бетти Блумендаль выглядит довольно бедно. Если не ошибаюсь, она живет на улице Яна Классена в западной части города. Никто из нас там не бывал. Она хорошая ученица, главным образом, благодаря своему прилежанию, но умной и сообразительной ее никак не назовешь. Она очень тихая девочка.
Жаклин ван Марсен считается моей лучшей подругой, но в действительности настоящей подруги у меня еще никогда не было. В начале мне казалось, что ею станет Джекки, но эти мечты, к сожалению, не сбылись.
Д.К. — девочка очень нервная, постоянно все забывает, и ее все время наказывают. При этом она милая и доброжелательная.
Е.С. — страшная болтунья, что часто действует на нервы. Если она тебя о чем-то спрашивает, то обычно хватает рукой за волосы или пуговицы. Мне говорили, что Е. терпеть меня не может. Что ж, невелика беда, и мне она мало симпатична.
Хенни Метс — веселая и приятная, но слишком громко говорит и часто ведет себя как маленький ребенок. Жаль, что Хенни дружит с Беппи, которая (нахалка и грязнуля!) влияет на нее далеко не лучшим образом…
И.Р. — вот о ком можно написать целую книгу! И. — скрытная, лицемерная, подозрительная и вообще противная девчонка! И при этом совершенно подчинила себе Джекки, что мне очень досадно… Чуть что, и И. разражается слезами, этакая неженка и воображала! Наша мадемуазель И. всегда права. Денег у ее родителей полно, шкаф ломится от элегантных нарядов, в которых И. похожа на взрослую даму. Мадемуазель воображает, что она красавица, и напрасно… Я просто ненавижу ее, и она отвечает мне тем же!
Ильза Вагнер — добрая и веселая, но может часами ныть об одном и том же. Ильза очень привязана ко мне. Она умна, но ленива.
Ханнели Хослар или Лиз, как ее обычно называют в школе, имеет очень своеобразный характер. Ее все считают застенчивой, зато у себя дома ей палец в рот не клади. Обо всех известных ей чужих секретах она рассказывает маме. Но я ценю Ханнели за открытость и честность, особенно в последнее время.
Эйфи де Йонг — девочка особая. Ей всего двенадцать лет, но она воображает себя взрослой дамой и обращается со мной, как с младенцем. Но всегда готова прийти на помощь, поэтому она мне нравится.
Х.З. — самая красивая в нашем классе, но при хорошеньком личике изрядная тупица. Боюсь, она останется на второй год, хотя не говорю ей этого, конечно.
Кстати, с Х.З. я сижу за одной партой.
А теперь после наших двенадцати девочек перехожу к мальчикам. О них можно сказать много, хотя по сути — мало.
Мауриц Костер — один из моих многочисленных поклонников, довольно стеснительный.
Салли Спрингер — порядочный нахал, и о нем ходят разного рода сомнительные слухи. Тем не менее, он мне нравится, с ним можно посмеяться!
Эмиль Боневит влюблен в Х.З., которая отвечает ему полным равнодушием… С ним всегда скучно.
Роберт Коен был когда-то в меня влюблен, но сейчас я его не выношу. Ханжа, плакса, враль и зануда и при этом чересчур самоуверенный.
Макс ван Фелде — типичный провинциал, но вполне подходящий, как сказала бы Марго.
Херман Коопман — невероятный нахал, так же как и Йоппи Беер, который только и знает, что бегает за девчонками.
Лео Блум, лучший друг Йоппи Беера, и у него такой же невыносимый характер.
Альберт де Месквита пришел к нам из шестой школы Монтиссори, где он из второго класса сразу перешел в четвертый. Очень способный.
Лео Слагер из той же школы, но далеко не так умен.
Ру Стоппелмон, маленький задира из Алмео, поступил в наш класс позже.
Ц.Н. делает все, что запрещено.
Жак Коцернот и Ц.Н. сидят как раз за нами и смешат нас (Х.З. и меня) до коликов.
Харри Схаап, пожалуй, самый достойный уважения мальчик в нашем классе. И к тому же он очень мил.
То же самое можно сказать о Вернере Йозефе, только он слишком тихий, отчего кажется скучным.
Сам Соломон — асоциальный тип и на редкость противный мальчишка! (при этом мой поклонник).
Аппи Рим — такое же ничтожество, хотя очень религиозный.
Что ж, на сегодня хватит. В следующий раз мне есть, что написать, точнее, рассказать тебе. И это меня очень радует!
Суббота, 20 июня 1942
Кажется, что вести дневник — совсем не мое занятие. Ведь до сих пор мне это и в голову не приходило, а главное, кому в будущем, в том числе, мне самой будет интересно жизнеописание тринадцатилетней школьницы? Но как бы то ни было, я люблю писать, а главное — становится легче, когда изложишь на бумаге свои горести и проблемы.
«Бумага все выдержит». Эта пословица однажды всплыла в моей голове, когда я, меланхолично, положив голову на руки, никак не могла решить — остаться мне дома или куда-то пойти — и в итоге не делала ничего.
Действительно, бумага терпелива, но я ведь не собираюсь кому-то дать почитать эту конторскую книгу с высокопарным названием «дневник»! Разве что только настоящему другу или настоящей подруге, а пока никто не относится ко мне серьезно. Это, в сущности, и побудило меня вести дневник: у меня нет подруги.
Об этом я должна написать подробнее, ведь кто поверит, что тринадцатилетняя девочка одинока в целом мире. А это, действительно, неправда, если взглянуть со стороны. У меня замечательные родители и шестнадцатилетняя сестра, я насчитала не менее тридцати знакомых, которые считаются моими подругами. Куча поклонников, которые глаз с меня не сводят, и даже пытаются во время уроков с помощью карманного зеркальца поймать мою улыбку. У меня много родственников и любящих тетушек, и в нашем доме всегда уютно. В общем, всего в избытке, но нет подруги! Со знакомыми я только веселюсь и дурачусь, но что-то мешает мне перейти с общепринятой и пустой болтовни на более глубокие и серьезные темы. Может, я сама такая недоверчивая? Вот почему мне нужен дневник. И чтобы моя воображаемая подруга стала более реальной, я вместо простого перечисления фактов буду обращаться в дневнике к ней, и дам ей имя: Китти.
О, моя биография! Как глупо было не начать с нее! Правда, ужасно неохота. Но иначе из моей переписки с Китти ничего нельзя будет понять.
Мой папа, несомненно, лучший отец в мире и добрейший человек, только в тридцать шесть лет женился на маме, которой тогда было двадцать пять. Моя сестра Марго родилась в 1926 году во Франкфурте-на-Майне, а в 12 июня 1929 года появилась я. До четырех лет я жила во Франкфурте. Поскольку мы полнокровные евреи, отец в 1933 году эмигрировал в Голландию, где возглавил Опекту — предприятие по производству джемов. В сентябре к нему переехала мама, Эдит Франк-Холландер, а мы с Марго остались у бабушки в Ахене. Марго приехала к родителям в декабре, а я в феврале, как раз ко дню рождения Марго: меня в качестве подарка усадили на ее стол!
В Голландии я пошла сначала в детский сад, а с шести лет — в школу.
Когда я училась в шестом классе, нашей классной руководительницей стала директриса госпожа Куперус. В конце года мы со слезами распрощались друг с другом, потому что я, как и Марго, перешла в еврейский лицей.
Нашу жизнь омрачали постоянные волнения о родных и близких, оставшихся в Германии, где евреев унижали и преследовали. После погромов 1938 года два моих дяди, мамины братья, бежали в Северную Америку, а бабушка приехала к нам. Ей было тогда 73 года.
В мае 1940 года начались трудные времена: нападение Германии, капитуляция, оккупация и все больше бед и унижений для евреев. Законы, ограничивающие наши права, принимались один за другим. Евреи были обязаны носить желтую звезду, сдать свои велосипеды, не имели права ездить на трамваях и в автомобилях, даже собственных. Евреи могли посещать магазины только с трех до пяти и пользоваться услугами исключительно еврейских парикмахеров. Евреи не имели права появляться на улице с восьми вечера до шести утра. Им запрещалось ходить в театры, кино и другие подобные учреждения, а также — в бассейн, спортивные залы, на греблю, и вообще заниматься любым видом спорта в общественных местах. С восьми вечера евреи не могли сидеть в собственном саду или в саду у знакомых. Нельзя было ходить в гости к христианам. Учиться позволялось только в еврейских школах. Так мы и жили в ожидании новых запретов. Джекки говорила: «Боюсь браться за что бы то ни было, а вдруг и это нельзя?».
Летом 1941 года заболела бабушка. Ее готовили к операции, поэтому мой день рождения в том году так по-настоящему и не отметили, так же как и в 1940, когда немцы оккупировали Голландию. Бабушка умерла в январе 1942 года.
Никто не знает, как я любила и люблю ее, и как часто о ней думаю. Мой последний день рождения отмечали как бы и за два прошедших года. В память о бабушке мы поставили свечку.
Сейчас мы четверо живем неплохо. А сегодня, 20 июня 1942 года, я торжественно начинаю свой дневник.
Суббота, 20 июня 1942
Дорогая Китти!
Итак, начинаю сразу. В доме сейчас тихо, папы и мамы нет дома, а Марго ушла к своей подруге Трейс играть в пинг-понг. Я тоже последнее время увлекаюсь пинг-понгом, а недавно мы, пять девочек, создали свой клуб под названием «Маленький медведь минус два». Это нелепое имя было выбрано по ошибке. Очень хотелось придумать что-то особенное, и мы остановились на «Маленьком медведе». Мы думали, что в этом созвездии пять звезд, как и нас, членов клуба. Но потом выяснилось, что звезд семь, так что пришлось прибавить «минус два». У Ильзы Вагнер можно играть в пинг-понг в большой столовой, поэтому мы часто собираемся у нее. Мы все обожаем мороженое, а после игры его особенно хочется! Поэтому наши спортивные сборища часто заканчиваются походом в ближайшее кафе, куда разрешено ходить евреям — Дельфи или Оазис. Не важно, есть у нас деньги или нет. В Оазисе обычно очень много посетителей, и среди них всегда найдется поклонник или просто щедрый знакомый, готовый одарить нас таким количеством мороженого, которого хватило бы на целую неделю.
Тебе, наверно, странно, что я в моем возрасте уже говорю о поклонниках. К сожалению (впрочем, не всегда к сожалению), это в нашей школе обычное явление. Если какой-то мальчик вступает со мной в разговор и спрашивает разрешения проводить меня на велосипеде домой, то в девяти из десяти случаев я уверена, что он в меня влюбился, и теперь отбою от него не будет. Чтобы охладить его пыл, я равнодушно кручу педали, не обращая внимания на страстные взгляды. Если это не помогает, я нарочно роняю сумку, а когда молодой человек поднимает ее и подает мне, завожу беседу на нейтральную тему. Обычно поклонники безобидны и нетребовательны, но попадаются и такие, которые посылают воздушные поцелуи, а то и пытаются взять за руку. Тогда я действую решительно: останавливаюсь и заявляю, что нам дальше не по пути или притворяюсь глубоко обиженной и в красноречивых выражениях предлагаю наглецу удалиться.
Итак, Китти, фундамент нашей дружбы заложен, до завтра!
Анна.
Воскресенье, 21 июня 1942 г.
Дорогая Китти!
Весь класс в напряжении: скоро педагогический совет! Полкласса держат пари — кого переведут, а кого оставят на второй год. Я и Х.З. высмеиваем мальчиков с соседней парты: те готовы проспорить все карманные деньги, выданные на каникулы! Целый день только и слышишь: «да, нет, перейдет, останется». Х. бросает на них умоляющие взгляды, призывающие к тишине, я злюсь и ругаюсь, но те двое не унимаются. В нашем классе полно тупиц, и по-моему, каждый четвертый должен остаться на второй год. Но учителя — это самые своенравные люди на земле, что в данном случае может послужить нам на пользу.
За себя и моих подруг я не особенно боюсь. Вот только математика заставляет немного сомневаться. Подождем… Пока мы время от времени подбадриваем друг друга. Можно сказать, что со всеми преподавателями я в хороших отношениях. Всего их у нас девять — семь мужчин и две женщины.
Господин Кейслинг, учитель математики, долгое время злился на меня, из-за того, что я так много болтаю на уроках. Предупреждения следовали одно за другим, пока я не получила штрафную работу: сочинение на тему «Болтунья».
Скажите, пожалуйста, что же об этом можно написать? Я сунула школьный дневник в сумку и решила пока не ломать голову.
Дома, покончив с домашними заданиями, вспомнила о сочинении. Покусывая кончик карандаша, я задумалась. Конечно, можно отделаться пустыми словами и писать пошире, чтобы поскорее заполнить страницы. Но это может каждый. А убедительно доказать необходимость болтовни — настоящее искусство. Так я думала, думала, и вдруг мне пришла в голову блестящая идея. Вскоре сочинение на трех страницах было готово. В нем я приводила доказательства того, что привычка болтать — неотъемлемое свойство женского характера. Можно пытаться болтать поменьше, но отучиться полностью невозможно. Ведь и моя мама разговорчивая, я переняла это от нее, а как бороться с врожденными чертами?
Господин Кейслинг немало посмеялся над моими доводами, но так как я и на следующем уроке продолжала болтать, задал второе сочинение на тему: «Неисправимая болтунья». Это задание я тоже выполнила исправно и потом два урока вела себя безупречно. А на третьем не выдержала. В результате громогласно была объявлена тема третьего сочинения: «Болты, болты, болты — сказала мисс Трещотка».
Весь класс закатился от смеха. Я тоже смеялась, хотя моя фантазия на тему болтовни исчерпала себя полностью. Необходимо было придумать что-то новое, оригинальное. Моя подруга Санна, хорошая поэтесса, предложила написать сочинение в стихах. Я пришла в восторг. Господин Кейслинг задумал таким бессмысленным заданием проучить меня, а выйдет как раз наоборот.
Стихотворение получилось потрясающее! Речь в нем шла о маме-утке и трех утятах, которых папа-лебедь заклевал насмерть за чрезмерную разговорчивость.
Кейслинг хорошо понял намек и прочитал мое стихотворение вслух не только в нашем классе, но и других. С тех пор я могла свободно разговаривать на уроках, Кейслинг только посмеивался надо мной, но никогда больше не наказывал.
Анна.
Среда, 24 июня 1942
Дорогая Китти!
Невыносимо жарко, все вокруг потеют и отдуваются. А ведь мы должны в любые концы ходить пешком. Только сейчас я поняла, как славно ездить на трамвае, особенно открытом. Но нам, евреям, это удовольствие сейчас недоступно, и приходится бегать на своих двоих. Вчера днем мне нужно было к дантисту на улице Яна Лейкен, что довольно далеко от школы. На уроках я, кстати, буквально засыпала от жары. К счастью, по дороге кто-то все время предлагал питье. А ассистентка зубного врача — воистину золотой человек.
Единственное доступное нам средство передвижения — это паром. Паромщик на канале Йозефа Израелса никогда не отказывает. Нет, голландцев никак нельзя обвинить в наших бедах.
Ходить в школу надоело смертельно. Мой велосипед украли в пасхальные каникулы, а мамин мы отдал на хранение одной знакомой христианской семье. Но к счастью, приближаются каникулы, еще неделя, и все муки позади!
Вчера днем случилось что-то очень приятное. Когда я проходила мимо велосипедной стоянки, кто-то меня окликнул. Я оглянулась и увидела симпатичного мальчика, с которым накануне вечером познакомилась у Вильмы, моей недавней знакомой. Этот юноша ее троюродный брат. Вильма сначала показалась мне очень милой, такая она и есть, только слишком много болтает о кавалерах. Мальчик подошел ближе, и немного смущаясь, представился: «Хелло Зильберг». Я удивилась, не понимая, что ему нужно, но это скоро выяснилось.
Он предложил проводить меня до школы. «Что ж, — сказала я, — если тебе в ту же сторону, пошли». И мы отправились. Хелло шестнадцать лет, и по дороге он рассказывал всякие забавные истории.
Сегодня утром он опять ждал меня, так что продолжение следует.
Анна.
Среда, 1 июля 1942 г.
Дорогая Китти!
До сегодняшнего дня не могла найти свободной минутки для дневника. В четверг провела целый день с друзьями, в пятницу к нам приходили гости, и в таком духе продолжалось до сегодняшнего дня.
Я и Хелло за эту неделю ближе узнали друг друга, он мне много рассказал о себе. Он родом из Гелзенкирхен, и живет здесь в Голландии у бабушки и дедушки. Его родители в Бельгии, но у него нет никакой возможности уехать к ним. У Хелло была подруга, Урсула. Я ее знаю: типичный образец кротости и скуки. С тех пор как Хелло встретил меня, он понял, что с Урсулой ему невыносимо скучно. Так что я как бы пробудила Хелло к жизни, вот уж не думала, что на такое способна!
В субботу у нас ночевала Джекки, но потом она ушла к Ханнели, и я скучала одна.
Вечером ко мне должен был прийти Хелло, но около шести он позвонил по телефону. Я сняла трубку и услышала его голос:
— Говорит Хелмут Зильберг. Позовите, пожалуйста, Анну.
— Я у телефона.
— Привет, Анна! Как поживаешь?
— Хорошо, спасибо.
— К сожалению, я сегодня вечером не смогу прийти, но хотел бы сейчас поговорить с тобой. Что, если я подойду через десять минут?
— Да, конечно.
— Пока, я уже иду!
Положив трубку, я быстро переоделась и слегка поправила волосы. После этого в нетерпении стояла перед окном, пока, наконец, не появился Хелло. Вот удивительно, что не я помчалась по лестнице, а терпеливо дождалась звонка.
Как только я открыла дверь, Хелло заговорил.
— Слушай, Анна, бабушка считает, что ты для меня слишком юная. По ее мнению, я должен общаться с Ловебахсами, но ведь ты знаешь, что между мной и Урсулой все кончено?
— Нет, я этого не знала. Вы, что же, поссорились?
— Нет, как раз наоборот. Я сказал Урсуле, что мы слишком разные, и поэтому нам лучше расстаться — не совсем, конечно, а сохранить дружбу. Что она всегда может приходить к нам в гости, и я бы хотел по-прежнему бывать у нее. Собственно, мне казалось, что Урсуле нравится другой парень, о чем я прямо ее спросил. Но это оказалось совсем не так. Теперь мой дядя говорит, что я должен извиниться перед Урсулой, с чем я совершенно не согласен!
Потому с ней сейчас совсем не вижусь, хотя на это есть и другие причины. Если послушать бабушку, то я должен встречаться с Урсулой, а не с тобой, но разумеется, я этого делать не собираюсь. У стариков какие-то свои допотопные представления о жизни, но мне до них нет дела. Хотя, конечно, я их уважаю и люблю. По вечерам в субботу я теперь свободен, а дома думают, что у меня в это время курсы резьбы по дереву. На самом деле я хожу в клуб сионистской партии. Мне бы такое никогда не позволили, так как бабушка и дедушка против сионизма. Я не отношу себя к сионистским фанатикам, а просто интересуюсь этим. Правда, в последнее время, там творится черте что, и я решил с этим кончить. Так что мы можем теперь видеться по вечерам в среду, а по субботам и воскресеньям — хоть целые дни.
— Нехорошо обманывать бабушку и дедушку.
— Любовь не знает запретов.
В тот момент мы проходили мимо книжного магазина Бланкефорт, и там я увидела Петера с какими-то друзьями. Он поздоровался со мной впервые за долгое время, что доставило мне немалое удовольствие.
В понедельник вечером я пригласила Хелло к нам, чтобы познакомить его с папой и мамой. Устроили чаепитие с тортом, печеньем и конфетами, но нам с Хелло было неохота чинно сидеть на стульях. Мы отправились гулять и вернулись только в десять минут девятого. Папа страшно рассердился, заявил, что такое совершенно недопустимо, и потребовал от меня обещания отныне быть дома не позже, чем без десяти восемь [2]. В следующую субботу я приглашена к Хелло.
Вильма рассказала мне, что как-то вечером Хелло был у нее в гостях, и она спросила его: «Кто тебе больше нравится — Урсула или Анна?». На что последовал ответ: «Не твое дело». Однако перед уходом (у них весь вечер не было возможности поговорить вдвоем) Хелло сказал: «Безусловно, Анна, только никому не рассказывай! Пока!». И тут же исчез.
Хелло явно влюблен в меня, и для разнообразия мне это очень даже приятно. Марго сказала бы: «Какой славный мальчик». И я так думаю, и даже более того… А уж как мама его превозносит: «Красивый, воспитанный и любезный юноша!». Очень рада, что Хелло завоевал расположение всех моих домашних. К сожалению, не могу сказать того же о своих подругах. И Хелло в свою очередь считает их совсем детьми. И пожалуй, он прав. Джекки постоянно подшучивает надо мной. А ведь я вовсе не влюблена, он просто друг, но никто не хочет этого понять.
Мама часто интересуется, за кого я хочу выйти замуж, когда стану взрослой. Как бы она удивилась, если бы узнала, что за Петера! Еще бы, ведь я постаралась, чтобы подобное им и в голову не пришло. А на самом деле, я люблю Петера так, как никогда никого не любила. В глубине души я надеюсь, что Петер встречается с другими девочками, потому что не хочет признаться в своих чувствах ко мне. Наверно, теперь он думает, что я влюблена в Хелло. А это не правда. Хелло — лишь хороший товарищ, или, как иногда выражается мама — кавалер.
Анна.
Воскресенье, 5 июля 1942 г.
Дорогая Китти!
Торжество по случаю окончания учебного года прошло прекрасно. И мой табель — совсем не такой плохой: одно «неудовлетворительно», пятерка по алгебре, а так в основном семерки, и еще две восьмерки и две шестерки. [3].
Дома все были очень рады. Должна объяснить, что мои родители занимают в этом отношении особую позицию. Им не так важно, какие у меня отметки. Главное, чтобы была здорова, хорошо себя вела и радовалась жизни. И если эти три пункта в порядке, то все остальное приложится. Но я сама не хочу плохо учиться. Тем более, в лицей меня приняли условно, поскольку я тогда еще не закончила седьмой класс школы Монтессори.
Но все еврейские дети должны были перейти в еврейские школы, так что господин Элте после долгих переговоров принял меня и Лиз Хослар. Лиз, кстати, тоже перешла, но ей предстоит еще нелегкая переэкзаменовка по геометрии. Бедная Лиз, ей не удается дома толком позаниматься: она делит комнату с маленькой сестренкой, которая постоянно играет и шумит — избалованный двухлетний ребенок! Когда Габи что-то не нравится, та заливается криком, и Лиз должна ее утешать, иначе раскричится мадам Хослар.
В такой обстановке нормально работать невозможно, и дополнительные уроки, которые Лиз получает в изобилии, не помогают. Домашнее хозяйство у семьи Хосларов очень сложное. Родители мамы Лиз, которые живут рядом, каждый день у них обедают. В доме есть служанка, господин Хослар рассеян до невозможности, а его жена всегда нервная и раздраженная. Сейчас она ждет третьего ребенка. Нескладная и неловкая Лиз в такой обстановке совсем теряется.
Моя сестра Марго тоже получила табель, как всегда блестящий. Если бы нам выдавали похвальные грамоты, то ее несомненно наградили бы — такая умница!
Отец последнее время часто дома, контора теперь редко нуждается в его услугах. Представляю, как неприятно чувствовать себя лишним! Теперь господин Кляйман стал главой Опекты, а господин Куглер управляет компанией по производству приправ «Гиз и K°», основанной только в 1941 году.
На днях гуляла с папой по нашему кварталу, и он вдруг заговорил о том, что нам предстоит поселиться где-то тайно, и что очень трудно будет жить — отрезанными от внешнего мира. Я спросила, почему он об этом говорит. «Анна, ответил он, — ты же знаешь, что мы уже больше года прячем у знакомых мебель, одежду, еду. Мы не хотим оставить все это немцам, а тем более — самим попасться в их руки. И чтобы этого не произошло, уйдем сами». «Но папа, когда же?» Он говорил так серьезно, что мне стало страшно. «Не думай об этом и положись на нас. Живи без забот, пока можешь».
Вот и все. О, пусть то, о чем говорил папа, произойдет очень нескоро!
Звонят, это Хелло!
Анна.
Среда, 8 июля 1942 г.
Дорогая Китти!
Кажется, что с моей последней записи в воскресенье прошли годы. Столько всего произошло, как будто весь мир перевернулся. Но, Китти, ты замечаешь, что я еще жива, а это главное, как говорит папа. Да, Китти, я живу, но не спрашивай, где и как. Начну по порядку — с воскресенья, иначе ты ничего не поймешь. В три часа дня Хелло ушел от нас, а вечером мы договорились встретиться снова. Вскоре после его ухода кто-то позвонил в дверь, но я ничего не слышала, так как лежала и читала в кресле-качалке на веранде.
Вдруг в дверях появилась Марго, вся взволнованная. «Папе прислали повестку из гестапо, — прошептала она, — мама пошла к господину ван Даану». (Ван Даан — давний знакомый и компаньон отца). Я перепугалась ужасно, ведь все знают, что означает подобная повестка. Невольно представила себе концентрационный лагерь, тюремные камеры, неужели папу отправят туда? «Он, конечно, не поедет, — успокаивала меня Марго, — мама как раз решает с ван Даанами, можем ли мы уже завтра скрыться в нашем убежище. Ван Дааны переедут вместе с нами, и мы поселимся там всемером». Мы сидели и молча ждали маминого возвращения.
Говорить не могли от волнения о бедном папе, который ничего не подозревая, был в гостях в еврейской богадельне.
Вдруг позвонили в дверь. «Это Хелло», — вскричала я. «Не открывай», — Марго попыталась меня удержать, но это было лишним. Я услышала внизу голоса мамы и ван Даана, они разговаривали с Хелло. Тот ушел, а мама и ван Даан поднялись наверх. Они хотели поговорить друг с другом наедине, так что меня с Марго выставили из комнаты и строго наказали при каждом звонке смотреть в замочную щелку и никому не открывать кроме папы.
Мы ушли в нашу комнату, и тут Марго рассказала, что повестка пришла на самом деле не папе, а ей. Я испугалась еще больше и расплакалась. Марго всего шестнадцать лет, как можно забирать таких юных девушек? Но, к счастью, она останется с нами, ведь так сказала мама, и папа именно это имел в виду, когда говорил об убежище. Но когда и где мы спрячемся, в какой стране и городе, в каком доме или может хижине? Я задавала эти бесконечные вопросы, на которые пока не было ответа.
Мы с Марго принялись упаковывать сумки. Первым я вложила дневник, потом бигуди, носовые платки, учебники, расческу, старые письма. Я думала о том, что нами теперь будет, и запихивала в сумку всякую ерунду. Позднее я об этом не пожалела: воспоминания дороже платьев.
Наконец в пять часов вернулся папа. Мы сразу позвонили господину Кляйману и попросили его прийти вечером к нам. Ван Даан ушел, чтобы вскоре вернуться вместе с Мип. Они взяли с собой огромную сумку, и Мип унесла в ней кучу наших вещей: туфли, платья, куртки, белье, чулки. Она пообещала вечером прийти снова. После этого в нашей квартире установилась тишина, есть не хотелось никому, жара еще не спала, и все казалось странным и чужим.
Наш большой чердак мы сдавали Гольдшмидту, господину лет тридцати, с женой он был в разводе. Очевидно, в тот вечер ему нечем было заняться, вот он и околачивался у нас до десяти вечера. Мы никак не могли от него избавиться.
В одиннадцать пришли Мип и Ян Гиз. Мип работает в конторе отца с 1933 года, она и ее новоиспеченный супруг Ян — наши близкие друзья, которым мы полностью доверяем. И вновь туфли, чулки, книги и белье были погружены в необъятную сумку. В половине двенадцатого Мип и Ян исчезли.
Я устала страшно, и хотя знала, что это последняя ночь в нашем доме, сразу провалилась в сон. В пол шестого утра меня разбудила мама. К счастью, было уже не так жарко, моросил теплый дождь. Мы, все четверо, оделись так тепло, как будто нам предстояло переночевать в холодильнике. Это было необходимо, чтобы захватить с собой как можно больше одежды. Разве могли евреи в нашей ситуации появиться на улице с чемоданом? Я натянула на себя три рубашки, три пары брюк, поверх них — юбку, жакет, плащ, две пары чулок, осенние туфли, шапку, шарф и это еще не все! Я буквально задыхалась, но никто не обращал на это внимания.
Марго запихнула в портфель как можно больше учебников, взяла из чулана свой велосипед и уехала с Мип в неизвестном направлении. Я до сих пор понятия не имела, где же находится наше таинственное убежище…
В пол восьмого мы захлопнули за собой дверь. Единственное существо, с которым я могла попрощаться, был наш котенок Морши. Он теперь найдет пристанище у соседей. Об этом мы оставили записку господину Гольдшмидту.
Неубранные постели и стол, кусок мяса на кухонном столе — все говорило о том, что мы бежали сломя голову. Нам было безразлично, что подумают люди.
Мы спешили уйти и благополучно добраться до безопасного места. Продолжение завтра.
Анна.
Четверг, 9 июля 1942 г.
Дорогая Китти!
Так мы и брели под дождем, папа, мама и я, с сумками и авоськами, наполненными всякой всячиной. Рабочие, направляющиеся на утреннюю смену, смотрели на нас сочувственно. На их лицах можно было прочитать, что они с удовольствием помогли бы нам, но не смеют из-за желтых звезд на наших куртках.
Когда мы вышли на шоссе, родители начали рассказывать мне о плане нашего бегства. Уже месяцы они уносили из дома вещи и одежду. 16 июля мы планировали скрыться. Но из-за повестки пришлось уйти раньше, так что наше новое жилище еще не совсем благоустроено. А само убежище располагается в папиной конторе. Посторонним это трудно понять, поэтому постараюсь объяснить. Служащих у отца немного. Господин Куглер, господин Кляйман, Мип и двадцатитрехлетняя стенографистка Беп Фоскейл были посвящены в наш план.
Работник склада господин Фокскейл, отец Беп и двое его ассистентов, ничего не знали.
Планировка дома такова: внизу находится большой склад, разделенный перегородками на отдельные рабочие помещения. В одном, например, перемалывают корицу, перец и другие приправы, в другом хранят запасы. Рядом со складом расположена входная дверь, за той еще одна дверца и лестница наверх. Поднявшись по ней, оказываешься перед стеклянными дверями с надписью «Контора». Основное помещение конторы — большой, светлый зал, обычно полон народу. Днем там работают Беп, Мип и господин Кляйман. Проходная комнатка с несгораемым шкафом и большим комодом ведет в маленький, душный и довольно темный кабинет. В прошлом он служил рабочим местом Куглера и ван Даана, а сейчас только Куглера. Туда можно попасть и с лестничной площадки, но никак не минуя стеклянной двери, открывающейся изнутри, но не снаружи. Пройдя через комнату Куглера, длинный коридор, мимо чулана с углем и поднявшись на четыре ступеньки, оказываешься в самой роскошной комнате дома — кабинете директора. Старинная мебель, линолеум, ковры, радио, дорогая лампа — шик-блеск, да и только! Рядом большая кухня с газовой колонкой и двухконфорочной плитой и туалет. Вот я и описала второй этаж. От него — лестница на третий, выходящая на площадку с несколькими дверями. За левой из них находятся кладовые с чердаком и мансардой. Из кладовых по крутой, настоящей голландской лестнице можно спуститься ко второму выходу на улицу.
А за правой дверью располагается задняя часть дома, которая и служит теперь нашим убежищем. Никто бы не подумал, что за простой серой дверцей скрывается столько комнат. Минуешь маленькую ступеньку, и вот ты внутри. Справа от входа крутая лестница наверх, слева маленький коридорчик и комната четы Франк. Комнатушка рядом — спальня и кабинет двух молодых барышень Франк.
Справа от лестницы комнатка с умывальником и отдельным туалетом, со вторым выходом в нашу с Марго спальню. А если поднимешься по лестнице, то удивишься еще больше, увидев большой и светлый зал. Это бывшая лаборатория, поэтому там есть плита, раковина и рабочий столик. Теперь она будет служить спальней супругов ван Даан, а так же общей гостиной и столовой. Крошечная проходная коморка поступит в распоряжение Петера ван Даана. Кроме того, есть чердак и мансарда, как и в передней части дома.
Вот я и закончила описание нашего замечательного убежища!
Анна.
Пятница, 10 июля 1942 г.
Дорогая Китти!
Представляю, как я надоела тебе описанием нашего жилища! И все же считаю важным рассказать, где я обитаю и как там оказалась. А как мне там живется, ты узнаешь из следующих писем.
Но сначала продолжение рассказа о переезде. Как только мы вступили в наш новый дом на Принсенграхт 263, Мип сразу увела нас по лестнице в заднюю часть. Там уже ждала Марго, которая приехала на велосипеде гораздо раньше.
Всюду лежали вперемежку разные вещи и предметы — беспорядок, не поддающийся описанию! Мама и Марго, совершенно сломленные и обессиленные, улеглись на незастеленные кровати. Они и пальцем не могли пошевелить. А мы с папой, единственные работоспособные члены семьи, взялись за работу. Целый день разбирали коробки и укладывали вещи в шкафы, вбивали гвозди, наконец, застелили постели и смертельно усталые легли спать. Целый день мы не ели горячего, но это нас не беспокоило. Мама с Марго вообще не могли есть, а мы с папой были слишком заняты.
Во вторник утром снова принялись за дело. Беп и Мип принесли продукты, купленные по нашим карточкам, папа наладил затемнение, в общем, опять трудились целый день. Так что до среды у меня и времени не было задуматься о том, какие гигантские перемены произошли в нашей жизни. Сейчас я и отчиталась тебе обо всех событиях со дня нашего бегства и постепенно начинаю осознавать, что происходит в настоящем и что нас ждет в будущем.
Анна.
Суббота, 11 июля 1942 г.
Дорогая Китти!
Отец, мама и Марго все никак не привыкнут к бою часов с башни Вестерторен — они бьют каждые четверть часа. Мне же этот бой ничуть не мешает, и даже приятен и привычен, особенно ночью. Конечно, тебе интересно, как мне нравится жизнь в нашем Убежище, но боюсь, что сама до сих пор толком этого не знаю. Думаю, что я себя здесь никогда не почувствую по-настоящему дома, но это не значит, что мне уныло или противно. Мне кажется, что я на каникулах, в какой-то своеобразной гостинице. Странная идея, не так ли? Но именно такое у меня чувство. А вообще наша часть дома — идеальное место, чтобы скрываться! Правда, сыровато немного и потолки косые, но вряд ли во всей Голландии найдутся беглецы, живущие в таком же комфорте.
Наша с Марго спальня выглядела весьма скучно и пусто. Но, к счастью, папа не забыл взять с собой мою коллекцию открыток и фотографий кинозвезд, которыми я обклеила все стены. И теперь комната выглядит, как картинка! Так что понемножку благоустраиваемся, а когда переедут ван Дааны, то из дерева, хранящегося на чердаке, мы смастерим стенные шкафчики и другие полезные вещи.
Мама и Марго понемногу приходят в себя. Вчера мама решила сварить гороховый суп, но заговорилась внизу, и горох превратился в уголь. Отмыть кастрюлю уже было невозможно.
А вечером мы все четверо спустились в директорский кабинет, чтобы послушать английское радио. Я так боялась, что кто-то нас услышит, что буквально умоляла отца вернуться. Мама тоже боялась, и мы с ней вместе ушли.
Вообще мы очень опасаемся, что в соседних домах нас заметят или услышат. В первый же день мы смастерили занавески. Хотя настоящими занавесками их назвать нельзя: они состоят из лоскутков различного цвета, структуры и формы, которые мы с папой кое-как сшили. Потом это произведение искусства мы кнопочками прикрепили к окну, и не снимем его до конца нашего пребывания здесь.
Справа от нас находится филиал фирмы Кега из Зандама, слева — мебельная мастерская. Так что после окончания рабочего дня там никого нет, но мы всегда должны быть чрезвычайно осторожны, чтобы снаружи нас никто не услышал. Марго даже запретили кашлять по ночам. У нее сильная простуда, и она вынуждена глотать кодеин в огромных количествах.
Очень радуюсь приезду ван Даанов во вторник. Станет уютнее и не так тихо. Тишина по вечерам, а особенно ночью действует так угнетающе, что я много отдала бы, если бы кто-то из наших попечителей ночевал у нас.
На самом деле, не так уж здесь ужасно, можно самим готовить еду и внизу в папиной конторе слушать радио. Господин Кляйман, Мип и Беп Фоскейл так много для нас делают! Они принесли много ревеня, клубники и черешни, так что скучать пока придется. К тому же есть много книг для чтения, и еще мы попросим купить для нас разные игры. Вот только в окно смотреть нельзя — под строгим запретом! И вообще мы должны всегда вести себя чрезвычайно тихо, чтобы нас не услышали в конторе.
Вчера у нас было работы невпроворот: помогать фирме «Опекта», а именно, вытаскивать из черешни косточки. Потом господин Куглер законсервирует ягоды, а из веточек мы делаем закладки для книг.
Меня зовут!
Анна.
28 сентября 1942 (публикуется впервые)
Все тяжелее осознавать, что мы никогда не можем выйти на улицу. И испытывать постоянный страх, что нас обнаружат и расстреляют. Не очень веселая перспектива!
Воскресенье, 12 июля 1942 г.
Дорогая Китти!
Как все были ласковы ко мне месяц назад, в день моего рождения! А сейчас я чувствую каждый день, как отдаляюсь от мамы и Марго. Например, сегодня я много работала, и все не могли мной нахвалиться, а пять минут спустя я им снова чем-то не угодила.
С Марго обращаются совсем по-другому, чем со мной! Вот, например, по вине Марго сломался пылесос, и к тому же мы целый день сидели без света. А мама всего лишь сказала: «Ах, Марго, ты не привыкла к уборке, откуда тебе знать, что пылесос нельзя тянуть за шнур». Марго что-то ответила, и история на этом закончилась.
А я сегодня хотела переписать заново мамин список покупок, ведь у нее такой неразборчивый почерк. Но мамочка этого не пожелала и задала мне основательную взбучку, и все ее поддержали.
Я чужая в своей семье, особенно в последнее время. Они так сентиментальны друг с другом, а мне лучше всего одной. При этом они часто повторяют: как уютно нам вчетвером, как хорошо вместе. Им и в голову не приходит, что я так вовсе не думаю. Только папа иногда понимает меня, но чаще он заодно с мамой и Марго. Не могу вынести, когда они в моем присутствии рассказывают что-то обо мне посторонним, например, что я недавно плакала или какая я разумная. Или, что ужаснее всего, говорят о Морши. Мне очень не хватает Морши — ежедневно, ежеминутно, и когда я думаю о нем, то часто не могу сдержать слез. Я так люблю милого Морши, что иногда строю несбыточные планы его возвращения к нам.
Мечтаю я здесь порой славно, ну а действительность такова, что сидеть нам в Убежище до окончания войны. Мы и думать не смеем, чтобы выйти на улицу и можем лишь принимать гостей: Мип, Беп Фоскейл, господина Фоскейла, господина Куглера, господина Кляймана, да еще его жену, но она никогда не приходит, потому что боится.
сентябрь 1942 (публикуется впервые)
Папа всегда такой милый. Он полностью понимает меня, и так хотелось бы откровенного разговора с ним, который бы не закончился, как обычно, моими слезами. Вероятно, виноват мой возраст. Об этом я могла бы много написать, да скучно.
До сих пор я записывала в дневнике свои мысли, и никак не доходят руки до забавных рассказов, которые когда-то будет приятно зачитывать вслух. С этих пор постараюсь быть не такой сентиментальной и больше писать о нашей повседневной жизни.
Пятница, 14 августа 1942 г.
Дорогая Китти!
Я тебя покинула на целый месяц. Но событий и новостей у нас не так много, чтобы писать ежедневно. 13 июля вселились ван Дааны. Мы их ждали четырнадцатого, но ситуация для евреев становилась все опаснее. Между 13-м и 16 июля ожидалось большое количество новых повесток, поэтому ван Дааны решили уйти на день раньше.
Утром в пол десятого, когда мы еще завтракали, явился Петер ван Даан, довольно неуклюжий, застенчивый и скучный. От его соседства многого ожидать не стоит. Полчаса спустя пришли госпожа и господин ван Дааны. Госпожа ужасно рассмешила нас, когда извлекла из шляпной коробки большой ночной горшок.
«Без него не представляю жизни», — заявила она, и горшок стал первым предметом, занявшим место под ее кроватью. Ее муж горшка не принес, зато притащил чайный складной столик.
В первый вечер мы обедали вместе, и через три дня уже казалось, что мы всегда так и жили: всемером, одной семьей. После нашего ухода в Убежище ван Дааны еще целую неделю жили обычной жизнью, так что им было, что рассказать.
Особенно нас интересовала наша квартира, и как к нашему исчезновению отнесся Гольдшмидт.
Вот, что рассказал господин Ван Даан: «В понедельник в девять часов нам позвонил Гольдшмидт и попросил прийти к нему. Я прибыл тут же и застал его в большом волнении. Он показал оставленное вами письмо и сказал, что собирается исполнить вашу просьбу о передаче кота на попечение соседей. Я, разумеется, одобрил его действия. Гольдшмидт очень боялся обыска, поэтому мы вместе прошли наспех по всем комнатам, понемногу убрали разбросанные вещи и привели в порядок обеденный стол. Вдруг я заметил на столе госпожи Франк открытый блокнот, в котором был записан адрес, где-то в Маастрихте. Я, конечно, знал, что блокнот был оставлен намеренно, тем не менее, отреагировал изумленно и испуганно и попросил Гольдшмидта немедленно сжечь «улику». До этого момента я постоянно делал вид, что ваше исчезновение для меня полная неожиданность. Но блокнот с адресом навел меня на хорошую идею.
«Господин Голдшмидт, — сказал я, — я догадываюсь, чей это адрес! Примерно полгода назад к нам в контору зашел офицер какого-то высокого чина, оказавшийся другом детства господина Франка. Этот офицер, кстати, проживающий в Маастрихте, обещал Франку помочь в случае нужды. Думаю, он сдержал слово, и теперь с его помощью Франки переберутся в Бельгию или Швейцарию. О последнем можете рассказать всем интересующимся друзьям и знакомым, только, пожалуйста, не упоминайте о найденном нами адресе!» После этого я удалился. Слухи, очевидно, распространились быстро: я потом сам от разных людей имел честь услышать мой же рассказ». Мы нашли все это очень забавным, но еще больше смеялись над силой воображения некоторых знакомых. Например, по показаниям семьи с площади Мервердеп мы, все четверо, проезжали рано утром мимо их дома на велосипедах. Другие видели своими глазами, как мы глубокой ночью садились в военный автомобиль.
Анна.
Пятница, 21 августа 1942 г.
Дорогая Китти!
Наше пристанище стало истинным убежищем. Сейчас часто устраивают обыски в поисках спрятанных велосипедов, поэтому господин Куглер решил ради безопасности установить на двери в нашу часть дома шкаф. Этот вращающийся шкаф, собственно, и стал нашей новой дверью. Смастерил его господин Фоскейл, которого уже посвятили в нашу тайну. И с тех пор он всячески старается помочь. Теперь, чтобы попасть вниз, надо сначала наклониться, а потом прыгнуть. В результате мы все с непривычки к низкой двери ходим с синяками на лбах. Чтобы смягчить удары, Петер прибил к стене валик. Посмотрим, действительно ли он поможет!
Занимаюсь я мало, ведь до сентября у меня каникулы. Потом папа намеревается давать уроки, но сначала необходимо приобрести учебники. Ничего особенного у нас не происходит. Сегодня Петер вымыл голову, но разве это событие? У меня часто размолвки с господином ван Дааном. И я не могу вынести, что мама обращается со мной, как с ребенком. А вообще наша жизнь постепенно налаживается. Петера я по-прежнему нахожу мало симпатичным:. зануда, лентяй. Валяется целый день в кровати, иногда немного столярничает, и снова — на покой. Вот балбес!
Мама прочитала мне сегодня утром очередную гадкую проповедь. У нас совершенно противоположные взгляды на жизнь! Папа — сама доброта, но случается, что и он сердится на меня.
Погода теплая и солнечная, и вопреки всем невзгодам мы нежимся в шезлонгах на чердаке.
Анна.
1 сентября 1942 (публикуется впервые)
Господин ван Даан любезнее ко мне в последнее время, что, разумеется, не вызывает у меня возражений.
Среда 2 сентября 1942 г.
Дорогая Китти!
Господин и госпожа ван Даан ужасно поссорились. Я до сих пор не видела ничего подобного и представить не могу, что мама с папой смогли бы так друг на друга кричать. Повод ссоры настолько ничтожен, что и упоминать о нем нет смысла. Но о других судить трудно.
Жалко Петера: он находится меж двух огней. Но с другой стороны Петера трудно принимать всерьез, такой он изнеженный и ленивый. Вчера, например, ужасно беспокоился из-за своего языка, который вдруг приобрел синий цвет.
Загадочный симптом исчез так же стремительно, как появился. Но бедняга обмотал шею шарфом и жаловался на прострел в спине. К тому же сердце, почки и легкие у него побаливают… Ну и ипохондрик! (ведь, кажется, так это называется?).
Отношения мамы и госпожи ван Даан, скажем прямо, не очень. А причин для недовольства достаточно, например, госпожа забрала из общего платяного шкафа почти все свои простыни, оставив лишь три. Она, по-видимому, решила, что маминого постельного белья вполне хватит для общего пользования. Боюсь, ее ждет разочарование, поскольку мама теперь последовала ее примеру! Мадам весьма недовольна тем, что пользуются ее сервизом, а не нашим. Она все пытается разузнать, где же хранятся наши тарелки. А они гораздо ближе, чем она думает: на чердаке, в картонных коробках, заваленные рекламными плакатами Опекты. И останутся там, пока мы здесь живем, что очень разумно!
Ведь я такая неловкая, вот вчера разбила глубокую тарелку из сервиза ван Даанов. «О, — воскликнула госпожа, — нельзя ли поосторожнее, это единственное, что у меня осталось!»
Должна сообщить тебе, Китти, что наши обе дамы ужасно говорят по-голландски. О мужчинах высказать свое мнение не решаюсь: боюсь их оскорбить! Если бы ты услышала женскую перебранку, то умерла бы со смеху.
Они пренебрегают всеми грамматическими правилами, а поправлять их нет смысла. Но передавая их разговоры, я все-таки не стану копировать их язык, а буду использовать нормальный голландский.
На прошлой неделе наше монотонное существование было слегка нарушено. Причина: книга о женщинах и Петер. Дело в том, что Марго и Петер могут читать все, что приносит нам господин Кляйман, лишь особая книга о каких-то женских вопросах составила исключение. Разумеется, Петер чуть не лопнул от любопытства, ломая голову о ее запретном содержании. В итоге он стащил книжку, пока его мамочка болтала внизу, и скрылся со своей добычей на чердаке. Два дня прошли спокойно. Госпожа ван Даан уже давно все знала, но держала язык за зубами, пока ее супруг, наконец, не раскрыл преступление. Он рассердился, отнял книгу и решил, что дело на этом закончено. Но недооценил любопытства своего сынка, которому на гнев отца было наплевать. Петер искал любую возможность, чтобы дочитать интересную книжку!
Между тем госпожа ван Даан спросила совета у мамы. Та ответила, что не считает злополучную книгу подходящей для Марго, но и не видит в ней особого вреда. «Есть большая разница, — объяснила она, — между Марго и Петером. Во-первых, девочки взрослеют, как правило, быстрее мальчиков. Во-вторых, Марго уже прочитала много серьезных книг, и поэтому запретные темы не так уж ее привлекают. К тому же Марго благодаря своему прекрасному образованию девочка развитая и разумная. Госпожа ван Даан согласилась с этими доводами, но осталась при мнении, что нечего детям читать взрослые книжки.
Между тем, Петер уловил благополучный момент. В пол восьмого вечера, когда вся наша компания слушала внизу радио, он скрылся со своим сокровищем на чердаке. В пол девятого ему следовало спуститься вниз, но книга так увлекла его, что он забыл об осторожности и вошел в гостиную одновременно со своим отцом. Что тут началось… Крики, оплеухи, в итоге книга оказалась на столе, а Петер снова схоронился на чердаке. Так обстояли дела, когда подошло время обеда. Петер остался наверху, никто не беспокоился о нем, пусть ложится спать голодным… Так мы сидели за столом, ведя веселую беседу, как вдруг раздался страшный свист. Все положили вилки и, побледневшие и испуганные, растерянно уставились друг на друга. Вдруг мы услышали голос Петера из водосточной трубы: «И не надейтесь, что я спущусь вниз…».
Господин ван Даан вскочил, уронив салфетку, лицо его приобрело багровый цвет. Он закричал: «Ну, уж это все границы переходит!». Папа схватил его за руку, опасаясь опасного поворота событий, и оба джентльмена поднялись на чердак. До нас донеслись повышенные голоса, звуки борьбы. В результате Петера водворили в его комнату и заперли дверь, а мы продолжили обед.
Госпожа ван Даан хотела передать своему ненаглядному сыночку бутерброд, но господин оставался неумолимым: «Если он не попросит прощения, то будет спать на мансарде!». Мы стали просить за него: ведь Петера уже наказали голодом.
Если он простудится ночью, мы даже не можем вызвать доктора. Петер прощения не попросил и снова отправился на мансарду. После этого господин ван Даан оставил сына в покое, однако утром обнаружил, что Петер все же спал в своей постели. В семь часов он вновь был изгнан наверх, но позже отец любезно попросил его спуститься. Три последующие дня мы наблюдали хмурые лица, напряженное молчание, а потом все пошло по-старому.
Анна.
Понедельник, 21 сентября 1942 г.
Дорогая Китти!
Сегодня я сообщу тебе о бытовых мелочах нашей жизни. Над моей диваном-кроватью установили лампочку, которая включается, если потянуть за веревочку. Однако сейчас пользоваться ею запрещено, потому что наша форточка открыта целые сутки.
Мужская часть семейства ван Даанов смастерила очень удобный шкаф для хранения продовольственных запасов. Новоявленное произведение искусства до сих пор находилось в комнате Петера, но теперь его переместили на чердак, где прохладнее. Теперь о шкафе Петеру напоминает лишь одна жалкая полка. Я посоветовала ему поставить на то место стол с яркой скатертью, а полку переместить на противоположную стену. Из комнаты Петера вполне можно было бы сделать уютный уголок, хотя мне не очень хотелось бы там спать.
Госпожа ван Даан невыносима. Она постоянно зудит о том, что я слишком много болтаю. И все изобретает какие-то уловки. Например, ей неохота мыть кастрюли и сковородки, так что если в них осталось хоть немного, она не перекладывает остаток в стеклянное блюдо, и еда в результате портится. А если Марго на следующий день трудится над горой грязных сковородок, мадам восклицает: «Бедная Марго, у тебя работы невпроворот!»
Господин Кляйман приносит мне каждые две недели несколько книг для девочек. Я в восторге от серии Йопа тер Хела! И мне очень нравится Цисси ван Марксфелд. «Летние забавы» я прочитала уже четыре раза и так хохотала над смешными местами!
С папой мы сейчас рисуем родословное дерево нашей семьи, и он мне обо всех что-то рассказывает.
Мы уже начали учиться. Я много занимаюсь французским, и каждый день выучиваю пять неправильных глаголов. Увы, я многое забыла из того, что учила в школе. Петер пыхтит над английским.
Некоторые учебники удалось достать только сейчас, а тетради, карандаши, резинки и прочее мы захватили из дома. Пим (уменьшительное имя папы) хочет брать у меня уроки голландского. Конечно, я буду давать их ему с удовольствием, тем более, он мне так помогает по французскому и другим предметам. Однако ошибки в голландском он делает пресмешные!
Иногда я слушаю нидерландскую подпольную радиостанцию, как раз вчера выступал принц Бернард. Он сообщил, что в январе он и Юлиана ждут ребенка.
Вот здорово! Правда, здесь никто не понимает моего интереса к королевской семье.
Несколько дней назад все обсуждали, какая я еще глупая. Так вот, на следующий день я серьезно взялась за учебу. Не собираюсь же я в четырнадцать и пятнадцать лет сидеть в том же классе. Другим предметом обсуждения стали запретные для меня книги. Мама сейчас читает «Господа, женщины и слуги». Мне это, разумеется, нельзя, а Марго можно! Я, видите ли, должна сначала догнать свою образованную старшую сестру. Поговорили также о моем полном неведении в областях философии, психологии и физиологии. Все эти трудные слова я отыскала в словаре. Действительно, я не имею о них ни малейшего понятия!
Ничего, может, через год я стану мудрее!
К своему ужасу я обнаружила, что на зиму у меня есть лишь одно платье с длинными рукавами и три кофточки. Папа разрешил мне связать для себя свитер из белой овечьей шерсти. Шерсть не особо красивая, но теплая, а это самое главное. Что-то из наших вещей хранится у знакомых, и забрать их мы сможем только после войны, если они, конечно, уцелеют. Как раз, когда я писала о госпоже ван Даан, та подошла ко мне. Я тут же закрыла тетрадку.
— Что ж Анна, я и взглянуть не могу?
— Нет.
— Ну, только последнюю страничку?
— И ее нет.
Я, конечно, страшно перепугалась. Ведь именно на этой странице я писала о ней — не особенно лестно!
Так каждый день что-то у нас происходит, но я слишком ленивая и усталая, чтобы все подробно описывать.
Анна.
Пятница, 25 сентября 1942 г.
Дорогая Китти!
У папы есть один старый знакомый, господин Дрейер, которому уже за семьдесят. Он плохо слышит и вообще болен и беден, а на шее у него жена, моложе на двадцать семь лет, тоже без гроша за душой, но зато на руках и ногах у нее всевозможные — настоящие и поддельные — браслеты и кольца, сохранившиеся с лучших времен. Этот господин Дрейер доставил папе множество неприятностей, я каждый раз удивлялась папочкиному терпению, когда он объяснялся по телефону с тем несчастным нытиком. Мама тогда советовала поставить перед телефоном граммофон с заранее записанными вариантами ответов: «Да, господин Дрейер» и «Нет, господин Дрейер», ведь старик все равно не понимал папиных объяснений!
Сегодня этот субъект позвонил в контору и попросил Куглера к нему зайти. Тот был занят по горло, поэтому передал дело Мип. Но и Мип неохота было с этим возиться. Госпожа Дрейер звонила потом три раза, но Мип, якобы отсутствующая, подделывала по телефону голос Беп. Все ужасно хохотали. Каждый раз, когда звонил телефон, Беп провозглашала: «Это господин Дрейер!».
Мип не могла сдержать смеха, и хихикая, снимала трубку к удивлению ничего не понимающих клиентов. Вот такое у нас заведение, разумеется, не единственное в мире, где начальство так веселится вместе с младшим персоналом!
По вечерам я иногда захожу к Ван Даанам поболтать. Они угощают меня «нафталиновым печеньем» (оно хранилось в бельевом шкафу, где был насыпан нафталин против моли). Как-то разговор зашел о Петере. Я рассказала, что тот иногда треплет меня по щеке, что мне совсем не нравится. Тогда они спросили меня в типично устаревшей манере, могла бы я полюбить Петера, который, оказывается, очень меня любит! Я подумала: «Ого!», а ответила «О, нет!».
Ничего себе… Еще я сказала, что Петер немножко неловкий, наверно, стесняется, как все мальчики, которые редко общались с девочками.
Должна признать, что комиссия по секретным делам (мужская часть нашего убежища) весьма изобретательна! Не поверишь, что они придумали, чтобы послать весточку представителю фирмы «Опекта» и подпольному хранителю многих наших вещей господину Броксу! Они отправили одному торговцу, нашему клиенту в провинции Зееланд, деловое письмо и приложили к нему конверт для ответа с адресом конторы. А когда ответ придет, то послание клиента заменят письмом, написанным рукой папы. Таким образом, Брокс сможет получить от нас весточку, не имея понятия о нашем местоположении. Зееланд выбрали, потому что туда можно посылать письма без специального разрешения.
Папа разыграл вчера вечером очередную комедию. Он страшно устал и буквально повалился на кровать. Поскольку он обычно мерзнет, я надела на него мои ночные носки, однако через пять минут они оказались на полу. Чтобы скрыться от света, папа влез с головой под одеяло, а когда мы выключили лампу, его голова медленно вылезла наружу. Вот забавно! Тут мы заговорили о том, почему это Петер называет Марго «тетушкой». Вдруг раздался загробный голос папы, проговоривший: «Кофейная тетушка!».
Муши, кот ван Даанов, с каждым днем все милее и доверчивее ко мне, но я его все еще побаиваюсь.
Анна.
Воскресенье, 27 сентября 1942 г.
Дорогая Китти!
Сегодня состоялась так называемая «дискуссия» с мамой. При этом я ничего не могу поделать с собой и каждый раз начинаю плакать. Вот, папа всегда добр ко мне и понимает меня намного лучше. Ах, я просто не могу вынести маму в подобные моменты, да и для нее я совершенно чужая. Ведь она понятия не имеет о том, что я думаю — даже о самых простых вещах!
Мы говорили о служанках, которых в последнее время принято называть «помощницами в домашнем хозяйстве» и что, наверно, после войны слово «служанка» забудут вовсе. Я сказала, что не совсем с этим согласна, и тут вдруг мама взорвалась. Я, если ее послушать, слишком часто говорю о будущем и воображаю себя взрослой дамой! На самом деле, она не права! Что ж я не имею права строить воздушные замки? Тем более, я не жду от других серьезного к ним отношения. К счастью, папочка поддерживает меня. Нет, без него я бы просто не выдержала!
С Марго мы тоже плохо понимаем друг друга. Хотя в нашей семье не ругаются так ужасно, как наверху у ван Даанов, мне здесь совсем не легко.
Натуры, подобные маме и Марго, так далеки от меня! Подруги ближе мне, чем собственная мать, и ничего с этим не поделаешь.
Госпожа ван Даан снова не в духе и то и дело прячет под замок свои личные вещи, предназначенные в наших условиях для общего пользования. Жалко, что мама не следует ее примеру.
Некоторые люди непременно хотят воспитывать не только собственных детей, но и чужих. И к таковым относятся Ван Дааны! Правда, Марго воспитывать не нужно, ведь она такая добрая, милая и красивая, а вот я во многом весьма неблагопристойна! За столом частенько раздаются замечания, на которые я даю довольно беспардонные ответы. Папа и мама всегда заступаются за меня, без них я бы совсем пропала. Сколько они меня не наставляют, что надо меньше болтать, не вмешиваться и вести себя скромнее, мне это плохо удается. Если бы не папино терпение, то я бы потеряла надежду хоть в чем-то порадовать своих родителей. А ведь это не так уж трудно.
Если у нас на обед какие-то нелюбимые мной овощи, то я стараюсь есть их как можно меньше и больше картошки. Но ван Дааны, особенно мадам, не могут смириться с такой избалованностью. Следует неизбежное: «Анна, возьми еще овощей». «Нет, госпожа, — отвечаю я, — мне вполне достаточно картошки». «Но овощи очень полезные, твоя тоже так считает, так что не отказывайся!» — продолжает она бубнить, пока, наконец, не вмешивается папа. Однако мадам не остановить: «Вам следовало бы пожить у нас в доме, где детей воспитывают по правилам. А это можно назвать воспитанием? Анна избалована до крайности, я бы такого никогда не допустила. Если бы Анна была моей дочерью…». Этим всегда начинается и кончается подобное словоизлияние. «Если бы Анна была моей дочерью…» Какое счастье, что это не так!
Но вернемся к теме воспитания. Вчера после очередного выступления госпожи ван Даан воцарилась тишина, и тут папа сказал: «Я считаю, что Анна очень хорошо воспитана, во всяком случае, достаточно, чтобы не отвечать на ваши длинные наставления. Что же касается овощей, то мой ответ: «vice versa» [4]. Мадам явно потерпела поражение и заслуженно! На «vice versa» ей нечего возразить, ведь она сама никогда не ест по вечерам бобы и капусту, потому что «мучается из-за них газами». И я могла сослаться на эту причину! Полное идиотство.
Забавно было видеть, как госпожа ван Даан покраснела. Я же не краснею почти никогда, и это злит ее ужасно!
Анна.
Понедельник, 28 сентября 1942 г.
Дорогая Китти!
Мое вчерашнее письмо мне так и не удалось закончить. Кажется, что я буду писать тебе бесконечно, так много еще надо рассказать. Но сначала скажу следующее: совершенно не могу понять, почему взрослые из всего, даже незначительных мелочей создают проблемы! До сих пор я думала, что ссоры из-за пустяков — это детская привычка, которая проходит с годами. Конечно, бывают причины для настоящих ссор, но наши перебранки здесь так бессмысленны! Увы, я должна к ним привыкнуть: они стали неотъемлемой частью нашей жизни. Но как привыкнуть, если я сама являюсь темой почти каждой «дискуссии». Здесь ссоры называют «дискуссиями» на немецкий манер — глупость ужасная… Меня беспощадно обсуждают и критикуют со всех сторон: привычки, характер, манеру держаться. Я должна впервые в жизни терпеть крики и грубые слова, да еще смиренно молчать при этом! Нет, я так не могу! Не собираюсь выслушивать дальше их оскорбления! Покажу им, на что я способна, так что они в итоге заткнутся и посмотрят на меня совсем другими глазами…
Додумаются, наконец, что должны заняться не моим, а собственным воспитанием.
Да как они смеют! Просто нахалы. До сих пор поражаюсь их невозможным манерам, а прежде всего глупостям госпожи ван Даан. Еще немного, и я наберусь решительности, и отвечу им… Тогда они заговорят иначе! Да что ж, неужели я, в самом деле, такая невоспитанная, упрямая, своевольная, ленивая, и так далее, как утверждают наши верхние? Конечно же нет, хотя у меня есть недостатки, но так преувеличивать!.. Ах Китти, если б ты знала, как все во мне кипит во время наших перебранок! Кажется, еще немного, и я просто взорвусь.
Но хватит об этом, представляю, как тебе надоели наши ссоры… Тем не менее, не могу не рассказать о недавней интересной дискуссию за столом. Мы перескакивали с одной темы на другую и заговорили об исключительной скромности Пима. Эта его черта — неоспоримый факт, ее замечают все, даже круглые дураки. Так вдруг госпожа ван Даан, которая всегда переводит разговор на себя, заявила: «Ах, а я такая скромная, не сравнить с моим мужем!». Подумать только! И как она продемонстрировала свою скромность именно этим заявлением… Господин ван Даан счел необходимым уточнить сравнение с «моим мужем» и проговорил очень спокойно: «А я никогда не стремился быть скромным. Достаточно видел в жизни подтверждений, что наглецы добиваются гораздо большего». И обратился ко мне: «Так вот, не скромничай, Анна, и тогда далеко пойдешь!» С этой точкой зрения полностью согласилась мама. Но госпожа ван Даан не унималась, тем более, разговор перешел на ее любимую тему: воспитание. Правда, в этот раз она обратилась не ко мне, а к моим родителям: «Однако, оригинальные у вас взгляды! Не могу себе представить, чтобы в моей юности… Да и сейчас такое недопустимо, разве что в вашей ультрасовременной семье!».
Она явно намекала на мамину систему воспитания, о которой здесь часто спорят. Госпожа вся раскраснелась от возбуждения. А тот, кто краснеет в пылу спора, обычно проигрывает. Мама, сохранившая как спокойствие, так и цвет лица, хотела закончить разговор как можно скорее. Не долго думая, она ответила: «Госпожа ван Даан, я действительно придерживаюсь мнения, что излишняя скромность вредит. Мой муж, Марго и Петер — слишком скромны. А вашего мужа, вас, Анну и меня хоть наглыми не назовешь, но постоять за себя мы умеем! Госпожа ван Даан: «Ах, я вас совсем не понимаю! Как вы могли назвать меня нескромной? Ведь мне это совершенно не свойственно…»
Мама: «Вы, конечно, не нахалка, но скромницей вас никто не считает».
Госпожа: «Хотелось бы знать, что вы имеете в виду. Если бы я здесь сама не заботилась о себе, то умерла бы с голоду, и никому не было бы до этого дела… Я не менее скромная, чем ваш муж».
Маме ничего не оставалось, как посмеяться над этой нелепой самозащитой.
Раздражение госпожи ван Даан от этого усилилось, и она продолжала выступать на смеси немецкого и голландского. Наконец наша мастерица по красноречию запуталась в собственных словах, встала и собралась выйти из комнаты, но тут ее взгляд упал на меня. О, надо было видеть ее лицо! Как назло, в тот момент, когда мадам стояла ко мне спиной, я сочувственно-иронически покачала головой, скорее невольно, чем намеренно. Госпожа вернулась и начала орать по-немецки: грубо, по-хамски, ни дать ни взять — жирная и раскрасневшаяся торговка! Ну, и зрелище! Если бы я умела рисовать, то так и изобразила бы ее — смешное, маленькое и тупое ничтожество. Теперь я знаю наверняка одну вещь: человека узнаешь только после настоящей ссоры. Лишь тогда он показывает свой истинный характер!
Анна.
Вторник, 29 сентября 1942 г.
Дорогая Китти!
Нам, здесь в Убежище, приходится сталкиваться с самыми неожиданными трудностями. Подумай только, ванной у нас нет, есть лишь корыто, а горячая вода подается только внизу, в конторе. Вот и приходится нам семерым купаться по очереди. А люди мы, конечно, разные и стесняемся в разной степени, поэтому каждый выбрал себе особое местечко для мытья. Для Петера — это кухня, хотя двери там стеклянные. Петер заранее лично подходит к каждому из нас и просит в ближайшие полчаса не заходить на кухню. Эту меру предосторожности он считает вполне достаточной. Господин ван Даан моется наверху. Он предпочитает делать это в собственной комнате и не ленится носить туда тяжелые ведра с горячей водой. Его супруга еще не разу не купалась: никак не может решить, какое место для нее самое удобное. Папа моется в директорском кабинете, мама — в кухне, за камином. А мы с Марго присмотрели себе местечко в зале конторы. По субботам днем закрываем занавески и приступаем к делу. Пока одна из нас моется, другая смотрит через щелочку в окно и рассказывает забавные вещи о прохожих.
Но неделю назад мне это место разонравилось, и я занялась поисками чего-то более комфортного. Петер дал мне хороший совет: использовать туалет директорского кабинета. И верно, там я могу мыться за закрытой дверью, сидя, при свете и сама без чужой помощи выливать грязную воду. В воскресенье я впервые помылась на новом месте и должна сказать, что нашла его самым удобным.
В среду приходил водопроводчик, чтобы переместить трубы из туалета конторы в коридор, иначе они могли бы замерзнуть в зимние холода. Но для нас этот визит был мало приятным! Не только нельзя было в течение дня включать краны с водой, но и посещать туалет! Не очень прилично рассказывать тебе, как мы выпутались из положения. Но я и не ханжа, чтобы молчать о таких вещах. Еще в первые дни нашего пребывания здесь мы с папой запаслись ночным горшком, точнее заменяющей его большой стеклянной емкостью. Вот его мы и поставили в комнате и использовали по назначению. На мой взгляд, неудобство терпимое, а вот целый день тихо сидеть и молчать — это ужасно! Особенно для такой болтушки, как я. И в обычные-то дни мы должны говорить шепотом, а не двигаться и не говорить совсем в десять раз хуже.
Моя попка за три дня совсем задеревенела и болит. К счастью, вечерняя гимнастика помогла.
Анна.
Четверг, 1 октября 1942 г.
Дорогая Китти!
Вчера я страшно перепугалась. Позвонили в дверь, неожиданно и очень громко. Я подумала: не иначе как за нами пришли! Представляешь себе? Но все были уверены, что это почтальон или просто какой-то озорник, и я успокоилась.
Последние дни у нас очень тихо. Левинсон, маленький еврейский аптекарь и химик, работает внизу на кухне, по заданию господина Куглера. Он хорошо знаком с нашим домом, поэтому мы все боимся, что ему придет в голову заглянуть в бывшую лабораторию. Вот мы и тихи, как мышата. Кто мог подумать еще три месяца назад, что трещотка Анна сможет молчать часами?
Двадцать девятого у госпожи ван Даан был день рождения. Хотя мы здесь больших праздников не устраиваем, ей подарили цветы, лакомства и другие мелочи. Оказывается, дарить красные гвоздики — семейная традиция ее достопочтенного супруга.
Если я уж заговорила о госпоже ван Даан, то не могу не упомянуть о том, что снова злюсь на нее. И знаешь почему? Она кокетничает с папой! То и дело треплет его по щеке, гладит по голове, приподнимает свою юбку, острит (как кажется ей самой). В общем, старается привлечь всевозможными способами внимание Пима. К счастью, самому Пиму это не нравится, так что мадам старается напрасно. Но как ты знаешь, я довольно ревнива и не перестаю злиться. Ведь мама же не пристает к ее мужу! Я так прямо и заявила госпоже ван Даан.
Петер иногда придумывает что-то смешное. У нас с ним одно общее увлечение: мы, к удовольствию остальных, обожаем переодевания! И вот он вырядился в одно очень обтягивающее платье своей мамы, я же обрядилась в его костюм, и так мы предстали перед всеми, он в шляпе, а я в кепке. Взрослые под стол валились от смеха, и мы вместе с ними.
Мип купила мне и Марго в Бейенкорфе[5] новые юбки. Ткань ужасная, похожа на рогожу, из которой раньше изготовляли мешки для картофеля. А стоят 7.75 за штуку. А вот хорошая новость: Беп записала меня, Марго и Петера на заочные курсы стенографии. Вот увидишь, какими замечательными стенографистами мы станем через год! Мне кажется очень увлекательным выучить настоящий тайный шрифт.
Почему-то сильно разболелся указательный палец на левой руке. Теперь я не могу гладить, чему очень рада!
Господин ван Даан предпочитает, чтобы за столом я сидела рядом с ним, потому что Марго, по его мнению, ест недостаточно. Я не возражаю. Теперь Марго сидит рядом с мамой, и ей придется выслушивать ее замечания, впрочем, как раз и не придется, ведь Марго — идеальный ребенок! Иногда я маму этим дразню, что всегда вызывает ее неудовольствие. Что ж, возможно и ей неплохо чему-то поучиться!
В сад в последнее время часто заходит маленькая черная кошечка. Она так напоминает Морши, моего милого Морши!
Пока! Анна.
Суббота, 3 октября 1942 г.
Дорогая Китти!
Вчера все дразнили меня, потому что я лежала на кровати рядом с господином ван Дааном. Все изощрялись в комментариях: «Так рано, неслыханный скандал!» и тому подобное. Вот глупо. Никогда бы не стала спать с господином ван Дааном, в определенном смысле, конечно.
Вчера очередная размолвка вылилась во что-то ужасное. Мама стала рассказывать папе обо всех моих прегрешениях и при этом ужасно расплакалась.
Я, конечно, тоже, а у меня и без того уже сильно болела голова. Наконец, я рассказала папе, что люблю его гораздо больше мамы. Тот ответил, что со временем это пройдет, но я ему не верю. Я ведь сейчас просто вынести не могу мамино присутствие и еле сдерживаюсь, чтобы не огрызаться на любую ее реплику. Да я бы просто дала ей пощечину! Сама не знаю, почему у меня к ней такое гигантское отвращение. Папа посоветовал предлагать маме помощь, поддерживать, когда у нее болит голова или просто плохое самочувствие. Но это невозможно: я не люблю ее и не в состоянии жалеть. Я могу, например, спокойно думать о том, что мама когда-то умрет. Но то, что это произойдет с папой, мне страшно и невыносимо представить. Да, низко с моей стороны, но ничего не могу поделать: я так чувствую. Надеюсь, что мама никогда не прочитает этих строчек.
В последнее время мне чаще разрешают читать взрослые книжки. Сейчас я читаю «Юность Евы» Нико ван Сухелен. Не вижу большого отличия от романов для девочек. Ева думала, что дети, как яблоки, растут на деревьях, а когда они созревают, их срывает аист и приносит мамам. Но тут кошка Евиной подружки родила котят, и она увидела, как это происходит. Тогда она решила, что кошки подобно курицам кладут яйца, а потом их высиживают. И что так же у людей. А когда ребеночек рождается, мама еще долгое время слабая: ведь она долго сидела на корточках, высиживая яйца. Вот Ева и решила снести яйцо: все напрягалась, даже слегка кудахтала, но все без толку. В результате вместо яичка она произвела нечто другое. Стыдно ей было ужасно. Забавно все это! В «Юности Евы» упоминаются женщины, продающие себя на улице за деньги. Как мне было бы неловко перед мужчинами на их месте! Также рассказывается, что у Евы начались месячные. Скорей бы и у меня, тогда я, наконец, стану взрослой.
Папа ворчит и грозится отнять дневник, от чего я страшно пугаюсь.
Пожалуй, буду прятать его для надежности.
Анна Франк.
Среда, 7 октября 1942 г.
Сейчас я себе представляю… Я живу в Швейцарии. Я сплю в одной комнате с папой, а учебная комната мальчиков [6] полностью в моем распоряжении, и там я принимаю гостей. А в качестве сюрприза мне эту комнату полностью обставили: чайный столик, письменный стол, диван и кресла. Просто мечта! А папа еще дал мне 150 гульденов, в швейцарских деньгах, конечно, но для удобства я буду говорить «гульдены». На них я могу купить все, что хочу.
(Потом он будет выдавать мне по гульдену в неделю). Мы с Берндом идем в магазины, и я покупаю:
3 летние блузки по 0,50 = 1,50
3 пары шортов по 0,50 = 1,50
3 зимние блузки по 0,75 = 2,25
3 пары зимних брюк по 0,75 = 2,25
2 комбинации по 0,50 = 1,00
2 лифчика (маленький размер) по 0,50 = 1,00
5 пижам по 1,00 = 5,00
1 летний халат по 2,50 = 2,50
1 зимний халат по 3,00 = 3,00
2 домашние кофточки по 0,75 = 1,50
1 подушечка по 1,00 = 1,00
1 пара летних тапочек по 1,00 = 1,00
1 пара зимних тапочек по 1,00 = 1,00
1 пара летних туфель (для школы) по 1,50 = 1,50
1 пара летних туфель (нарядных) по 2,00 = 2,00
1 пара зимних туфель (для школы) по 2,50 = 2,50
1 пара зимних туфель (нарядных) по 3,00 = 3,00
2 фартука по 0,50 = 1,00
25 носовых платков по 0,05 = 1,25
4 пары шелковых чулок по 0,75 = 3,00
4 пары шелковых гольфов по 0,50 = 2,00
4 пары носок по 0,25 = 1,00
2 пары теплых чулок по 1,00 = 2,00
3 мотка белой шерсти (рейтузы, шапка) = 1,50
3 мотка синей шерсти (свитер, юбка) = 1,50
3 мотка пестрой шерсти (шапка, шарф) = 1,50
шарфики, пояса, воротнички, пуговицы = 1,25
А также 2 летних школьных платья, 2 зимних школьных платья, 2 летних нарядных платья, 2 зимних нарядных платья, летняя юбка, нарядная зимняя юбка, школьная зимняя юбка, плащ, весеннее пальто, зимнее пальто, две шляпы и две шапки.
Все вместе будет стоить 108 гульденов.
2 сумки, костюм для коньков. Коньки с ботиночками, косметический набор (пудра, питательный крем, крем под пудру, очищающий крем, мазь для защиты от солнца, вата, бинты, тушь, помада, карандаш для бровей, соль для ванны, пудра для тела, духи, мыло, пуховка)
Еще 3 кофточки за 1,50, 4 блузки, книги и всякая мелочь за 10,00 и подарки за 4,50.
Пятница, 9 октября 1942 г.
Дорогая Китти!
Сегодня у меня только печальные известия. Наших еврейских знакомых арестовывают целыми группами. В гестапо с ними обращаются буквально не по-человечески: загоняют в вагоны для скота, чтобы увезти в Вестерборк, еврейский лагерь в Дренте. Мип говорила с человеком, которому удалось бежать оттуда. Он рассказал ужасные вещи! Заключенным почти не дают еды и питья.
Воду из кранов подают всего на час в день, и на несколько тысяч людей там всего один умывальник и туалет. Спят все на полу вповалку: мужчины, женщины… Женщин и детей нередко обривают наголо. Бежать оттуда практически невозможно: заключенных узнают по обритым головам и еврейской внешности.
Если в Голландии евреев держат в таких невыносимых условиях, то как же им приходиться в тех местах, куда их отсылают? Мы думаем, что большинство просто уничтожают. Английское радио говорит о газовых камерах, возможно, это самый быстрый способов умерщвления.
Я в шоке. Мип рассказывает все так подробно и взволнованно, она переживает не меньше нас. Совсем недавно на ступеньки ее дома присела старая хромая еврейка, она ждала машину гестапо. Старушка ужасно боялась воздушных налетов. Но Мип не решилась впустить ее в дом, да и никто бы не решился.
Немцы наказывают за подобную помощь очень сурово.
Беп последнее время грустная: ее друга, возможно, отправят в Германию. Еще она боится, что бомба упадет на дом ее Бертуса. Говорят, что бывают бомбы весом в миллион килограмм. До чего глупа распространенная шутка: «Миллиона-то он не получит, но одной бомбы вполне достаточно». Бертус — далеко не единственный: ежедневно поезда увозят молодых мужчин на работы в Германию. Когда поезд останавливается, то некоторым — очень немногим — удается бежать и потом скрыться в надежном убежище.
Я еще на закончила мой грустный отчет. Знаешь, что такое «брать в заложники»? Сейчас это стало новым наказанием за саботаж. Невинных, ничего не подозревающих граждан сажают в тюрьму, где они сидят в ожидании смерти.
Если обнаруживают саботаж и виновника не находят, то гестапо расстреливает пять заложников. Часто их фотографии помещают в газете. Это ужасное преступление называют «вынужденной мерой».
Что ж, замечательный народ, немцы, и я принадлежу к нему… Хотя нет, Гитлер уже давно лишил нас гражданства. И нет большей вражды в мире, чем между немцами и евреями!
Анна.
Среда, 14 октября 1942 г.
Дорогая Китти!
Я ужасно занята. Вчера утром перевела главу из «Прекрасной невернезки» и выписала незнакомые слова. Потом заставила себя решить задачку по математике, а после этого еще перевела три страницы упражнений по французской грамматике. Сегодня снова французский и история. Ненавижу математику! Папа разделяет мои чувства. Я даже лучше справляюсь с задачками, чем он, но, в сущности, мы оба бездари, и почти всегда вынуждены звать на помощь Марго. Я также усиленно и с огромным удовольствием изучаю стенографию. Из нас троих я впереди.
Прочитала «Бури». Неплохо, но не сравнить с «Йоп тер Хел». Хоть и часто попадаются похожие выражения, но это совершенно разные книжки одной и той же писательницы! Вот Цисси Марксфелдт, действительно, пишет великолепно. Мои дети должны непременно прочитать ее книги.
Кроме этого я прочитала несколько пьес Корнера, и мне они очень понравились. Среди прочего: «Хедвиг», «Кузен из Бремена», «Гувернантка», «Зеленое Домино» и другие.
Между мамой, Марго и мной снова мир, и я этому очень рада. Вчера мы с Марго лежали в моей постели, было очень тесно, но уютно. Марго спросила, можно ли ей иногда читать мой дневник. «Некоторые места», — ответила я и задала тот же вопрос о ее дневнике. Теперь Марго даст мне его почитать.
Потом мы заговорили о будущем. Я спросила, кем Марго хочет стать. Но ответа не получила, она почему-то делает из этого большую тайну. Я предполагаю, что учительницей или что-то в этом роде. Хотя, конечно, наверняка не знаю. Собственно, нехорошо быть такой любопытной.
Сегодня утром я улеглась на кровать Петера, прогнав предварительно его самого. Тот буквально взбесился, ну а мне хоть бы что. Он мог бы быть и полюбезнее, я его вчера вечером угостила яблоком.
Да, я спросила Марго, считает ли она меня дурнушкой. Та ответила, что я выгляжу очень забавно, и у меня красивые глаза. Не очень ясный ответ, как по-твоему?
Ну, до следующего раза!
Анна Франк.
P.S. Сегодня утром мы все взвесились. Марго весит 60 кг, мама — 62, папа — 70, Анна — 44, Петер — 67, госпожа Ван Даан — 54 и господин Ван Даан — 75. За три месяца я поправилась на 8,5 кг, ничего себе!
Вторник, 20 октября 1942 г.
Дорогая Китти!
У меня до сих пор дрожат руки, хотя уже два часа прошло после того ужаса, который мы здесь пережили. Должна сообщить тебе, что в нашем доме пять огнетушителей на случай пожара. И вот умники снизу не предупредили нас, что придет слесарь или не знаю, как его назвать, в общем, какой-то господин, чтобы зарядить эти аппараты. Так что мы не соблюдали тишины, пока не услышали стука молотка как раз у входа в наше Убежище. Я сразу предположила, что это слесарь, и предупредила Беп, которая зашла к нам в обеденный перерыв, чтобы та не спускалась вниз. А мы с папой стали прислушиваться, когда же тот человек уйдет. А он, поработав четверть часа, положил молоток и другие инструменты на шкаф (так нам показалось по звукам) и постучал в нашу дверь! Мы побелели от ужаса. Значит, он что-то услышал, и подозревает, что за дверью скрыта какая-то тайна! А стук продолжался, более того, дверь явно трясли, толкали, тянули на себя.
Я чуть не упала в обморок от страха, что случайный незнакомец обнаружит нас здесь. Казалось, что прошла вечность, как тут мы услышали голос господина Кляймана: «Открой те же, это я!». Мы открыли. Оказалось, что произошло следующее: нашу дверь заело, вот никто и не мог попасть к нам, чтобы предупредить о слесаре. Как только тот спустился вниз, Кляйман снова стал пытаться открыть дверь, а потом постучал. С каким облегчением мы вздохнули! А между тем, господин, якобы ломившийся в нашу дверь, рос и рос в нашем воображении и превратился в итоге в страшного великана и последнего злодея! К счастью, все закончилось благополучно.
Понедельник прошел очень весело. Мип и Ян остались у нас ночевать. Мы с Марго перебрались на одну ночь к папе и маме, чтобы уступить нашу спальню чете Гиз. Накануне мы шикарно поужинали. Вот только маленькая неприятность нарушила наш пир: перегорела папина лампа, что привело к короткому замыканию, и мы в одно мгновение оказались в темноте! Что же делать? Новые пробки в доме-то были, но установить их надо было внизу на складе, в кромешной тьме. Однако наши мужчины решились на это, и вскоре снова зажглась наша праздничная иллюминация.
Утром я встала очень рано. Ян к тому времени был уже одет, ему нужно было в пол девятого уйти, поэтому в восемь он завтракал. А Мип одевалась, и когда я зашла к ней, она еще стояла в одной рубашке. У нее такие же шерстяные брюки, в каких я раньше ездила на велосипеде. Мы с Марго тоже быстро оделись и пришли наверх раньше обычного. После уютного завтрака Мип спустилась в контору. Дождь лил, как из ведра, и она была очень рада, что ей не пришлось катить на работу на велосипеде. Потом мы с папочкой убрали постели, и я выучила пять неправильных французских глаголов. Прилежная ученица, не находишь?
Марго и Петер читали в нашей комнате, Муши был тут же на диване. И я присоединилась к ним с моей французской грамматикой, а потом читала «Леса поют вечно». Это прекрасная книга, хотя на свой особый лад, жаль, что я ее почти кончила.
На следующей неделе у нас будет ночевать Беп.
Анна.
Четверг, 29 октября 1942 г.
Дорогая Китти!
Я очень беспокоюсь: папа заболел. У него высокое температура и сыпь, все признаки кори. Подумай, мы даже доктора вызвать не можем! Мама заставила его хорошенько пропотеть, может, тогда температура спадет.
Сегодня Мип рассказала, что из квартиры ван Даанов на Южно-американской аллее вывезена вся мебель. Мы не стали рассказывать об этом госпоже. Она и так постоянно нервничает последнее время, и мы вовсе не жаждем слушать ее причитания о роскошном сервизе и дорогих стульях. Мы тоже оставили дорогие нам вещи, но какой смысл страдать из-за этого?
Папа хочет, чтобы я читала книги Хеббеля и других известных немецких писателей. Чтение по-немецки удается мне сейчас довольно неплохо, только почему-то я произношу фразы шепотом вместо того, чтобы просто читать про себя. Но это пройдет. Папа вытащил из большого книжного шкафа драмы Гете и Шиллера и собирается каждый вечер читать их вслух. Мама последовала папиному примеру, вручив мне свой молитвенник. Для приличия я прочитала несколько немецких молитв. Они звучат красиво, но не говорят мне ровным счетом ничего.
И зачем мама пытается сделать меня религиозной?
Завтра затопят камин. Придется сидеть в дыму, труба давно не чищена.
Анна.
Понедельник, 2 ноября 1942 г.
Дорогая Китти!
В пятницу вечером Беп оставалась у нас ночевать. Было очень уютно, но спала она плохо, потому что выпила вина. А так жизнь без изменений. Вчера у меня ужасно болела голова, и я рано пошла спать. Марго снова действует мне на нервы. Сегодня я начала сортировать картотеку фирмы, потому что ящичек с ней упал, и все перепуталось. Я совершенно отупела от этой работы и попросила Марго и Петера мне помочь. А тем было лень. Ну, тогда я все оставила, как есть. Я же не сумасшедшая — заниматься этим одной!
Анна Франк.
P.S. Забыла рассказать тебе большую новость: наверно, у меня скоро начнутся месячные! На своих трусах я часто замечаю какие-то клейкие выделения, и мама говорит, что это и есть первые признаки. Я уже не могу дождаться. Для меня это очень важно, только жаль, что я не смогу носить прокладки — их теперь вообще не достанешь, а мамины тампоны могут использовать только женщины, у которых уже есть дети.
22 января 1944 (публикуется впервые)
Сейчас я бы никогда такого не написала.
Перечитывая записи полуторагодовалой давности, я просто поражаюсь своей глупости и наивности! Знаю наверняка, что даже, если бы я очень хотела, то все же не могла бы вернуться в то прежнее состояние. Мои настроения, высказывания о Марго, маме и папе я читаю с таким чувством, как будто написала все это вчера. Но в мыслях не укладывается, что я так открыто, без всякого стыда писала о других вещах. Ужасно стыдно перечитывать страницы на эти темы, так некрасиво! Но что ж, хватит об этом.
Вот, что мне близко и понятно до сих пор, это тоска по Морши. Все время, проведенное здесь — сознательно, а чаще подсознательно — я так стремилась к доверию, любви и теплу. И это стремление — иногда сильнее, иногда слабее — всегда со мной.
Четверг, 5 ноября 1942 г.
Дорогая Китти!
Англичане добились военных успехов в Африке, и Сталинград держится до сих пор. Поэтому наши мужчины в прекрасном настроении, и сегодня утром мы пили чай и кофе. А больше ничего особенного.
На этой неделе я много читала и мало занималась. Что ж, и это неплохо. Мама и я в последнее время лучше ладим друг с другом, но доверия между нами не будет никогда. Мне кажется, что папа что-то умалчивает от меня, но все равно он для меня самый лучший человек на свете. Камин включен, и комната полна дыма. Мне гораздо больше нравится центральное паровое отопление, и думаю, что многие со мной согласятся. Марго я не могу назвать иначе, как негодяйкой, которая безумно и круглосуточно раздражает меня.
Анна.
Понедельник, 9 ноября 1942 г.
Дорогая Китти!
Вчера у Петера был день рождения, ему исполнилось шестнадцать. В восемь утра я уже была наверху, чтобы рассмотреть с Петером его подарки. Среди них игра, имитирующая торговлю на бирже, бритва и зажигалка для сигарет. Не потому что он много курит, а так — для шика!
Самый большой сюрприз принес господин ван Даан: он сообщил, что англичане высадились в Тунисе, Алжире, Касабланке и Оране.
«Это начала конца», — воскликнули мы все одновременно. И тут Черчилль, премьер-министр Великобритании, который, очевидно, слышал такие же суждения у себя в стране, сказал: «Эта высадка — событие чрезвычайной важности, но рано называть ее началом конца. Правильнее будет сказать: «конец начала».
Понимаешь разницу? Но все же есть причины для оптимизма! Сталинград, русский город, немцы осаждают уже три месяца, а он еще не сдался.
Вернусь снова к будничным делам Убежища. В этот раз напишу о наших продовольственных запасах (имей в виду, что «верхние» — не дураки поесть!).
Хлеб нам поставляет один славный булочник, знакомый Кляймана. Конечно, хлеба мы едим меньше, чем раньше, дома, но вполне достаточно. Продуктовые карточки покупают для нас на черном рынке. Они постоянно дорожают, только недавно: с 27 до 33 гульденов. Эта жалкая бумажка с печатью! Из продуктов длительного хранения у нас кроме сотен консервных банок в запасе еще 135 кг фасоли, которая предназначена не только для нас, но и для работников конторы. Мешки с фасолью висят на крючках в коридоре перед дверью. От тяжести швы мешков начали распарываться, поэтому мы решили часть зимних запасов перенести на чердак. Таскать мешки поручили Петеру. Пять он перенес успешно, а шестой лопнул по дороге и дождь, нет, град темной фасоли хлынул на лестницу. Двадцать пять килограмм! Шум стоял, как в преисподней. Внизу в конторе наверняка подумали, что рухнула крыша дома. Сам Петер сначала тоже испугался, но страшно расхохотался, увидев меня внизу на островке среди волн фасоли, доходящих до щиколоток. Мы тут же взялись за уборку, но фасолины, такие маленькие и скользкие, забились во всевозможные углы. Теперь, поднимаясь по лестнице, непременно находишь несколько штук, которые
торжественно вручаются госпоже ван Даан.
Забыла сообщить, что папа почти совсем здоров!
Анна.
P.S. Только что объявили по радио о падении Алжира. Марокко, Касабланка и Оран уже несколько дней в руках англичан. Остался только Тунис.
Вторник,10 ноября 1942 г.
Дорогая Китти!
Величайшая новость: мы решили принять восьмого «подпольного» жителя!
Вообще, мы всегда считали, что еды и места хватит здесь на восьмерых, но только не хотели загружать еще больше Куглера и Кляймана. Но после последних новостей об ужасной судьбе евреев, папа поговорил с нашими покровителями, и те полностью одобрили его план. «Семь опасны не меньше, чем восемь», — было их мнение, и вполне справедливое. Тогда мы стали перебирать всех наших знакомых в поисках кого-то, кто бы мог стать членом нашего подпольного семейства. Не легкая задача! После того, как папа отказался от всевозможных родственников ван Даанов, мы остановились на нашем общем знакомом: зубном враче по имени Альфред Дюссель. У него есть жена-христианка, намного его моложе, кажется, они не женаты официально, но это неважно. Он имеет репутацию человека спокойного, корректного и, хотя мы знаем его мало, кажется любезным и симпатичным. Мип с ним тоже знакома, так что все можно будет легко уладить. Дюссель будет спать в моей комнате, а ложем Марго станет раскладушка в спальне родителей. Мы попросим Дюсселя захватить что-нибудь для заполнения дыр в наших зубах.
Анна.
Четверг, 12 ноября 1942 г.
Дорогая Китти!
Мип рассказала, что была у Дюсселя. Как только она вошла, Дюссель прямо спросил, не знает ли она для него какого-то тайного адреса. Как он обрадовался, когда Мип ответила, что да, и что желательно, чтобы он как можно скорее перебрался туда, лучше всего, в субботу. Но так быстро доктор собраться не мог: Он должен был еще привести в порядок картотеку, принять двух пациентов и сдать кассу. С этим известием Мип пришла сегодня утром. Нам такая отсрочка очень не понравилась. Чем дольше Дюссель на свободе, тем вероятнее, что он случайно проговорится или еще как-то выдаст себя. Мы попросили Мип попробовать уговорить Дюсселя прийти в субботу. Но тот стоял на своем: понедельник. Считаю очень глупым, что он сразу не ухватился за такое предложение! Ведь если его арестуют на улице, то он уже ничего не сможет сделать: ни для пациентов, ни с картотекой. Как можно откладывать? Не понимаю, почему папа все-таки согласился.
Анна.
Вторник, 17 ноября 1942 г.
Дорогая Китти!
Дюссель уже здесь. Все прошло благополучно. По наказу Мип он должен был с одиннадцати утра стоять около почты и ждать, пока к нему подойдет какой-то господин. Дюссель пришел вовремя. Его уже ждал Кляйман, который сообщил, что вышеупомянутый господин прийти не мог, и Дюсселю придется подождать его в конторе у Мип. Оба они отправились туда своим путем: Кляйман на трамвае, а Дюссель пешком.
В двадцать минут двенадцатого Дюссель постучал в дверь конторы, Мип впустила его, повесила пальто на вешалку так, чтобы не было видно шестиконечной звезды, и провела в директорский кабинет. Там Кляйман занимал доктора, пока работница заканчивала уборку. Потом под предлогом, что кабинет необходимо освободить, предложил гостю подождать в другом месте и открыл к его удивлению нашу вертящуюся дверь-шкаф.
Мы всемером сидели вокруг стола, чтобы встретить восьмого жильца с кофе и коньяком. Мип провела его сначала в комнату родителей, где он узнал нашу мебель, но пока и подумать не мог, что мы сидим над его головой. Тогда Мип, наконец, рассказала, где и с кем он будет скрываться. Дюссель чуть не обморок не упал от изумления, а Мип не стала дольше испытывать его терпение и повела наверх. Там бедняга повалился на стул, какое-то время смотрел на нас безмолвно, словно пытаясь прочитать правду на наших лицах. И наконец, запинаясь, пробормотал на смеси немецкого и голландского: «Но… Вы… Разве вы не в Бельгии? Ведь та машина… Значит, побег не удался?». Мы объяснили, что специально распустили слухи о нашем побеге, в том числе знакомом офицере и машине, чтобы направить немцев на ложный след. Дюссель был просто поражен такой изобретательностью, и ему ничего не оставалось, как приступить к осмотру нашего милого и практичного жилища. Мы вместе поели, потом он немного отдохнул, выпил с нами чаю и разложил свои вещи, которые Мип принесла заранее. Очень быстро он почувствовал себя, как дома. Особенно после того, как ознакомился с правилами нашего тайного проживания, напечатанными на листке бумаги (автор ван Даан).
ПРОСПЕКТ И ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО УБЕЖИЩУ.
(специальное заведение для тайного пребывания евреев и им подобным)
Открыто в течение всего года.
Расположено в зеленой спокойной местности, в самом центре Амстердама.
Можно доехать на трамваях 13 и 16, а также на машине или велосипеде. Те участки, где движение транспорта запрещено оккупантами, придется преодолевать пешком. В доме постоянно свободны меблированные или не меблированные комнаты, по желанию на полном пенсионе.
Квартплата: бесплатно.
Диета: обезжиренное питание.
Проточная вода: в ванной комнате (сама ванна, к сожалению, отсутствует), а также на многих внутренних и наружных стенах. Слив отменный.
Вместительные кладовые для вещей различного рода. Два больших несгораемых шкафа.
Собственная радиостанция, соединяющая с Лондоном, Нью-Йорком, Тель-Авивом и другими точками земного шара. Доступна всем жителям дома, начиная с шести вечера. Все радиостанции разрешены, кроме немецкой, на которой можно слушать лишь классическую музыку или что-то в этом роде.
Строжайше запрещено слушать немецкие новости, из какой бы точки их не передавали.
Часы отдыха: с 10 вечера до 7:30 утра, по воскресеньям до 10:15. При особых обстоятельствах дирекцией могут быть назначены дополнительные часы отдыха. Соблюдать их очень важно в целях общей безопасности!
Свободное время (вне помещения) временно отменяется до дальнейших указаний.
Язык: разговоры в любое время дня разрешаются только шепотом. Можно использовать любые языки цивилизованных народов, а значит, не говорить на немецком.
Чтение: из немецких книг лишь классическая и научная литература, книги на других языках — независимо от жанра.
Гимнастика: ежедневно.
Пение: только очень тихо и после шести вечера
Уроки: стенография еженедельно. Английский, французский, математика и история в любое время дня. Ответные уроки голландского «учителям».
Прием пищи:
Завтрак: в обычные дни 9 часов, по воскресеньям и праздникам в 11:30
Обед: примерно с 13:15 до 13:45
Ужин: холодный или горячий, в разное время, в зависимости от последних известий по радио.
Обязательства по отношению к нашим «поставщикам»: постоянная готовность помощи по делам конторы.
Баня: по воскресеньям с 9 утра таз предоставлен в распоряжение всем жильцам. Мыться можно в туалете, кухне, директорском кабинете или в конторе — по желанию.
Крепкие напитки: только с разрешения доктора.
Конец.
Анна.
Четверг, 19 ноября 1942 г.
Дорогая Китти!
Как мы все и предполагали, Дюссель оказался очень милым человеком. Он, разумеется, охотно согласился делить со мной комнату. Должна признаться: я вовсе не в восторге, что кто-то чужой будет пользоваться моими вещами. Но нужно, в конце концов, чем-то жертвовать для других, и я делаю это с радостью. «Самое главное — суметь помочь кому-то из друзей и знакомых, а все остальное не так важно», — говорит папа, и конечно, он прав.
В первый же день Дюссель расспросил меня обо всем, например, в какие часы в контору приходит уборщица, когда можно мыться, когда — посещать туалет. Ты, наверно, улыбнешься, но здесь в Убежище, все не так просто. Днем мы должны соблюдать тишину, чтобы внизу нас не услышали, а если в конторе посторонние, например, уборщица, мы должны еще больше опасаться. Это я прекрасно объяснила Дюсселю, и вот, что меня удивляет: до него все доходит чрезвычайно медленно. Постоянно переспрашивает и забывает снова.
Возможно, это пройдет, он еще не опомнился от бегства и встречи с нами.
А в остальном все хорошо.
Дюссель много рассказал нам о внешнем мире, уже давно отрезанном от нас. Какие печальные и тяжелые известия! Много наших друзей и знакомых отправлены неизвестно куда, где их ожидает только самое ужасное. По вечерам всюду снуют зеленые или серые военные машины. Из них выходят полицейские, они звонят во все дома и спрашивают, нет ли там евреев. И если находят кого-то, то забирают всю семью. Никому не удается обойти судьбу, если не скрыться вовремя. Иногда полицейские посещают по спискам только те дома, где по их сведениям есть, чем поживиться. Случается, что они запрашивают выкуп: столько-то за человека. Как будто вернулся рабовладельческий строй! Но не время шуткам, так страшно все это! Часто по вечерам в темноте я вижу, как идут колонны ни в чем не повинных людей, подгоняемыми парой негодяев, которые их бьют и мучают, пока те не падают на землю. Никого не щадят: старики, дети, младенцы, больные, беременные — все идут навстречу смерти. А нам так хорошо здесь, уютно и спокойно. Мы можем не волноваться за себя, но как мы боимся за наших дорогих и близких, которым не можем помочь. У меня тут теплая постель, а каково приходится моим подругам: они, возможно, лежат на сырой земле, а может, их уже и нет в живых.
Мне так страшно, когда я думаю о друзьях и знакомых, которые сейчас во власти самых зверских палачей и должны бороться за жизнь. Только потому, что они евреи.
Анна.
Пятница, 20 ноября 1942 г.
Дорогая Китти!
Мы теперь просто не знаем, как держаться, что говорить, что думать. До сих пор мы мало знали о судьбах евреях и не теряли бодрости и оптимизма. Мип, правда, рассказывала в начале ужасные истории, но мама или госпожа ван Даан сразу начинали плакать, поэтому Мип, чтобы не расстраивать их, вообще перестала говорить на эту тему. Но Дюсселя мы забросали вопросами и то, что мы от него услышали, просто не может выдержать человеческое ухо.
Но как ни страшно все это, думаю, что мы через какое-то время успокоимся и снова будем шутить и, как у нас принято, поддразнивать друг друга. Ни нам самим, ни людям внешнего мира наши переживания пользы не принесут. Так что нет смысла превращать Убежище в храм печали. Но сейчас, чем бы я не занималась, не могу отогнать мысли о тех, кого уже нет. А если, забывшись, начинаю смеяться, то тут же прекращаю: мне стыдно, что я веселюсь! Значит, плакать все дни напролет? Нет, я так не могу, эта тоска должна пройти.
А у меня еще и свои личные проблемы, разумеется, ничтожные по сравнению с тем общим горем, но все-таки я расскажу о них. Последнее время я чувствую себя такой покинутой, как будто вокруг пустота. Раньше мне и в голову подобное не приходило, мои мысли были заняты подругами, разными развлечениями и удовольствиями. А сейчас я думаю или о несчастьях других или о себе самой. Я поняла, что папа, хоть и бесконечно милый и любимый, не может заменить мой прежний целый мир. О маме и Марго я и вовсе не говорю. Ах, какая я неблагодарная эгоистка, Китти, что жалуюсь сейчас об этом!
Но ничего не могу поделать: все здесь нападают на меня, и сколько горя вокруг!
Анна.
Суббота, 28 ноября 1942 г.
Дорогая Китти!
Оказалось, что мы слишком расточительно использовали электрическую энергию. Теперь необходима крайняя бережливость, иначе совсем отключат ток.
Две недели придется сидеть без света, а может, и дольше! С четырех часов или. с пол пятого читать невозможно: слишком темно. Вот мы и убиваем время всякими немыслимыми занятиями: задаем друг другу загадки, занимаемся гимнастикой в темноте, говорим по-английски и по-французски, обсуждаем книги, но все это в итоге надоедает. Вчера я придумала новое, очень занимательное времяпрепровождение: смотреть через бинокль в освещенные окна соседей. Днем наши занавески должны быть плотно закрыты, но по вечерам приоткрывать их вполне безопасно. Никогда не думала, что наши соседи такие интересные люди! Я видела, как одна семья ужинала, другая смотрела фильм, а так же как зубной врач лечил старую нервную даму.
Господин Дюссель, о котором всегда говорили, что он отлично ладит с детьми и вообще любит всех детей, оказался на деле старомодным воспитателем, постоянно читающим лекции о хороших манерах. Поскольку я имею честь делить свою комнатенку с этим глубокоуважаемым господином, и среди трех представителей юного поколения слыву самой невоспитанной, то именно на меня сыплются всевозможные упреки и нотации! Чтобы избегать их, приходится соблюдать обет молчания, как в восточной Индии. Но все было бы ничего, если бы господин не оказался большим ябедой и не адресовал свои доносы маме. Так что мне попадает со всех сторон: сначала от Дюсселя, потом (сносно) от мамы, а если «повезет», то и госпожа ван Даан призывает меня к ответственности!
Поэтому не думай, что приятно быть центром внимания нашей образцовой подпольной семьи.
Вечером в постели, когда я думаю о своих многочисленных грехах и сплошных недостатках, я запутываюсь окончательно и уже не знаю: плакать или смеяться. И засыпаю со странными чувствами, что я должна быть иной, чем мне хотелось бы, а то, что мне на самом деле хочется — плохо и неправильно. И что я вообще должна все делать по-другому.
О господи, Китти, я тебя окончательно запутала, но перечеркивать написанное не в моих привычках, а выбрасывать бумагу в наши скудные времена не могу себе позволить. Так что советую не читать предыдущее предложение и, во всяком случае, не задумывайся над ним. Я и сама его толком не понимаю!
Анна.
Понедельник, 7 декабря 1942 г.
Дорогая Китти!
Ханука и праздник святого Николаса почти совпали в этом году с разницей в один день. Хануку мы особо праздновать не стали, только немного украсили комнату и поставили свечки. Свечей мало, поэтому их зажгли всего на десять минут, но с пением все прошло замечательно. К тому же господин ван Даан смастерил деревянный подсвечник.
А вечер в субботу, день святого Николаса, был и вовсе чудесным. Мип и Беп постоянно нашептывали что-то папе во время ужина, терзая этим наше любопытство. Мы подозревали, что они что-то готовят для нас. И в самом деле, в восемь часов мы спустились по деревянной лестнице, прошли через совершенно темный коридорчик (я там просто тряслась от страха и жалела, что не осталась наверху) в проходную комнатку. Там нет окон, поэтому можно спокойно включать свет. Как только мы вошли, папа открыл большой шкаф, и все в один голос воскликнули: «О, вот здорово!» В шкафу стояла большая корзина, украшенная подарочной бумагой и маской черного Пита. Мы быстро вернулись с корзиной наверх, и нашли в ней для каждого симпатичные подарки с надписями в стихах. Такого сорта стишки, наверняка, тебе известны, так что не стану их переписывать. Мне подарили резиновую куколку, папе — подставки для книг, ну и так далее. Все было очень мило задумано. Надо сказать, что мы, все восемь, никогда не отмечали раньше день Святого Николаса, и вот состоялась премьера, и не где-нибудь, а здесь!
Анна.
P.S. Конечно, и мы подготовили для наших друзей какие-то мелочи, все со старых добрых времен. Сегодня мы узнали, что пепельницу ван Даана, рамку для картины Дюсселя и папины подставки для книг смастерил собственными руками господин Фоскейл. Для меня это настоящая загадка: как можно быть таким умельцем!
Четверг, 10 декабря 1942 г.
Дорогая Китти!
Господин ван Даан в прошлом был специалистом по мясным, колбасным товарам, а также специям. Потом в конторе у папы он занимался приправами и вкусовыми добавками. Но сейчас в нем снова проснулся колбасник, что нас немало радует. Мы закупили (на черном рынке, конечно) много мяса, чтобы у нас были запасы на трудные времена. Ван Даан решил сделать колбасу для жарки, а также вареную и полукопченую. Интересно было наблюдать, как он два или три раза прокручивал мясо в мясорубке, а потом маленькой ложечкой запихивал эту массу в кишки. Жареную колбасу мы отведали в тот же день с квашеной капустой. Остальную необходимо было как следует просушить, вот мы и повесили ее на чердаке на веревочках. Тот, кто впервые видел эту выставку колбас, просто помирал со смеху. Действительно, умопомрачительное зрелище!
А какой беспорядок творился в комнате, передать не могу. Господин ван Даан колдовал над мясом в фартуке своей супруги и казался почему-то гораздо толще, чем на самом деле. Окровавленные руки, красное лицо, передник в пятнах — мясник, да и только! Мадам между тем пыталась заниматься несколькими делами одновременно: учить голландский по учебнику, помешивать суп, следить за мясом, а также вздыхать и жаловаться на боль в ребре. Да, такое случается, когда пожилые дамы делают немыслимые гимнастические упражнения, чтобы сохранить элегантную попку! У Дюсселя воспалился глаз, и он, устроившись у камина, прикладывал к нему травяные примочки. Папа сидел на стуле, пытаясь согреться тоненьким лучом солнца, проникающим из окна. Но его постоянно просили пересесть куда-то в другое место. Похоже, папу снова мучил ревматизм, и он в точности напоминал старичка-инвалида из богадельни.
Согнувшись, с гримасой на лице он следил за изготовлением колбас. Петер носился по комнате вместе с Муши, а я, мама и Марго чистили картошку. В итоге мы все делали свое дело спустя рукава, поскольку не могли оторвать глаз от ван Даана.
Дюссель возобновил свою зубоврачебную практику. Сейчас расскажу, как весело прошел первый прием пациентов.
Мама гладила белье, а госпожа ван Даан, которой, по ее словам, срочно требовалась помощь, уселась на стуле посередине комнаты. Дюссель принялся важно раскладывать инструменты. Вместо воска он использовал вазелин, а дезинфицирующим средством служил одеколон. Дюссель внимательно изучил зубы госпожи, слегка постукивая по ним, та при этом сжималась так, как будто изнемогала от боли и издавала нечленораздельные звуки. После долгого исследования (так казалось пациентке, на самом деле, оно длилось не больше двух минут) Дюссель начал прочищать дырку. Но какое там — госпожа так задергалась, что доктор выпустил из рук крючок и тот застрял в зубе, причем довольно глубоко! Дюссель сохранил полное спокойствие, в то время как остальные присутствующие неудержимо хохотали. Разумеется, не очень это порядочно с нашей стороны! Ведь уверена, что я сама орала бы не меньше.
Госпожа ван Даан между тем вопила, дергала и вертела крючок, пока, наконец, не вытащила его. После этого Дюссель, как ни в чем не бывало, завершил свое лечение и так быстро, что мадам и пикнуть не успела. И не удивительно: у доктора было столько помощников, как никогда в жизни. Ведь два ассистента, в чьей роли выступали господин ван Даан и я — это немало. Наверно, наша импровизированная практика напоминала кабинет знахаря средних веков.
Больная, тем не менее, выказывала нетерпение: ей необходимо было следить за супом и еще за чем-то. Одно ясно: не скоро она опять обратится к дантисту!
Анна.
Воскресенье, 13 декабря 1942 г.
Дорогая Китти!
Я сейчас уютно сижу в конторе и через щелочку в занавесках смотрю на улицу. Здесь в помещении сумерки, но достаточно света, чтобы писать. Очень забавно наблюдать за прохожими, кажется, что все они ужасно спешат и поэтому постоянно спотыкаются о собственные ноги. А велосипедисты и вовсе проносятся с такой скоростью, что я не успеваю разглядеть, что за персона восседает на седле. Люди, живущие в этой части города, выглядят не очень привлекательно. Особенно, дети — такие грязные, что даже противно ухватить их щипцами. Настоящие рабочие ребятишки с сопливыми носами, а их жаргон понять невозможно.
Вчера вечером мы с Марго фантазировали во время купания: «Если мы этих детей, одного за другим, каким-то образом поймаем на удочку, затащим сюда, засунем в корыто, вымоем хорошенько, а также постираем и починим их одежду, а потом снова отпустим…» «Тогда они на следующий день станут такими же грязными, как были раньше».
Но что я все о том же, за окном много других интересных вещей: машины, лодки и дождь. Я слышу шум трамвая, детские крики, и мне хорошо.
Наш ход мыслей здесь такой же однообразный, как и мы сами. Повторяющийся круговорот: судьбы евреев, еда, и снова с еды на политику.
Кстати, если говорить о евреях: вчера, подглядывая в окно через занавеску, я увидела двоих. Мне это показалось чуть ли не чудом света, и я чувствовала себя так странно, как будто, тайком наблюдая за ними, совершаю предательство.
Напротив нас жилая баржа, которую заселяет семья: моряк, его жена и дети. У них есть маленькая ворчливая собачка, знакомая нам лишь по лаю и хвостику, который можно увидеть, когда песик гуляет по борту.
Вот досада, дождь усилился, большинство прохожих раскрыли зонтики, и теперь я ничего не вижу кроме зонтов и плащей, разве что мелькнет чья-то голова в шапке. А что собственно видеть, я уже постепенно изучила этих женщин: в красных или зеленых пальто, на сбитых каблуках с сумкой под мышкой, опухших от питания одной картошкой, с озабоченным или довольным выражением лица — в зависимости от настроения их благоверных.
Анна.
Вторник, 22 декабря 1942 г.
Дорогая Китти!
Радостное известие для нашего Убежища: к рождеству мы получим дополнительно по талонам сто двадцать пять грамм масла на каждого.
Официально, правда, полагается целых двести пятьдесят грамм, но это не для нас, а для тех счастливых смертных, которые получают свои карточки от государства. Мы же, еврейские беглецы, вынуждены покупать талоны на черном рынке, и из-за дороговизны у нас их всего четыре на восьмерых. Мы решили что-то испечь на нашем масле. Я сегодня утром сделала печенье и два пирожных. А вообще сейчас здесь ужасная суета. Мама наказала мне закончить домашние дела и лишь потом заняться уроками или чтением.
Госпожа ван Даан лежит в постели с ушибленным ребром, жалуется целый день напролет, непрерывно просит сменить ей компресс, и угодить ей просто невозможно. Когда же она, наконец, встанет на ноги и сама займется делами?
Вот чего у нее отнять нельзя: она необыкновенно трудолюбивая, а если хорошо себя чувствует (физически и психически), то и веселая.
Мало того, что все целый день на меня шикают из-за того, что я, видите ли, слишком шумная, но и мой сосед по комнате не придумал ничего лучшего, как шипеть на меня по ночам. Если его послушать, то мне и повернуться в постели нельзя. Пусть не воображает, что я буду его слушаться, в следующий раз я просто отвечу ему тем же «Шшш-ш»!
Вообще, он с каждым днем становится все нуднее и эгоистичнее. Ни следа от первоначальной щедрости и уступчивости. Меня просто бесит, особенно по воскресеньям, что он рано утром включает свет и десять минут занимается гимнастикой. Мне, так внезапно и безжалостно разбуженной, эти минуты кажутся часами. Стулья, подставленные к слишком короткой кровати, то и дело подпрыгивают вместе с моей заспанной головой. Завершив упражнения на гибкость энергичными взмахами рук, господин Дюссель приступает к своему туалету. Трусы висят на крючке, это означает шаги туда и обратно. Галстук на столе, опять топанье, и все мимо несчастных стульев.
Впрочем, бог с ними, аккуратными старыми джентльменами. И пожалуй, не буду ему мстить, к примеру, выкручивать лампу, запирать дверь, прятать одежду… Положение все равно не исправить!
Ах, какая я становлюсь разумная! Здесь все надо делать обдуманно: учиться, слушать, молчать, помогать друг другу, уступать, быть милой, уж не знаю, что еще прибавить! Боюсь, что на это я исчерпаю свой (и так не очень большой) запас ума и ничего не сохраню на послевоенное время.
Анна.
Среда, 13 января 1943 г.
Дорогая Китти!
Начала писать сегодня утром, но мне помешали, и вот заканчиваю сейчас.
У нас появилось новое занятие: заполнять пакетики мясным соусом в форме пудры. Это новинка фирмы Гиз и K°. Господин Куглер не смог найти других исполнителей этой работы, кроме нас, да так и дешевле. Работу такого типа выполняют заключенные в тюрьмах. Скучно до невозможности, постепенно тупеешь или начинаешь смеяться без причины.
А во внешнем мире происходят ужасные вещи. Днем и ночью несчастных людей угоняют, разрешив взять с собой лишь рюкзак и немного денег. Да и это у них отнимают по дороге. Семьи разлучают: женщин, мужчин и детей уводят раздельно. Бывает, что дети, вернувшись со школы, не находят дома родителей. Или женщины, возвратившись с рынка, обнаруживают дом пустым и заколоченным.
Не только евреи, но и христианские семьи живут в страхе, что их сыновей угонят в Германию. Боятся все. Каждую ночь через Голландию летят самолеты, чтобы совершить налеты на немецкие города, и ежечасно в России и Африке погибают сотни и даже тысячи людей. Никого не обходит горе. Война по всей земле, и конца ей не видно, хоть и дела у союзников лучше.
А нам здесь так хорошо по сравнению с миллионами других. Мы живем спокойно и безопасно, и как говорится, проедаем наши деньги. Мы так эгоистичны, что часто мечтаем вслух о том, как будет после войны, радуемся новой одежде и обуви. А ведь следовало бы экономить каждый цент, чтобы потом помочь нуждающимся.
Дети за окнами бегают в тоненьких кофточках, деревянных башмаках на босу ногу, без курток, шапок и чулок, и никто ничего не может для них сделать. Они хотят есть, с голодухи жуют морковку, выходят из холодной квартиры на холодную улицу, чтобы прийти в еще более холодную школу. Вот до чего дошла Голландия: на улицах ребята выпрашивают кусок хлеба у прохожих!
Ах, об этих ужасах войны можно рассказывать часами, но мне от этого становится еще грустнее. Ничего не остается, как ждать окончания страданий.
Ждут евреи и христиане — весь земной шар. А многим остается только ждать смерти.
Анна.
Суббота, 30 января 1943 г.
Дорогая Китти!
Я просто в бешенстве, но не должна и виду подавать. А мне хочется кричать, реветь, топать ногами, да еще взять маму за плечи, потрясти из-за всех сил! Я не могу больше вынести постоянных упреков, унижающих взглядов и обвинений, которые, как стрелы из лука, вонзаются в мое тело, да так, что вытащить их очень трудно. Хочу закричать маме, Марго, ван Даану, Дюсселю и. даже папе: «Оставьте меня в покое, дайте мне, наконец, поспать нормально хоть одну ночь без промокшей от слез подушки, опухших глаз и тяжелой головы.
Хочу быть одной, свободной от всех, от всех и всего. Но нет, они никогда не узнают о моем отчаянии, о нанесенных мне ранах, да я бы и не вынесла их сочувствия и добродушного снисхождения. Хочу кричать на весь мир!
Меня считают ломакой, когда я говорю, и нелепой, когда молчу. Грубой, когда я отвечаю на вопросы, и изворотливой, если мне в голову приходит какая-то идея. Я устала — значит, ленюсь, съела лишний кусок — эгоистка. Да и вообще, я глупая, трусиха и чересчур расчетливая. В глазах окружающих я просто невыносима. Хоть я и посмеиваюсь над их мнением и делаю вид, что мне на него наплевать, я хотела бы попросить Бога дать мне другой характер, чтобы все так не нападали на меня. Но это невозможно, собственную натуру не изменишь, да она у меня вовсе не плохая, я это чувствую. Я гораздо больше, чем кажется со стороны, стараюсь всем угодить, и часто смеюсь, чтобы не показать своих терзаний.
Не раз после маминых незаслуженных упреков я прямо ей говорила: «Ах, твои слова меня абсолютно не трогают. Оставь меня в покое, я все равно безнадежный случай». Она тогда, конечно, обвиняла меня в грубости, дня два не разговаривала со мной, а потом все это забывалось, как будто ничего не произошло.
Не могу же я один день быть кроткой и послушной, а другой на всех кидаться. Так что я лучше выберу золотую серединку, которая на самом деле вовсе не золотая. Буду держать свои мысли при себе и попробую так же презирать тех, кто презирает меня. Ах, если бы я это, действительно, смогла…
Анна.
Пятница, 5 февраля 1943 г.
Дорогая Китти!
Последнее время я ничего не пишу о наших ссорах, но это не значит, что их нет. Господин Дюссель, который в начале так переживал из-за столкновений в доме и старался примирить стороны, уже давно привык и больше не вмешивается. Марго и Петера даже «молодежью» не назовешь, такие они тихие и скучные. А я им прямая противоположность, и вот выслушиваю то и дело: «Марго и Петер так не делают, бери пример со своей милой сестры». Невыносимо!
Должна сказать честно: я вовсе не хочу быть похожей на Марго. Она слишком вялая и безразличная, ее легко уговорить, и она всем уступает. Я же хочу быть сильной духом, но держу это намерение при себе. Представляю, как бы все смеялись, если бы узнали о моих идеалах! За столом всегда чувствуется напряжение. К счастью, до ссор не доходит благодаря «едокам супа». Так мы называем наших друзей снизу, которые часто заходят в обеденное время, чтобы съесть с нами тарелку супа.
Сегодня днем господин ван Даан опять начал ныть о том, что Марго мало ест. «Разумеется, бережет фигуру», — ехидно завершил он. Мама, которая всегда заступается за Марго, сказала решительным тоном: «Вашу бессмысленную болтовню слушать невозможно». Госпожа ван Даан покраснела как рак, а ее супруг уставился перед собой и промолчал.
Но бывает и очень весело. Недавно госпожа ван Даан болтала чепуху, которая однако нас всех рассмешила. Она рассказывала, что прекрасно умела найти общий язык со своим отцом, и о том, что у нее было много поклонников.
«И вот, что мне советовал папа, — сказала она, — если молодой человек распустит руки, скажи ему: «Господин, я порядочная женщина!» Тогда он поймет, с кем имеет дело». Мы хохотали, как над удачным анекдотом.
А случается, что Петер, несмотря на свой тихий нрав, выдает что-то забавное. Он обожает иностранные слова, но применяет их часто, не зная толком значения. Однажды днем из-за посетителей в конторе мы не могли пользоваться туалетом. Петеру понадобилось туда срочно, но воду он для конспирации не спустил. Чтобы предупредить нас о запахе, он повесил на двери записку со словам «Svp, газ!» Разумеется, он имел в виду: «Осторожно, газ», но «svp» по-французски показалось ему элегантнее. Он и понятия не имел, что это означает «пожалуйста»!
Анна.
Суббота, 27 февраля 1943 г.
Дорогая Китти!
Пим ожидает высадки союзников каждый день. Черчилль переболел воспалением легких, сейчас его здоровье постепенно восстанавливается. Ганди, индийский борец за свободу, проводит — уже которую по счету — голодовку.
Мадам объявила себя фаталисткой. Однако кто больше всего боится перестрелок? Она сама — Петронелла ван Даан!
Ян принес нам пасторское послание епископов, оглашаемое в церквях. Звучит, действительно, красиво и трогательно. «Не опускайте руки, нидерландцы, сражайтесь, кто как может, за свободу нашей страны, наш народ, нашу веру! Помогайте и действуйте, бросьте сомнения!». Легко кричать эти слова с кафедры. Но помогут ли они? Во всяком случае, не нашим единоверцам.
А произошло такое, что и вообразить трудно! Хозяин этого дома продал его, не поставив об этом в известность ни Куглера, ни Кляймана. И вот как-то утром новый владелец вместе с архитектором пришел осматривать дом. К счастью, Кляйман был в конторе, он и показал господам все помещения, кроме нашего убежища, разумеется. Он извинился, что (якобы) забыл ключ от задней части дома, и новый хозяин этим удовлетворился. Но если он появится снова и проявит настойчивость? Страшно представить, чем это может обернуться для нас!
Папа выделил из картотеки для меня с Марго карточки, у которых одна сторона не заполнена. Они предназначены для учета прочитанных нами книг.
Будем записывать название книги, автора и год. Мой запас слов пополнился еще двумя: «бордель» и «кокотка». Для новых слов я завела специальную тетрадь.
У нас новый способ распределения масла и маргарина. Каждый получает свою порцию непосредственно на хлеб. Однако, не всем достается поровну. Ван Дааны, ответственные за приготовление завтрака, мажут себе раза в полтора больше, чем нам. А мои милые родители решили не затевать из-за этого ссору.
Жаль, я считаю, что нечестным людям надо платить той же монетой.
Анна.
Четверг, 4 марта 1943 г.
Дорогая Китти!
У мадам появилось прозвище: миссис Бефербрук. Ты, конечно, не понимаешь, почему, но я сейчас объясню: по английскому радио часто передают выступления пресловутого мистера Бефербрука о многочисленных, но малоуспешных бомбардировках Германии. Госпожа ван Даан не согласна ни с кем, даже с Черчиллем и со всеми обозревателями новостей, но почему-то трогательно соглашается с Бефербруком. Поэтому мы решили, что она должна выйти за него замуж. Наше предложение весьма польстило мадам, и с тех пор мы называем ее миссис Бефербрук.
На склад скоро придет новый подмастерье, старого посылают в Германию. Это очень грустно, но для нас оборачивается хорошей стороной, поскольку новый работник не знаком с планировкой дома. Очень мы опасаемся этих подмастерье.
Ганди снова начал есть.
Черный рынок процветает. Мы бы обжирались до отвала, если бы у нас были. деньги на все, что там продается. Бакалейщик, доставляющий нам картошку, закупает ее у комитета сопротивления и доставляет всегда, когда в конторе только свои: о нас ему известно.
Дышать у нас сейчас нечем, все кашляют и чихают, потому что внизу перемалывают перец. Каждый, кто приходит наверх, приветствует нас покашливанием. Госпожа ван Даан твердит, что ни за что не спустится вниз: ей станет плохо, если она вдохнет «еще больше перца».
Что-то мне папино предприятие не нравится: лишь перец да специи. Должно быть и что-то вкусненькое, например сладости.
Сегодня утром у нас опять разразилась словесная гроза — иначе не назовешь упреки и порицания, исходящие от «благопристойных ван Даанов» и направленные на «недостойную Анну». Настоящая буря!
Анна.
Среда, 10 марта 1943 г.
Дорогая Китти!
Вчера вечером у нас случилось короткое замыкание, а на улице стреляют непрерывно. К этому, да еще к воздушным налетам никак не могу привыкнуть, и каждый раз ищу защиты в постели у папы. Наверно, думаешь, что я совсем ребенок, но попробовала бы ты испытать это сама: за грохотом канонады не слышно собственного голоса. Наша фаталистка миссис Бефербрук чуть не расплакалась и все шептала: «О, как ужасно громко они стреляют». Лучше бы просто призналась, что ей страшно.
При свете свечей все кажется не так жутко, как в темноте. Я дрожала, словно в лихорадке и умоляла папу зажечь свечку. Но он оставался неумолимым, и мы продолжали сидеть без света. Тут раздался треск пулеметов, это в десять раз ужаснее, чем зенитки. Тогда мама вскочила с постели и к неудовольствию Пима зажгла большую свечу. В ответ на его ворчание она сказала: «Ты считаешь, что Анна — бывалый солдат? И достаточно об этом!»
Рассказывала ли я о других страхах госпожи ван Даан? Поскольку я даю тебе полный отчет о наших приключениях в Убежище, ты должна знать и о них.
Недавно ночью госпоже послышался подозрительный шум наверху. Она, конечно, решила, что это воры, и казалось, даже различала их громкое топанье. В испуге она разбудила мужа. Почему-то именно в этот момент воры исчезли, и единственные звуки, которые услышал господин ван Даан, было испуганное биение сердца фаталистки. «О, Путти (домашнее прозвище ван Даана)! Они, конечно, стащили колбасу и фасоль. А Петер? Он все еще у себя в постели?»
«Ну, уж Петера они точно не украли, спи, пожалуйста, и не нервничай понапрасну!». Но мадам так и не сомкнула глаз.
А несколько дней спустя все верхнее семейство было разбужено таинственным шумом. Петер поднялся с фонарем на мансарду, и что обнаружил там? Полчище больших крыс! Ясно, какие воры нас посещают! Теперь, чтобы по ночам избавиться от непрошеных гостей, мы укладываем Муши спать на чердаке. Несколько дней назад Петер поднялся вечером на мансарду за старыми газетами. Для опоры он машинально ухватился рукой за край люка. И… от боли и испуга чуть не свалился с лестницы. Оказывается, он положил руку на большую крысу, а она его укусила. В окровавленной пижаме, бледный, как платок, на дрожащих ногах он вернулся в гостиную. Да, не очень приятно погладить крысу, а потом быть укушенным ею. Вот наваждение!
Анна.
Пятница, 12 марта 1943 г.
Дорогая Китти!
Представь себе: мама Франк — защитница детских прав! Если завязывается спор о дополнительной порции масла для юного поколения Убежища и вообще о всевозможных проблемах молодежи, то мама всегда на нашей стороне и обычно добивается своего, хотя частенько после основательных ссор.
Банка консервированного языка испортилась. Пир на весь мир для Муши и Моффи.
Ты еще не знаешь, кто такой Моффи, а он всегда жил в конторе, еще до нашего ухода в Убежище и охранял склад от крыс. А его «политическую» кличку объяснить легко [7]. Раньше на фирме «Гиз и K°» обитали два кота: один на складе, другой на чердаке. Если они встречались, то без драки не обходилось.
Складской кот всегда нападал первым, зато чердачный неизменно побеждал. Как в политике. В итоге первого стали называть Немец или Моффи, а второго Англичанин или Томми. Томми потом куда-то отдали, а Моффи остался и развлекает нас, когда мы спускаемся в контору.
Последнее время мы ели так много коричневой и белой фасоли, что я ее больше видеть не могу. При одной мысли тошнит. Хлеб по вечерам отменили.
Папа сейчас признался, что он не в настроении. Смотрит очень грустно, так жалко его!
Я просто помешана на книге «Стук в дверь» Инны Будир-Баккер. Прекрасный семейный роман, только историческая обстановка, война, женская эмансипация описаны не очень хорошо. Но должна признаться, это все меня мало интересует.
Ужасные налеты на Германию. Господин ван Даан не в духе. Причина: сигареты кончаются.
Дискуссия на тему — съедать или нет запасы консервов — завершилась нашей победой.
На меня больше не налезают никакие туфли кроме высоких лыжных ботинок, но ходить в них дома очень неудобно. Соломенные сандалии за 6.50 я проносила всего неделю, и они совсем развалились. Может, Мип удастся достать что-то на черном рынке.
Мне надо подстричь папины волосы. Пим уверяет, что после войны ни за что не пойдет к другому парикмахеру, так он доволен моей работой. Вот только я часто прихватываю его ухо!
Анна.
Четверг, 18 марта 1943 г.
Милая Китти,
Турция вступила в войну. Все полны надежд. Ждем сообщений по радио.
Пятница, 19 марта 1943 г.
Дорогая Китти!
Уже спустя час на смену нашей радости пришло разочарование. Турция, оказывается, не вступила в войну. Министр сказал лишь, что пора выйти из нейтралитета. А продавец газет на площади Дам кричал вовсю: «Турция на стороне Англии!». Газеты, конечно, так и хватали у него из рук. Так этот радостный слух дошел и до нас.
Банкноты в тысячу гульденов объявили недействительными. Это большой удар для спекулянтов, нелегальных торговцев, а также тех, что скрывается.
Для размена тысячной купюры необходимо предъявить объяснение: как она попала в твои руки. Эти купюры можно использовать только для уплаты налогов, и то — лишь до конца недели. А со следующей недели аннулируются и банкноты в пятьсот гульденов. У «Гиз и K°» скопилось полно больших купюр с черного рынка, а налоги фирма давно уплатила вперед.
Для Дюсселя приобрели ручную бормашину, кажется, всем нам скоро предстоит серьезное обследование.
Дюссель совершенно безобразным образом игнорирует правила Убежища. Он посылает письма не только своей жене, но и ведет в свое удовольствие переписку с разными другими людьми. И при этом просит Марго исправлять его ошибки в голландском языке. Папа устроил Дюсселю строгий нагоняй и запретил Марго помогать ему. Кажется, переписка действительно прекратилась.
По радио передали разговор «фюрера всех немцев» с обычными солдатами.
Очень грустно было это слышать. Вопросы и ответы звучали примерно так.
— Мое имя Генрих Шеппель.
— Где был ранен?
— Под Сталинградом?
— Какое ранение?
— Отмороженные ноги и перелом левой руки.
Вот такой марионеточный спектакль по радио. Казалось, солдаты гордились своими ранами: чем серьезнее, тем лучше. Один — из-за того, что имел честь пожать руку вождю, не мог от умиления не произнести ни слова. Пусть будет рад, что сохранил свои руки!
Я случайно уронила мыло Дюсселя и потом еще наступила на него.
Попросила папу выплатить Дюсселю компенсацию, тот может позволить себе покупку мыла только раз в месяц.
Анна.
Четверг, 25 марта 1943 г.
Дорогая Китти!
Вчера вечером мы с мамой, папой и Марго уютно сидели вместе, как вдруг вошел Петер и что-то прошептал папе на ухо. Мне удалось различить «упала бочка на складе» и «кто-то возится за наружной дверью».
Марго, хоть и расслышала то же самое, пыталась меня успокоить: я испугалась безумно, и вероятно, побледнела, как мел. И вот мы втроем страшно нервничали в то время, как папа спустился с Петером вниз. Не прошло и двух минут, как к нам присоединилась госпожа ван Даан, которая до этого слушала внизу последние известия. Пим наказал ей выключить радио и как можно тише подняться наверх. А как пройти тихо по нашей скрипучей лестнице? Еще пять долгих минут, и явились Петер и Пим, белые от волнения: они, оказывается, все это время просидели под лестницей, но так больше ничего и не услышали.
Вдруг послышались два громких удара: как будто кто-то в доме хлопнул дверью. Пим мгновенно взбежал наверх, а Петер предупредил Дюсселя, и тот после долгой возни и канители, наконец, присоединился к нам. Все мы на цыпочках отправились на этаж выше, к комнате ван Даанов. Господин лежал в постели с простудой, и мы, выстроившись у его ложа, рассказали шепотом о наших опасениях. Каждый раз, когда больной кашлял, мне и госпоже ван Даан казалось, что мы умираем от страха. Наконец, кто-то сообразил дать больному кодеин, и кашель немедленно прекратился.
Снова ожидание, но ничто не нарушало тишины. Очевидно, воры рассчитывали, что дома никого нет, и услышав наши шаги, сбежали. Как назло, мы оставили радио включенным на английской волне и стулья вокруг него.
Теперь, если дежурные противовоздушной обороны заметят, что дверь взломана и вызовут полицию, неизвестно, чем это обернется для нас. И вот господин ван Даан встал с постели, натянул брюки, пиджак и шляпу и осторожно спустился вниз вслед за отцом, к ним присоединился и Петер. На всякий случай они вооружились тяжелым молотком. Дамы (включая меня и Марго) остались ждать наверху в томительном напряжении. Через пять минут мужчины вернулись вниз и сообщили, что в доме все спокойно. Все же решили из осторожности не включать краны и не спускать воду в туалете. А всем от волнения, разумеется, срочно туда потребовалось, можешь себе представить запах, оставшийся после наших посещений.
Беда приходит обычно не одна. Вот и сейчас так. Во-первых, часы с башни Вестерторен перестали бить, а это нас всегда так успокаивало. Во-вторых, господин Фоскейл ушел накануне раньше обычного, и мы не знали, передал ли он ключ Беп и не забыл ли закрыть дверь на замок.
Но несмотря на все сомнения, мы волновались уже меньше, ведь с четверти девятого (когда воры дали о себе знать) до половины одиннадцатого все было тихо. Мы вдруг сообразили, что вряд ли вор ранним вечером, когда еще светло и на улице есть прохожие, стал бы пытаться взломать дверь. Очевидно, шум донесся из соседнего склада, где еще велись работы. А из-за тонких стен и наших страхов мы вообразили себе всякие ужасы.
Все пошли спать, но сон не приходил. Мама, папа и господин Дюссель так и не сомкнули глаз, а я, если и спала, то совсем чуть-чуть. Сегодня утром мужчины спустились вниз, чтобы проверить входную дверь. Она была на замке, все в порядке!
Но происшедшее оставило тяжелый след. Мы, разумеется, рассказали обо всем в ярких красках всем нашим помощникам из конторы. Хорошо смеяться, когда все позади! Только Беп понимает нас по-настоящему.
Анна.
P.S. Туалет оказался забитым, папе пришлось палкой проталкивать его содержимое, включая рецепты консервов из клубнике (используемые нами в качестве туалетной бумаги). Палку он потом сжег.
Суббота, 27 марта 1943 г.
Дорогая Китти!
Стенографические курсы мы закончили и теперь упражняемся на скорость.
Какие мы все-таки молодцы! Снова расскажу о том, как я тут убиваю время, иными словами, стараюсь, чтобы дни прошли как можно скорее, и приблизился конец нашему подпольному существованию. Я обожаю мифы, особенно древние римские и греческие. Все считают это минутным увлечением, не может же девочка моего возраста всерьез интересоваться богами. Что ж, так я буду первой!
Господин ван Даан простужен, точнее, у него слегка побаливает горло. Но он поднял вокруг этого гигантскую суматоху: полоскание ромашковым настоем, компрессы, смазывания, прогревания и плохое настроение в придачу!
Раутер или какой-то другой высокопоставленный фашист заявил: «Все евреи должны до первого июня покинуть страны, находящиеся под властью Германии. Со 2 апреля по 1 мая утрехтская провинция будет полностью санирована (словно мы какие-то тараканы…), а с 1 мая по 1 июня — северная и южная провинции».
Как больной и ненужный скот, людей гонят к месту убоя. Не буду продолжать, мысли об этом вызывают лишь кошмары.
Но есть и хорошая новость: немецкую контору по найму рабочей силы подожгли борцы сопротивления. А несколько дней после этого — и регистратуру.
Они переоделись в немецкую полицейскую форму, обезвредили охрану и уничтожили кучу важных документов.
Четверг, 1 апреля 1943 г.
Дорогая Китти!
Нам сейчас вовсе не до розыгрышей (видишь дату?), скорее наоборот.
Сегодня я опять убедилась в правильности пословицы: «Приходит беда, отворяй ворота».
Во-первых, у нашего неутомимого оптимиста, господина Кляймана, случилось вчера желудочное кровотечение, и теперь он должен минимум три недели оставаться в постели. Не рассказывала ли я тебе, что такие кровотечения происходят с ним часто, и против них нет лекарства. Во-вторых, у Беп грипп. В третьих, господин Фоскейл на следующей неделе ложится в больницу. Вероятно, у него язва желудка, и предстоит операция. А в четвертых, клиенты фирмы «Опекта» из Франкфурта приехали на переговоры. Папа все до мелочей обсудил накануне с Кляйманом, а теперь вместо него надо срочно подготовить Куглера. Господа из Франкфурта прибыли, и папа волнуется чрезвычайно. «Ах, если бы я мог спуститься вниз», — повторял он.
«Так ложись на пол, и ты услышишь все, о чем говорят в директорском кабинете». Папино лицо просветлело, и вчера в пол одиннадцатого утра он с Марго (два уха лучше одного) улеглись на пол. Обсуждение, однако, утром еще не закончилось, а днем папа был не в состоянии продолжать «прослушивание»:
его буквально скрючило от непривычной и неудобной позы. В половине третьего я заняла его места, Марго присоединилась ко мне. Переговоры были длинными и скучными, в результате я заснула на твердом и холодном линолеуме. Марго боялась до меня дотронуться, тем более, позвать: вдруг услышат внизу. Через полчаса я проснулась в испуге, и оказалось, что ровным счетом ничего не помню. К счастью, Марго слушала лучше.
Анна.
Пятница, 2 апреля 1943 г.
Дорогая Китти!
Ах, мой список грехов пополнился чем-то ужасным. Вчера вечером я лежала в постели и ждала папу, чтобы вместе помолиться и пожелать друг другу спокойной ночи. Но тут в комнату зашла мама, села на мою кровать и робко предложила: «Анна, давай помолимся вместе. Папа пока не может прийти». Я ответила: «Нет, мама». Она поднялась, постояла немного, потом медленно пошла к двери. Но вдруг повернулась ко мне с выражением страдания на лице и сказала: «Я не могу сердиться на тебя. Насильно любить не заставишь».
Я осталась в постели, и подумала, что поступила жестоко, оттолкнув ее так грубо. Но иначе ответить я не могла. Не умею притворяться и не хочу молиться с ней вместе. Да из этого ничего и не вышло бы. Мне было жалко маму, даже очень: впервые я заметила, что мое холодное отношение ей небезразлично. Я видела, какое грустное у нее было лицо, когда она сказала, что насильно любить не заставишь. Горькая правда в том, что она сама меня оттолкнула, и я тоже не ощущаю ее любви ко мне. Ее бестактные замечания, шутки, совершенно не воспринимаемые мной… Каждый раз у меня сжимается сердце от ее жестоких слов, а сегодня ей стало больно из-за моей холодности.
Пол ночи она плакала и почти не спала. Папа теперь не смотрит на меня, а если я случайно ловлю его взгляд, то читаю в нем: «Как ты могла быть такой бессердечной и причинить маме страдания!».
Теперь все ждут от меня извинений, но их не будет. То, что я сказала маме, она бы и рано или поздно узнала. Всем кажется, что я бесчувственна к слезам мамы и взгляду папы, да так оно и есть. Наконец, они поймут, как трудно мне приходится из-за их непонимания. Маму, конечно, жалко, она просто не знает, как теперь обращаться со мной. Но я не отступлю: буду продолжать молчать и оставаться холодной. И всегда говорить только правду, потому что чем дольше ее скрываешь, тем труднее потом высказать.
Анна.
Вторник, 27 апреля 1943 г.
Дорогая Китти!
Весь дом гремит из-за ссоры. Мама и я, ван Даан и папа, мама и мадам — все злятся друг на друга. Ничего не скажешь — весело! А вечный список Анниных грехов очередной раз вынесен на обсуждение.
В прошлую субботу контору снова посетили господа из-за границы. Они просидели до шести часов, а мы наверху и пошевелиться не смели. Ведь в директорском кабинете сверху слышно любое движение. Я буквально больна от этого бесконечного сидения!
Господина Фоскейла положили в больницу, а господин Кляйман снова работает, его желудочное кровотечение в этот раз удалось быстро остановить.
Он рассказал, что немецкая регистратура уничтожена благодаря содействию пожарных: те не только остановили огонь, но и залили все водой. Вот молодцы!
Отель «Картольн» уничтожен: два английских самолета сбросили бомбы как раз на жилище офицеров. Целая часть улицы сгорела дотла. Бомбардировки немецких городов усиливаются с каждым днем. По ночам очень неспокойно, от недосыпа у меня появились черные круги под глазами.
С едой у нас перебои. На завтрак сухарики и заменитель кофе. На обед уже две недели поочередно — шпинат или салат. Картофелины в двадцать сантиметров длиной отдают гнилью. Пожалуйста, приезжайте к нам в Убежище, если хотите похудеть! Верхние просто заходятся в жалобах, мы еще как-то держимся.
Все мужчины, которые воевали в 1940 году или были призваны, теперь отправлены на работы в лагеря. Это, несомненно, предосторожность на случай высадки союзников!
Анна.
Суббота, 1 мая 1943 г.
Дорогая Китти!
У Дюсселя день рождения. Он все твердил заранее, что отмечать его не собирается, но увидев Мип с большой сумкой, наполненной свертками, возбудился, как ребенок. Его ненаглядная Лотта передала в подарок яйца, масло, печенье, лимонад, хлеб, коньяк, кекс, цветы, апельсины, шоколад, книги и почтовую бумагу. Он расставил все подарки на столике и не прикасался бы к ним три дня, если бы это было в его воле. Старый болван!
Только не подумай, что он голодает: в его шкафу мы обнаружили хлеб, сыр, джем и яйца. Подумать только, мы его спасли, приютили, приняли со всей любовью, а он за нашими спинами набивает живот. А ведь мы все делили с ним!
А что еще хуже: так же мелочно он ведет себя с Кляйманом, Фоскейлом и Беп — и им от него не перепадает ни крошки. Апельсины, которые так нужны Кляйману для поправки здоровья, Дюссель считает куда важнее для собственного желудка.
Сегодня ночью я четыре раза начинала собирать вещи, так ужасно палили.
Сегодня я для таких случаев заранее вложила в чемоданчик самое необходимое. Вот только вопрос: куда нам бежать?
Вся Голландия искупает вину за забастовки рабочих. Введено осадное положение, и каждого лишили одного талона на масло. Наказывают нас, словно маленьких детей!
Сегодня я вымыла маме голову, что здесь совсем не просто. Во-первых, кончился шампунь, а зеленое мыло ужасно клейкое. Во-вторых, хорошо расчесать волосы невозможно: в семейной расческе осталось не больше десяти зубьев.
Анна.
Воскресенье, 2 мая 1943 г.
Дорогая Китти!
Когда я думаю о нашей жизни здесь, то каждый раз прихожу к выводу, что по сравнению с другими евреями мы живем здесь, как в раю. Но, наверно, вернувшись потом к нашей обычной жизни, мы с удивлением будем вспоминать, как мы здесь опустились — мы, в прошлом такие правильные и аккуратные. А сейчас наши манеры никуда не годятся. Например, клеенка на столе ни разу не менялась, и от частого употребления выглядит, конечно, не лучшим образом. Я, как могу, пытаюсь привести ее в порядок, но тряпка — новая в момент нашего прихода сюда — уже превратилась в сплошную дырку. Так что, как ни три — толку мало. Ван Дааны всю зиму спят на фланелевой простыне, которую здесь не постираешь: стирального порошка едва хватает, да он никуда и не годится.
Папа ходит в поношенных брюках, а его галстук совсем истрепался. Мамин корсет сегодня буквально развалился от старости, и его уже не починишь.
Марго носит лифчики на два размера меньше, чем следует, и у нее с мамой три зимние рубашки на двоих. А мои стали совсем малы: даже до живота не достают.
Казалось бы, это не так важно. И все же я иногда не могу себе представить: как мы, у которых все пришло в негодность — от моих трусов до папиной кисточки для бритья — снова будем жить, как жили раньше?
Анна.
Воскресенье, 2 мая 1943 г.
Дорогая Китти!
Вот что думают о войне жители Убежища.
Господин Ван Даан.
Этот всеми глубокоуважаемый господин прекрасно разбирается в политике. И он предсказывает, что сидеть нам здесь до конца 43 года. Вот как долго еще придется терпеть. Но кто может поручиться, что война, которая всем приносит только горе и разрушение, к тому времени кончится? И как можно быть уверенным, что с нами и другими подобными нам затворниками за это время ничего не случится? Никто! И поэтому мы всегда в напряжении: от ожидания и надежд, но также страха. Мы боимся звуков, как с улицы, так и в доме, боимся выстрелов и сообщений в газете. Кто знает, может, и нашим покровителям не сегодня-завтра придется укрыться.
«Укрыться» стало привычным словом и для многих вынужденной мерой. Наверно, по отношению ко всему населению их не так много. Но думаю, что после войны мы будем удивлены, что столько евреев, а также христиан жили в подполье. И что у многих были фальшивые документы.
Госпожа Ван Даан.
Когда эта прекрасная (как кажется ей самой) дама узнала, что достать поддельный паспорт не так трудно, как прежде, она предложила оформить один на нас всех. Как будто это проще простого, и деньги растут на спинах папы и господина ван Даана. Высказывания мадам часто выводят ее Путти из себя. И не удивительно: стоит послушать высказывания Керли: «После войны я приму крещение», а уже через день: «Я всегда мечтала жить в Иерусалиме, только среди евреев я чувствую себя дома!».
Пим.
Настоящий оптимист, и его оптимизм всегда обоснованный.
Господин Дюссель.
Обычно несет всякую чушь, а возразить его светлости не имеет право никто. Такова позиция Альфреда Дюсселя: он держит речь, а другие должны помалкивать. И уж точно Анна Франк.
Мнение остальных обитателей Убежища о ходе войны не интересно. Лишь вышеупомянутые четверо разбираются в политике, а по правде, только двое. Но госпожа ван Даан и Дюссель тоже причисляют себя к таковым.
Анна.
Вторник, 18 мая 1943 г.
Дорогая Кит!
Я оказалась случайной свидетельницей воздушного боя между немецким и английским самолетами. К сожалению, английский самолет загорелся, и летчики прыгнули с парашютом. Наш молочник как раз увидел их на обочине — четырех канадцев, один из которых бегло говорил на голландском. Тот попросил у него сигарету и сказал, что команда состояла из шести человек. Пилот сгорел, а что с пятым — неизвестно. Четверых уцелевших (без единой царапины!) забрала зеленая полиция. Можно только восхищаться их спокойствием и силой духа после пережитого!
Хотя довольно жарко, мы должны через день включать камины, чтобы сжечь наш мусор. Выбрасывать его в баки конторы строжайше запрещено, не то работники архива могут что-то заподозрить, и такой незначительный просчет выдаст нас всех.
Все студенты должны подписать заявление о том, что они симпатизируют немцам и одобряют новый порядок. Восемьдесят процентов отказались пойти против совести и, следовательно, не подписали. Это не осталось без последствий, и теперь всех неподписавших отправляют на работу в Германию.
Так скоро в Голландии и молодежи не останется!
Из-за сильной стрельбы мама в последнюю ночь закрыла окно, а я забралась в постель к Пиму. Вдруг мы слышим, как наверху мадам выпрыгнула из постели — уж не Муши ли ее укусил! Сразу за этим последовал удар такой силы, что казалось: бомба взорвалась рядом с моей кроватью. Я закричала:
«Свет! Включите свет!».
Папа зажег лампу. Я ожидала, по крайней мере, пожара в доме, но у нас все было спокойно. Тогда мы поспешили наверх: узнать, что же там случилось.
Ван Дааны сидели у окна и смотрели на зарево. Господин ван Даан утверждал, что горит совсем близко, а госпожа думала, что огонь захватил и наш дом. Она вся тряслась и вскакивала от каждого удара. Дюссель спокойно курил сигарету наверху, а мы спустились и снова залезли в свои постели. Не прошло и пятнадцати минут, как стрельба возобновилась. Мадам бросилась в комнату Дюсселя в поисках защиты, которую ей, по-видимому, не мог дать ее благоверный. Дюссель встретил ее словами: «Добро пожаловать, дитя, в мою кровать!» Как мы хохотали… И наш страх совсем исчез.
Анна.
Воскресенье, 13 июня 1943 г.
Дорогая Китти!
Папа поздравил меня с днем рождения в стихах, которые ты непременно должна прочитать. Поскольку Пим творит на немецком, Марго засела за перевод.
Суди сама, как она преуспела в своем добровольном труде. Пропущу начало: короткое перечисление событий года. А вот, что следует потом:
Ты самая младшая, и это — злой рок,
Ведь каждый готов преподать свой урок.
Мы старше, мы лучше, мы знаем…
И вот, такое ты слышишь почти целый год.
Ошибки свои разбирать не хотим
А вот на чужие-то мы поглядим!
Не молоды мы, за плечами года,
И нам возражать ты не смей никогда.
Тебя ежедневно мы учим с утра,
Поскольку тебе мы желаем добра.
Ты любишь работать, учиться, читать
И время напрасно не станешь терять.
Но вот есть проблема: рубашка мала,
И брюки, и туфли, и жизнь не мила!
Растешь слишком быстро, не знаю, как быть,
Ведь скоро совсем будет не в чем ходить…
Куплет, посвященный теме еды, Марго не смогла перевести в рифму, поэтому я его пропущу. Ну и как тебе нравится это произведение?
Кроме стихов я получила чудесные подарки. Например, толстую книгу на мою любимую тему: римская и греческая мифология. В сладостях тоже нет недостатка: каждый поделился со мной последним. Так что меня, как самую младшую в нашем подпольном семействе, слишком балуют, больше, чем я этого заслужила.
Анна.
Вторник, 15 июня 1943 г.
Дорогая Китти!
У нас здесь много чего произошло, только боюсь, что моя пустая болтовня тебе надоела, и ты уже не рада так часто получать от меня письма. Поэтому ограничусь кратким описанием.
Господину Фоскейлу так ничего и не вырезали. Когда сделали надрез, обнаружили рак желудка в такой запущенной стадии, что операция уже помочь не могла. Разрез зашили, больного три недели продержали в больнице, где его хорошо кормили, а потом отпустили домой. Но сделали при этом чрезвычайную глупость: рассказали бедняге, что его ожидает. Теперь он не в состоянии работать, сидит дома в окружении своих восьмерых детей и думает только о предстоящей смерти. Мне его ужасно жалко, и я еще больше переживаю из-за того, что мы не можем выходить на улицу. Иначе я бы часто его навещала и, возможно, как-то отвлекла. Для нас настоящая драма, что мы не видим милого Фоскейла. Он нам рассказывал обо всем, что происходило на складе и в конторе. Он помогал нам и поддерживал нас лучше всех, и нам так его не хватает.
В следующем месяце мы должны сдать новым властям радиоприемник. Вместо него, нашего большого Филиппса, мы получим крошечное радио, приобретенное Кляйманом на черном рынке. Так жаль приемника, но дом, где скрываются люди, должен быть вне подозрений! А новое радио мы, конечно, установим у нас наверху. Нелегальный приемник присоединится к нелегальном евреям, живущим на нелегальные продуктовые карточки.
Каждый пытается приобрети старое радио, чтобы сдать его вместо своего «источника мужества». Я не преувеличиваю — чем хуже ситуация за окном, тем важнее голос из эфира, который каждый раз призывает не терять надежду:
«Поднимите головы, соберите силы, придут когда-то и иные времена!»
Анна.
Воскресенье, 11 июля 1943 г.
Дорогая Китти!
В который раз я снова обращаюсь к теме воспитания. Должна сказать, что очень стараюсь быть приветливой, милой и всем помогать. И вообще, готова на все, чтобы замечания не наступали на меня непрерывным потоком. Так трудно стараться для людей, которых не выносишь, ведь это значит — притворяться. Но я замечаю, что достигаю гораздо большого, проявляя иногда лицемерие, вместо того, чтобы по моей старой привычке высказывать свое мнение (хотя никто его не спрашивает и не считается с ним). Конечно, я не всегда последовательна в этой роли и не могу сдержаться в случаях явной несправедливости. И тогда все снова целый месяц твердят о самой несносной грубиянке на свете. Не правда ли, меня можно пожалеть? К счастью, я не нытик по натуре, иначе скисла бы совсем и не смогла сохранить хорошее настроение.
Стараюсь увидеть смешное в этих нападках, но это проще, когда они направлены на кого-то другого, а не на тебя лично.
Теперь о другом. Я решила (и это далось мне нелегко) стенографией больше не заниматься. Во-первых, тогда я смогу уделить больше времени другим предметам, во-вторых, из-за глаз: у меня с ними неприятности. Я становлюсь все больше близорукой, и мне давно пора носить очки. (Представляю себе, как потешно я в них буду выглядеть!). Но ты знаешь: мы сидим в подполье…
Вчера все в доме только и говорили, что об Анниных глазах, и у мамы даже возникла мысль: не пойти ли мне к окулисту с госпожой Кляйман? У меня голова закружилась от такой идеи — это не что-нибудь! На улицу! Только представить себе: на улицу! Даже думать об этом странно. Сначала я страшно испугалась, а потом обрадовалась. Но все не так просто: не все согласились с этим решением, хотя Мип была готова идти со мной хоть сейчас. Но нет, сначала нужно было хорошо обдумать, можем ли мы так рисковать. А я уже схватила свой серый плащ из шкафа, оказавшийся таким маленьким, как будто его носит моя младшая сестренка. Он не застегивается, и кайма распоролась.
Ужасно любопытно, пойду я все-таки к врачу или нет. Думаю, что нет. Тем более, англичане высадились в Сицилии, и папа предсказывает скорый конец войне.
Беп приносит мне и Марго много бумажной работы, которой мы очень рады.
И Беп теперь не так загружена. Сортировать письма и делать записи в приходной книге может каждый, но мы стараемся особенно. Мип — настоящий ломовой ослик, столько таскает на себе! Почти ежедневно где-то достает для нас овощи и привозит их на велосипеде в больших сумках. А по субботам она приносит каждому по пять библиотечных книг.
Поэтому мы не можем дождаться субботы, как маленькие дети — подарка. Обычным людям не понять, что означают книги для жителей Убежища. Чтение, учеба и радио — только этим мы живем.
Анна.
Воскресенье, 13 июля 1943 г.
СТОЛИК.
Вчера днем я, заручившись папиным согласием, спросила Дюсселя (причем очень вежливо!), не станет ли он возражать, если я буду дополнительно заниматься за письменным столиком в нашей комнате два раза в неделю с четырех до пол шестого. Сейчас этот столик в моем распоряжении ежедневно с пол третьего до четырех, поскольку Дюссель в это время спит. А остальное время он — единственный хозяин всей комнаты. В гостиной днем всегда очень шумно, там не позанимаешься, да и за общим столом обычно сидит папа. Так что все права на моей стороне, и даже можно было обойтись без такой вежливой просьбы. Но угадай — что ответил многоуважаемый Дюссель? «Нет!»
Наотрез, без комментариев: «Нет!».
Я была возмущена и решила так просто не отступать, поэтому попросила его объяснить причины отказа. И вот как он ловко дал мне отпор: «Я тоже должен работать: завершить свой учебный курс, не зря же я его начал. Это настоящая работа, а не какая-нибудь мифология, вязание и книжки. Тоже мне серьезные занятия. Нет, стол я не уступлю!».
Мой ответ: «Господин Дюссель, я ведь тоже учусь. И мне на это дается слишком мало времени. Очень прошу вас серьезно подумать над моим предложением».
После этих слов вежливая Анна повернулась и ушла и целый день делала вид, будто не замечает профессора. Я просто кипела от злости, и считала Дюсселя невозможным (так оно и есть!), а себя очень тактичной и обходительной.
Вечером мне удалось остаться наедине с Пимом. Я рассказала ему о положении дел и обсудила дальнейшие действия. Уступать Дюсселю я не собиралась и хотела разрешить проблему сама, без вмешательства других. Папа дал мне несколько советов и предупредил, что лучше отложить спор до завтра: сейчас я слишком на взводе. Но я ждать не могла, и когда посуда была вымыта, начала с Дюсселем разговор. Папа сидел в соседней комнате, что придавало мне уверенности. Я начала: «Господин Дюссель, боюсь, что вы не нашли нужным подумать о моей просьбе, не могли бы вы все-таки отнестись к ней внимательнее?». Дюссель ответил с милейшей улыбкой: «Всегда и во все времена готов обсудить этот (по-моему, уже закрытый) вопрос». Я продолжала, хотя Дюссель непрерывно меня прерывал: «С самого начала мы договорились о том, что делим комнату и имеем равные права. Вы занимаетесь по утрам, значит вторая половина дня должна быть моя. А я прошу вас всего о нескольких часах в неделю. Разве не справедливо?».
При этих словах Дюссель вскочил, как будто его укололи иголкой. «Кто здесь говорит о правах? И где я, по-твоему, должен находиться? Придется попросить господина ван Даана выделить для меня уголок на чердаке. Мне абсолютно негде работать! А ты только и знаешь, что со всеми ссориться! Вот, если бы твоя сестра обратилась ко мне с подобной просьбой, для которой она, кстати, имеет гораздо больше оснований, я бы ей не отказал. Но ты…». И последовал пассаж о мифологии и вязании, в общем, Анна опять во всем виновата. Я оставалась спокойной и дала Дюсселю высказаться. А он продолжал: «Да, что с тобой вообще говорить, бессовестной эгоисткой. Была бы твоя воля, ты бы ни с кем не считалась. Никогда не видел такого ребенка. Однако придется уступить, а то потом еще обвинят в том, что Анна Франк из-за меня провалилась на экзамене. Потому что из-за господина Дюсселя она не могла сидеть за письменным столом!».
И так далее и так далее, повторить эту околесицу я не в состоянии.
Господи, так хотелось дать ему по роже и шмякнуть о стенку — гадкого вруна!
Но я взяла себя в руки и подумала: «Спокойно, это ничтожество не достойно моих переживаний!».
Наконец Дюссель выговорился и с лицом, выдающим одновременно триумф и поражение, вышел из комнаты. Однако не забыл прихватить пальто с карманами, полными продуктов, которые передала его жена.
Я побежала к папе и передала ему наш разговор, так как он не все расслышал. Пим решил сам поговорить с Дюсселем. Их беседа состоялась в тот же вечер и продолжалась полчаса. Речь шла все о том же: имеет ли Анна право пользоваться письменным столом. Папа сказал, что они это когда-то уже обсуждали. Тогда он уступил Дюсселю, как старшему, не считая однако эту уступку справедливой. Дюссель ответил, что я выдвинула против него разные обвинения: он якобы возомнил себя хозяином комнаты и хочет всем распоряжаться. Тут папа возразил: он сам слышал, что я ничего подобного не говорила. В общем, туда-сюда, папа доказывал, что я не эгоистка, заступался за мою «бесполезную» работу, а Дюссель продолжал ворчать. В итоге он согласился уступить мне столик два дня до пяти часов. При этом с пяти до пол шестого он демонстративно усаживался за него. Как можно так валять дурака!
Но если человек так глупо принципиален и мелочен в 54 года, то его уже не изменить…
Анна.
Пятница, 16 июля 1943 г.
Дорогая Китти!
Снова взлом, но в этот раз настоящий! В семь утра Петер спустился, как обычно, на склад и увидел, что двери склада, а также наружная открыты настежь. Он тут же доложил об этом Пиму, который слушал радио в директорском кабинете. Вместе они поднялись наверх. Тут же последовали указания, обычные для подобных ситуаций: не мыться, соблюдать тишину, к восьми часам закончить утренние процедуры и после этого не пользоваться туалетом. Мы все были рады, что ночью ничего не слышали и хорошо выспались. Нас удивило, да и возмутило, что никто из наших помощников долго не приходил, и мы оставались в неизвестности. Наконец, в пол двенадцатого появился Кляйман и рассказал, что воры действовали ломом. На складе было совершенно нечего взять, поэтому они поднялись на второй этаж и унесли оттуда два ящичка с деньгами, по сорок гульденов в каждом, пустые чековые книжки, и самое главное — наши талоны на сахар, на целых 150 килограмм. Достать новые карточки будет очень непросто.
Господин Куглер предполагает, что воры из той же шайки, что и предыдущие, которые шесть недель назад пытались попасть внутрь, но не смогли.
Конечно, этот случай вызвал переполох, впрочем, волнения и паника стали у нас в Убежище привычными. Мы, конечно очень рады, что пишущие машинки и касса были надежно спрятаны в нашем платяном шкафу.
Анна.
P.S. Высадка в Сицилии. Еще один шаг к…
Понедельник, 19 июля 1943 г
Дорогая Китти!
В воскресенье север Амстердама сильно бомбили. Разрушения нанесены страшные: целые улицы в развалинах, и не так скоро удастся освободить лежащих под ними людей. Пока насчитывают двести погибших и несчетное количество раненых. Больницы переполнены. Мы слышали, что дети искали своих мертвых родителей среди тлеющих руин. Дрожь охватывает, когда вдалеке снова раздаются глухиие удары — предвестники новой беды.
Анна.
Пятница, 23 июля 1943 г.
Дорогая Китти!
Беп снова сумела приобрести тетради, точнее, приходные и учетные книги для моей помешанной на бухгалтерии сестры! Обычные тетради тоже можно купить, но не спрашивай меня, какие. Эти тетрадки с надписью «Продаются без талонов» такая же халтура как и все бесталонные товары. Двенадцать жалких страничек серой криво разлинованной бумаги. Марго сейчас думает, не поступить ли ей на заочные курсы чистописания. Думаю, это, действительно, что-то для нее. А мне мама не разрешает — из-за глаз. Вот ерунда, на самом деле, что бы я ни делала, результат тот же. Ты, Китти, не знаешь, что такое война и даже, несмотря на мои письма, не можешь представить себе до конца жизнь в Убежище. Поэтому тебе будет интересно и забавно узнать, что мечтает сделать каждый из нас в первый день выхода на свободу.
Марго и господин ван Даан мечтают залезть в горячую ванну и просидеть там не менее получаса, а госпожа ван Даан — наесться пирожных. Дюссель, разумеется, помчится к своей Шарлотте. Мама грезит о чашечке кофе, а папа немедленно навестит господина Фоскейла. Петер пойдет в кино. А я? Я буду так счастлива, что не знаю, что сделаю! Прежде всего, я так хочу оказаться в собственной квартире, снова быть свободной и пойти в школу!
Беп предложила купить для нас фрукты. Стоят всего-то ничего. Виноград пять гульденов за килограмм, крыжовник 70 центов за полкило, один персик 50 центов, килограмм дыни 1.50. А между тем в каждой газете написано огромными буквами: «Вздувание цен равносильно ростовщичеству!»
Анна.
Понедельник, 26 июля 1943 г.
Дорогая Китти!
Вчера был беспокойный день, и мы до сих пор взволнованы. Ты уже, наверно, заметила, что ни один день у нас не проходит без волнений. Утром, во время завтрака мы услышали предупреждающую сирену, чему не придали особого значения: такое предупреждение означало, что вражеские самолеты только на побережье. После завтрака я прилегла — очень болела голова.
Потом, примерно в два часа спустилась в контору. Марго как раз закончила сирена. Мы побежали наверх и вовремя: пять минут спустя стали стрелять так сильно, что все собрались в коридоре. За выстрелами последовали бомбы, казалось, что весь наш дом трясется. Я прижимала к себе чемоданчик — скорее просто, чтобы за что-то уцепиться, чем в самом деле бежать. Ведь улица для нас не менее опасна, чем бомбежки. Через полчаса снаружи стало спокойнее, но смятение в доме сохранялось. Петер спустился со своего наблюдательного поста на чердаке, Дюссель уселся в главной комнате конторы, а госпожа ван Даан чувствовала себя безопаснее в директорском кабинете. Господин ван Даан наблюдал за налетом с мансарды. Мы решили присоединиться к нему и увидели возвышающееся над домами густое облако дыма, напоминающее туман. Пахло гарью. Конечно, страшное зрелище — такой большой пожар, но опасность для нас, к счастью, миновала, и мы занялись нашими повседневными делами. Вечером во время ужина — снова тревога. Еда была очень вкусная, но аппетит у нас сразу пропал, во всяком случае, у меня — уже от одного звука. Однако, в течение сорока пяти минут ничего не произошло. Только вымыли посуду, опять сирены. «О, нет, это слишком — второй раз за день!». Но наше мнение ничего изменить не могло, и снова началась бомбежка, в этот раз со стороны аэропорта. Самолеты снижались, взлетали, все гудело, жужжало — жутко до ужаса. В какой-то момент я подумала: «Вот упадет бомба, и ничего от нас не останется».
Представляешь, уже в девять часов я пошла спать, меня просто ноги не держали. Проснулась с боем часов в пол двенадцатого ночи: и что слышу — самолеты! Дюссель как раз раздевался, но мне было не до него, и я, вскочив с кровати, побежала к папе. Потом вернулась к себе, но в два часа — повторение сценария. Наконец, все затихло, и в пол третьего я заснула. Семь часов. Вскакиваю в испуге и слышу, что ван Даан разговаривает с папой. Моя первая мысль была о ворах. Ван Даан как раз произнес: «Все». Значит, думаю я, все украли! Оказалось, вовсе нет, наоборот. Замечательная новость, лучшая за последние месяцы, а возможно, и с самого начала войны: Муссолини сдал полномочия, и во главе итальянского правительства встал король. Мы ликовали! После вчерашнего кошмара — такое потрясающее известие и… надежда! Надежда на конец, надежда на мир.
Куглер зашел ненадолго и рассказал, что фабрика Фоккера сильно разрушена. Утром опять сирены и самолеты, я просто задыхаюсь от них, не могу выспаться, и не могу заставить себя заниматься. Но новость об Италии продолжает радовать и волновать. Что принесет нам конец года?
Анна.
Четверг, 29 июля 1943 г.
Дорогая Китти!
Я мыла посуду вместе с госпожой ван Даан и Дюсселем и, вопреки своим привычкам, молчала. Чтобы ко мне не приставали с вопросами — что такое со мной случилось — я придумала нейтральную тему для разговора, а именно книгу «Генри из дома напротив». Но просчиталась, и ввязалась в спор, только в этот раз не с госпожой ван Даан, а с Дюсселем. Собственно, именно он весьма настоятельно советовал нам почитать эту книгу. Однако, мы с Марго не пришли от нее в восторг. Пожалуй, главный герой — молодой парнишка — был представлен неплохо, но все остальное… И вот я сказала что-то об этом во время мытья посуды и, боже, что началось!
«Тебе ли понять психологию мужчины! Вот ребенка ты еще можешь. И вообще, ты слишком мала для этой книги, ее даже двадцатилетним читать рано.»
(Интересно, почему же он рекомендовал ее нам с Марго?)
А потом Дюссель с мадам принялись атаковать меня хором: «Ты слишком много знаешь о вещах, до которых еще не доросла, тебя плохо воспитали!
Позже, когда ты повзрослеешь, уже ничего для себя не откроешь и будешь говорить: «Oб этом я двадцать лет назад читала в книгах». Придется поторопиться, если ты еще хочешь влюбиться и выйти замуж. Ты уже все знаешь, вот только практики не хватает!»
Представляешь, каково мне было? Удивляюсь, как я еще сохранила спокойствие и смогла достойно ответить: «Это ваше мнение, что я плохо воспитана, но далеко не все с вами согласны!».
Это им-то говорить о воспитании — им, которые только и делают, что настраивают меня против моих родителей! А их метод воспитания — никогда не говорить с детьми на взрослые темы — конечно, идеальный! Вот они сами и результат такого метода, а больше доказательств не требуется. Этим двум людишкам, так подло высмеивающим меня, я бы с радостью надавала пощечин. Я была просто вне себя и, если бы могла, то непременно стала бы вести учет дням, которые осталось с ними провести. Но никто не знает, как долго нам еще сидеть здесь.
А госпожа ван Даан — вот это экземпляр! Ничего худшего и придумать невозможно: зазнайка, проныра, эгоистка. Расчетлива, тщеславна и всегда всем недовольна. Да при этом еще и кокетничает! Отвратительная личность — это даже не подлежит дискуссии. О ней можно написать книгу, и кто знает, может, я когда-то это сделаю. Зато мадам умеет навести на себя внешний лоск и очень любезна к незнакомым, особенно к мужчинам. Поэтому на многих она производит ложное впечатление при первом знакомстве.
Мама считает ее глупой, Марго — вообще недостойной внимания, Пим — уродливой в буквальном и переносном смысле. А я после долгого общения с ней (она с самого начала меня не очень расположила) согласна со всеми тремя, хотя недостатков у нее гораздо больше. Столько, что бессмысленно обсуждать отдельные из них, поэтому не буду и начинать.
Анна.
P.S. Прошу читателя принять в виду, что автор написанного выше еще далеко не остыла от гнева!
Вторник, 3 августа 1943 г.
Дорогая Китти!
Политические дела идут как нельзя лучше. В Италии запретили фашистскую партию, и в разных местах народ вступил в борьбу с захватчиками, часто при поддержке армии. Почему же они до сих пор воюют с Англией?
Наше замечательное радио сдали властям. Дюссель злится, что Куглер просто отнес его в назначенный день. Вообще Дюссель в моих глазах опускается все ниже, сейчас он уже достиг отметки ниже нуля. Все, что он говорит — о политике, истории, географии и о чем бы то ни было — такая чушь, что повторить стыдно.
А Гитлер постепенно уходит в прошлое. Порт Роттердама гораздо больше, чем Гамбурга. Считаю англичан идиотами: почему они не бросят все силы на бомбардировку Италии?
А у нас бомбили третий раз. Я сжала зубы и старалась хранить мужество.
Госпожа ван Даан, всегда твердившая: «Ах, ну и пусть» и «Лучше умереть мгновенно», оказалась самой трусливой. Сегодня она тряслась, как осиновый лист, и даже расплакалась. Ее муж, с которым она как раз заключила перемирие после недельной ссоры, успокаивал ее. До чего сентиментально!
Кошки далеко не всегда приносят счастье, что и доказал наш Муши. Весь дом полон блох, и их с каждым днем становится все больше. Господин Куглер во всех углах насыпал желтый порошок, но блохам от него хоть бы что. Мы все из-за этого нервничаем, и стоит где-то почесаться, сразу мысли о блохах и попытки разглядеть соответствующие места, например, на ноге или шее.
Оказалась, что наклоняться и вертеться нам не так просто, мы здесь все отвыкли двигаться, и занятия гимнастикой отнюдь не были бы лишними.
Анна.
Среда, 4 августа 1943 г.
Дорогая Китти!
Вот уже год, как мы здесь, в Убежище, и ты много знаешь о нашей жизни.
Но далеко не все, ведь рассказать обо всем просто невозможно! Мы живем здесь совсем иначе, чем в нормальные времена, в нормальных условиях. Чтобы ты получила об этом немного больше представления, опишу, как проходит наш день.
Начну с вечера и ночи.
В девять вечера начинаются хлопоты по приготовлению ко сну. Возня ужасная! Составляются стулья, устанавливаются раскладушки, застилаются постели, дом полностью преображается. Я сплю на маленьком диване длиной 1.50 метра. Поэтому к нему приставляются стулья. А с кровати Дюсселя убирают все, что хранится на ней днем — постельное белье, подушки, одеяла…
В какой-то момент раздается громкий треск: это раскладушка Марго! На нее взгромождают одеяла и подушки, чтобы спалось не так жестко. Снова шум — кажется, что разразилась гигантская буря но это всего лишь кровать госпожи ван Даан. Ее, видите ли, необходимо подвинуть к окну, чтобы Ее Высочество, облаченное в розовую ночную рубашку, дышало свежим воздухом.
Ровно в девять вечера Петер освобождает ванную, которая поступает в мое распоряжение. Я тщательно моюсь, и нередко (правда, лишь, когда жарко) обнаруживаю в раковине маленькую блошку… Чищу зубы, накручиваю волосы, обрабатываю ногти, осветляю волосики на верхней губе, и все за какие-то полчаса!
Пол десятого. Быстро натягиваю на себя халат. С мылом в одной руке, ночным горшком, бигудями, невидимками и ватой в другой я быстро покидаю ванную комнату. Частенько меня зовут обратно с просьбой убрать мои черные волосы, так мило украсившие раковину, но это почему-то не устраивает следующего «мойщика».
Десять часов. Опускаем шторы, желаем друг другу спокойной ночи. В течение четверти часа еще слышен скрип кроватей, писк сломанных пружин. Потом все затихает, если, конечно, верхние не затеяли очередную ссору.
Пол двенадцатого. Скрипит дверь ванной. В комнату проникает тонкий луч света и вплывает огромный халат. Это Дюссель, завершивший свои ночные занятия в конторе Куглера. Десять минут он возится, шуршит бумагой (заворачивает свои личные продовольственные запасы), стелет постель. Затем удаляется в туалет, откуда время от времени слышатся подозрительные звуки.
Примерно три часа. Я встаю по малой нужде, для чего использую металлический ночной горшок. Под него подложен резиновый коврик — на случай протечки. Стараюсь не дышать: звук напоминает шум горного ручья. Потом горшок ставится на место, и фигура в белой ночной рубашке (каждый вечер Марго вопит: «О, эта непристойная рубашка») снова ныряет в постель. А потом я, по крайней мере, четверть часа прислушиваюсь к ночным звукам. Не прокрались ли в дом воры, что там наверху, а что в комнате рядом? По звукам можно определить, спят ли крепко обитатели дома или мучаются бессонницей.
Последнее обстоятельство меня не радует, особенно, если оно касается представителя династии Дюсселей. Сначала обычно слышатся звуки, похожие на вздохи рыбы, выброшенной на сушу — раз десять. Затем облизывание губ, причмокивание, повороты с одного бока на другой и взбивание подушек. Пять минут тишины и снова знакомая череда звуков. После ее трехкратного повторения Дюссель, наконец, погружается в сон.
Случается, что ночью в период с часу до трех стреляют. Не успев сообразить, в чем дело, я обычно вскакиваю с постели. Но иногда не пробуждаюсь окончательно и повторяю в полусне неправильные французские глаголы или вспоминаю последнюю ссору «верхних». А когда наступает тишина, вдруг соображаю, что была перестрелка. Но чаще всего хватаю подушку, носовой платок, быстро набрасываю халат, влезаю в тапки и бегом к папе! Марго описала это в стихотворении на мой день рождения:
Как только ночью начинают стрелять,
Перед нашими глазами возникает опять
Платок, подушка и наша девчушка…
В большой кровати не так страшно, разве что, если стреляют очень сильно.
Без четверти семь. Тррр… Звенит будильник. «Щелк» — госпожа ван Даан нажала на кнопку, и звон прекратился. «Крак» — встал господин. Звук льющейся воды в ванной.
Четверть восьмого. Скрип двери. Дюссель направляется в ванную. Раздвигаются шторы, и в Убежище начинается новый день.
Анна.
Четверг, 5 августа 1943 г.
Дорогая Китти!
Сегодня расскажу, как проходит у нас обеденный перерыв.
Пол первого. Вся компания вздыхает с облегчением. Сотрудники конторы — ван Марен, человек с сомнительным прошлым и де Кок — ушли домой. Наверху слышен шум пылесоса: госпожа чистит свой любимый и единственный коврик.
Марго с парой учебников под мышкой идет давать уроки «трудно обучающимся детям», а именно Дюсселю: он как раз относится к этой категории. Пим в уголке погружается в своего любимого Диккенса, надеясь хоть недолго посидеть спокойно. Мама спешит наверх помочь другой усердной хозяйке, а я иду в ванную, чтобы прибрать там, а заодно привести себя в порядок.
Без четверти час. Принимаем гостей. Сначала появляются господин Гиз, потом Кляйман или Куглер, Беп и иногда Мип.
Час дня. Собравшись все вместе около нашего миниатюрного приемничка и затаив дыхание, слушаем Би-Би-си. Это единственные минуты дня, когда жители Убежища не пререкаются друг с другом, даже господин ван Даан не вступает в спор с тем, кто передает последние известия.
Четверть второго. Раздача супа. Каждый получает свою порцию, а иногда еще что-то на сладкое. Господин Гиз уютно устраивается на диване или за письменным столом — с газетой, тарелкой и обычно котом на коленях. Если хоть один из этих атрибутов отсутствует, он явно не доволен. Кляйман рассказывает последние городские новости — никто не умеет это лучше него.
Топ-топ — Куглер взбегает по лестнице, стучит в дверь и входит, потирая руки. Он весел и энергичен или наоборот мрачен и немногословен, в зависимости от настроения.
Без четверти два. Гости покидают нас, чтобы вернуться к своим служебным обязанностям. Марго с мамой моют посуду. Господин и госпожа отдыхают, папа и Дюссель тоже ложатся вздремнуть, Петер удаляется к себе на чердак, а Анна приступает к занятиям. Я люблю этот спокойный час: почти все спят, и никто не мешает. Дюсселю явно снится что-то вкусненькое: это видно по выражению его лица. Но долго любоваться им нет времени: ведь ровно в четыре наш педант, разбуженный будильником, потребует освободить для него письменный стол.
Анна.
Понедельник, 9 августа 1943 г.
Дорогая Китти!
Продолжаю рассказ о распорядке дня в Убежище. Опишу, как проходит наш обед.
Господин ван Даан.
Его обслуживают в первую очередь, и он, не стесняясь, накладывает еду на тарелку, особенно, если она ему по вкусу. Принимает активное участие в разговорах за столом, обо всем имеет свое мнение. Ему лучше не возражать, а если кто и пытается, то всегда проигрывает. О, он как кот, шипит на противника… Испытав это один раз, второй попытки уже делаешь. Что ж, он в самом деле умен, но и уверен в себе в высшей степени.
Мадам.
Лучше мне о ней промолчать. Бывают дни, когда она особенно не в духе, и это явно отражается на ее лице. Говоря откровенно, она виновата во всех ссорах. Натравливать людей друг на друга — ах, как ей это нравится.
Например, госпожу Франк на Анну. Вот только с Марго и с ее собственным супругом эти номера не проходят. А за столом… Не подумайте, что госпожа чем-то обделена, хотя она сама в этом уверена. Самые мелкие картофелины, все вкусное, нежное, сочное должное достаться ей! (Как раз эти желания мадам приписывает Анне Франк). Второе ее хобби — говорить, лишь бы нашелся слушатель, и неважно — интересно тому или нет. Ведь то, что рассказывает госпожа ван Даан, не может быть неинтересным. Ужимки, кокетничанье, уверенность в собственной компетенции, советы направо и налево — должны по ее мнению произвести впечатление. Но если присмотреться получше, то узнаешь ее суть. Энергичная, кокетливая и иногда довольно смазливая. Такова Петронелла ван Даан.
Третий сосед по столу.
обычно не привлекает к себе внимания. Господин ван Даан младший обычно молчалив и спокоен. Но что касается аппетита — бочка Данаиды! Он никогда не наедается и после сытного обеда весьма серьезно уверяет, что мог съесть еще вдвое больше.
Номер четыре: Марго.
Ест как мышка и не произносит ни слова. Питается исключительно овощами и фруктами. «Избалована» — мнение ван Даанов. «Плохой аппетит из-за недостатка свежего воздуха и движения», — считаем мы.
Мама.
На аппетит не жалуется и любит поговорить. В отличие от госпожи ван Даан не похожа на домашнюю хозяйку. А в чем собственно отличие? Госпожа ван Даан готовит, а мама моет посуду и убирает.
Номер шесть и семь.
О папе скажу немного. Он самый скромный за нашим столом. Прежде, чем положить еду на тарелку, всегда смотрит, достаточно ли у других. Ему ничего не нужно, все прежде всего для детей. Он пример всего хорошего.
А рядом с ним восседает заноза нашего Убежища. Дюсель накладывает еду в тарелку, ест молча, ни на кого не глядя. Если и говорит, то только о еде, что обычно к ссорам не приводит. Поглощает гигантские порции, никогда не отказывается — неважно, вкусно или нет. На нем брюки, которые доходят почти до груди, красный пиджак, черные лакированные туфли и очки в роговой оправе.
Целый день он работает за письменным столом, прерываясь лишь для дневного сна, еды и похода в свое любимое местечко… туалет. Три, четыре, пять раз в день кто-то в нетерпении стучит в дверь туалета, переминаясь с ноги на ногу — нужно срочно! Однако Дюссель невозмутим. С четверти до половины восьмого, с половины первого до часа, с двух до четверти третьего, с четырех до четверти пятого, с шести до четверти седьмого и с половины двенадцатого до двенадцати его оттуда не сдвинешь. Это «дежурные часы» — запишите, если хотите. Он их всегда соблюдает, не обращая внимания на мольбы за дверью.
Номер девять.
Беп, хоть не является постоянной обитательницей Убежища, но наш частый гость в доме и за столом. У Беп замечательный здоровый аппетит, ест все, что на тарелке, не придирчива. Она всему рада, и этим доставляет нам удовольствие. Веселая, добрая, отзывчивая, всегда в хорошем настроении — вот ее характер.
Анна.
Вторник, 10 августа 1943 г.
Дорогая Китти!
У меня появилась блестящая идея: за столом чаще беседовать с самой собой, чем с другими, что удобно в двух отношениях. Во-первых, все довольны, когда я не тараторю без умолку, во-вторых, и мне не приходится злиться из-за замечаний. Они считают все мои мысли глупыми, я же с этим совершенно не согласна. Что ж, буду теперь держать их при себе! Например, когда на обед подают то, что я терпеть не могу, стараюсь не смотреть на тарелку, представляю, что это что-то очень вкусное и так постепенно все съедаю. По утрам не хочется вставать, но я спрыгиваю с постели, утешая себя тем, что предстоит хороший день, иду к окну, открываю шторы, вдыхаю немного свежего воздуха и окончательно просыпаюсь. Надо поскорее убрать постель, чтобы не было соблазна снова туда влезть. Знаешь, как мама теперь меня называет?
Актрисой по жизни. Забавно, как ты считаешь?
Уже неделю мы живем вне времени: куранты с башни Вестерторен сломались, и мы теперь ни днем ни ночью не знаем в точности, который час. Очень надеюсь, что нашим милым часам найдут замену.
Где бы я ни была — внизу или наверху — все с восхищением смотрят на мои ноги, обутые в необыкновенно шикарные (в эти-то времена) туфли. Мип купила их по случаю за 27,50 гульденов. Ярко-красные, замша с кожей и довольно высокий каблук. Хожу, как на ходулях, и кажется, что я гораздо выше, чем на самом деле.
Вчера у меня был несчастливый день. Началось с того, что я уколола большой палец толстой иголкой, да к тому же — ее тупым концом. В результате Марго одна чистила картошку, так что плохое обернулось и чем-то хорошим: я смогла, насколько позволял палец, заняться дневником. Потом я налетела головой на дверцу шкафа и упала почти навзничь. Шум, конечно, был изрядный, за что я получила очередной нагоняй. Мне не разрешили открыть кран, чтобы приложить холодное полотенце к ушибленному месту, так что хожу с огромной шишкой над правым глазом. В довершение всех бед я прищемила пылесосом мизинец правой ноги. Было больно, пошла кровь, но я, занятая другими своими бедами, не обратила на это особого внимания. И напрасно: мизинец воспалился, и теперь он обклеен всевозможными пластырями, из-за чего я не могу носить свои новые великолепные туфли.
Из-за Дюсселя мы в очередной раз подверглись опасности. Мип захватила по его просьбе запрещенную книгу — памфлет на Муссолини. По дороге на нее наехал эсэсовский мотоцикл. Мип вышла из себя и закричала: «Скоты!». А если бы ее задержали… И подумать страшно.
Анна.
Одно из наших обязательных повседневных занятий: чистка картофеля!
Кто-то приносит газеты, другой — ножи (для себя, конечно, самый лучший), третий — картошку, четвертый — воду.
Господин Дюссель приступает к делу: скребет не всегда идеально, но не прерываясь. Одновременно поглядывает по сторонам, наблюдая, работают ли другие так же тщательно, как он. А вот и нет!
Дюссель (с ужасным голландским произношением): «Анна, посмотри, я беру ножик и веду им сверху вниз… Нет, нет, не так… а так!».
«Господин Дюссель, я чищу, как мне удобно».
«Но это нерационально! Почему бы тебе не поучиться у меня? Хотя я, собственно, не вмешиваюсь, дело твое».
Мы продолжаем чистить, и я украдкой поглядываю на своего соседа. Он то и дело покачивает головой, вероятно, продолжает мысленно читать мне мораль.
Но молчит.
Чистим. Теперь я смотрю на папу, сидящего в другом конце комнаты. Для него чистка картошки — вовсе не скучная обязанность, а настоящее искусство. Когда папа читает, то на его лбу образуется характерная морщинка. А если он чистит картошку, бобы или другие овощи, то и этими делами поглощен полностью. Даже лицо у него становится по-настоящему картофельным, а очищенная им картошка выглядит замечательно. Да иначе и нельзя, если работаешь с таким лицом.
Я тружусь дальше: достаточно взглянуть на папу, и настроение уже поднимается. Госпожа ван Даан все пытается привлечь внимание Дюсселя.
Стреляет глазками, но доктору хоть бы что. Подмигивает, а Дюссель продолжает работу, не глядя на нее. Тогда она смеется, но тот по-прежнему невозмутим.
Мадам осталась ни с чем, тогда она меняет тактику. Царит недолгая тишина, потом раздается крик: «Путти, одень же фартук. Иначе завтра опять не удастся вывести пятна с твоего костюма!»
— Я ничего не испачкаю.
Снова тишина.
— Путти, почему бы тебе не присесть?
— Мне гораздо удобнее работать стоя!
Пауза.
— Ой, Путти, смотри — ты брызгаешь!
— Мамочка, я внимательно слежу за тем, что делаю.
Мадам ищет другую тему.
— Скажи, Путти, почему англичане сейчас не бомбят?
— Потому что плохая погода, Керли.
— Но вчера небо было ясным, а налетов тоже не было.
— Давай не будем об этом говорить.
— Почему? Говорить и высказывать свое мнение можно…
— Нет!
— Но почему нет?
— Замолчи, пожалуйста, мамулечка!
— А господин Франк всегда отвечает своей жене.
Ван Даан явно борется собой. Кажется, супруга затронула его больное место. А та продолжает ныть: «Наверно, высадки союзников нам не дождаться!».
Господин бледнеет. Госпожа замечает это, становится красной, однако продолжает: «Англичане ничего не добьются!» Тут чаша терпения переполняется:
«Да прекрати же, черт побери!».
Мама не может сдержать смеха, я стараюсь смотреть серьезно.
И такое повторяется почти ежедневно, если только супруги накануне серьезно не поссорились — тогда они упорно молчат.
Я должна принести еще картошки. Поднимаюсь на чердак, где Петер ищет блох у кота. Но мой приход отвлекает его, кот это замечает, вырывается и убегает через открытое окно. Петер чертыхается, а я смеюсь и ухожу.
Свободное время в Убежище.
Пол шестого:
Беп приходит сообщить, что работники покинули контору. Мы вместе поднимаемся наверх и угощаем ее чем-то вкусненьким. Не успеет Беп сесть, как госпожа ван Даан начинает приставать к ней с всевозможными просьбами: «Ах Беп, а еще мне хотелось бы…». Беп подмигивает мне, мадам не оставляет ни одного из наших гостей без просьб. Не удивительно, что они не очень охотно к нам заходят!
Без четверти шесть:
Беп уходит. Я спускаюсь на два этажа ниже, заглядываю на кухню, потом в директорский кабинет, открываю дверь погреба, чтобы впустить Муши поохотиться на мышей. Обойдя все помещения, устраиваюсь в кабинете Куглера.
Ван Даан просматривает все папки и ящики в поисках последней почты. Петер берет ключ от склада и уносит Моффи, Пим поднимает наверх пишущие машинки.
Марго ищет спокойное место для своей административной работы. Госпожа ван Даан ставит чайник, мама спускается вниз с кастрюлей картошки, в общем, все при деле.
Но вот Петер возвращается со склада. Наши помощники забыли оставить для нас хлеб! Приходится Петеру самому достать его из несгораемого шкафа конторы, который стоит в зале конторы. Чтобы его не заметили с улицы, он ползет, хватает хлеб и уже хочет уйти, но тут Муши прыгает через него и забирается под письменный стол. Петер ищет кота, и обнаружив, снова ползет и хватает за хвост. Муши шипит, Петер вздыхает, а что в результате? Кот усаживается перед окном, очень довольный, что ему так ловко удалось улизнуть. Петер использует последнее спасительное средство: заманивает Муши кусочком хлеба. Тот поддается соблазну, следует к двери, которую, наконец, удается захлопнуть.
Я наблюдаю за всем этим через щелку. Господин ван Даан выходит из себя и хлопает дверью: явно злится на забывчивость Куглера.
Снова шаги: входит Дюссель с видом хозяина, усаживается у окна, вынюхивает там что-то и начинает неудержимо чихать и кашлять: перец! Он направляется в главную контору, но его предупреждают, что шторы открыты: значит, нет доступа к почтовой бумаге. Дюссель удаляется с недовольным лицом.
Я и Марго обмениваемся взглядами. «Завтра письмо обожаемой супруге будет страничкой меньше», — шепчет она. Я киваю.
Слоновый топот на лестнице. Это Дюссель, который не может найти местечка, где бы утешиться.
Мы продолжаем свои занятия. Тук-тук-тук. Стучат три раза: зовут ужинать!
Понедельник, 23 августа 1943 г.
Пол девятого:
Марго и мама нервничают. «Шшш, папа тише. Пим! Отто! Пол девятого. Да сядь же наконец, и не включай кран! И не топай так!». Все эти предупреждения относятся к папе, который еще в ванной. Необходимо соблюдать полную тишину: не включать воду, не пользоваться туалетом, не ходить. Сотрудники конторы еще не пришли, но есть рабочие на складе, а слышимость там сейчас очень высокая.
В двадцать минут девятого приоткрывается дверь, и раздаются три стука — это значит, что Анне принесли кашу. Я беру блюдечко, похожее на собачью миску. Потом в бешеном темпе причесываюсь, убираю кровать и выношу ночной горшок. Тихо! Бой часов! Госпожа ван Даан сменяет туфли на тапочки, господин Чарли Чаплин тоже в тапках, все сидят смирно. Идеальная семейная картинка. Я читаю или что-то учу, как Марго и мама с папой. Папа со своим любимым Диккенсом и словарем сидит на краю полуразвалившейся кровати, матрас которой заменяют две перины («Мне так очень удобно!»). Углубившись в чтение, он не смотрит по сторонам, иногда посмеивается, пытается поделиться впечатлениями с мамой, на что получает ответ: «У меня нет времени!» Папа явно разочарован, читает дальше, и когда ему что-то очень нравится, пытается снова: «Это ты обязательно должна прочесть, мамочка!». Мама сидит на раскладушке — читает, учит, шьет или вяжет — в зависимости от своего расписания. Вдруг ей что-то приходит в голову, и она тут же об этом сообщает: «Анна, имей в виду, что…» «Марго, запиши, пожалуйста…».
Снова воцаряется тишина. Но вот Марго захлопывает книгу. Папа строит смешную рожицу, однако его «читательская» морщинка тут же возвращается, и он снова углубляется в книгу. Мама начинает болтать с Марго, я прислушиваюсь из любопытства. Пим тоже присоединяется к беседе… Девять часов! Завтрак!
Пятница, 10 сентября 1943 г.
Дорогая Китти!
Каждый раз, когда я тебе пишу, у нас что-то случается. Скорее неприятное, чем приятное. Но сейчас хорошие новости!
В среду в семь вечера мы включили радио и услышали следующее: «Передаем самое радостное сообщение со времени начала войны: Италия безоговорочно капитулировала!». Это было английское радио, а в четверть девятого заговорило голландское: «Дорогие слушатели, час с четвертью назад, буквально сразу после последнего выпуска новостей, поступило радостное известие о капитуляции Италии. Должен признаться, что я еще никогда с таким удовольствием я не выкидывал в корзину для бумаг текст с устаревшими новостями!»
Потом сыграли гимны Англии, Америки и России. Голландское радио звучало, как всегда, сердечно, но не очень оптимистично.
Англичане высадились в Непале. Северная Италия оккупирована немцами. В пятницу третьего сентября было подписано перемирие, и в этот же день англичане высадились в Италии. Немцы в своих газетах проклинают на все лады предательство Бадоглио и итальянского короля.
К сожалению, есть у нас и плохие новости — о господине Кляймане. Ты знаешь, как мы все его любим. Несмотря на плохое здоровье, постоянные боли, ограничительную диету и быструю усталость, он всегда бодрый и на удивление мужественный. «Когда приходит господин Кляйман, то восходит солнце», — сказала мама недавно, и она совершенно права.
Сейчас его кладут в больницу на целые четыре недели, и ему предстоит тяжелая операция кишечника. Ты бы видела, как он спокойно распрощался с нами, как будто всего лишь уходил в магазин за покупками.
Анна.
Четверг, 16 сентября 1943 г.
Дорогая Китти!
Наши взаимоотношения здесь — что ни день, то хуже. За столом никто и рта не решается открыть (кроме, как для еды, конечно): что бы ты не сказал, тебя понимают неправильно или подозревают злой умысел. Господин Фоскейл иногда к нам заходит. Дела у него плохие. И семье приходится несладко — он всех как бы постоянно упрекает: «Какое мне дело до всего, я все равно скоро умру!». Могу представить ситуацию у него дома, если и нас это раздражает!
Каждый день я глотаю валерьянку против страхов и депрессии, но это не гарантирует того, что на следующий день я не проснусь в еще более противном настроении. Хороший здоровый смех помог бы лучше всяких лекарств, но смеяться здесь мы как-то разучились. Иногда боюсь, что от постоянного серьезного выражения лица углы рта у меня так навсегда и останутся опущенными. С другими обитателями Убежища дела не лучше. Все мы, полные печальных предчувствий, ждем зимы.
Еще одна неутешительная новость: ван Марен, работник склада, кажется, что-то заподозрил. И не удивительно: не нужно обладать большим умом, чтобы не заметить, что Мип часто отлучается в лабораторию, Беп — в архив, Кляйман — в большой склад фирмы. Да и заявление Куглера о том, что задняя половина дома принадлежит не Опекте, а соседу, может вызвать недоверие. Догадки ван Марена не особенно бы нас занимали, если бы не его сомнительная и неблагонадежная репутация.
На днях Куглер решил соблюсти особую осторожность. В двадцать минут первого он надел пальто и пошел по направлению аптеки. Но через пять минут незаметно проскользнул в дом и поднялся к нам. В четверть второго он собрался уходить, но встретил на лестничной площадке Беп, и та предупредила его, что ван Марен в конторе. Куглер вернулся к нам, а в пол второго снял ботинки и в одних носках (несмотря на простуду) спустился вниз через чердак, что заняло целых пятнадцать минут: он шел очень медленно, так как лестница ужасно скрипела.
Беп удалось между тем выставить ван Марена за дверь, она пришла за Куглером, но тот уже совершал свой путь в носочках. Что бы подумали люди, увидев на улице директора солидной фирмы, одевающего туфли.
Директор-босоножка!
Анна.
Среда, 29 сентября 1943 г.
Дорогая Китти!
Сегодня у госпожи ван Даан день рождения. Мы подарили ей талоны на сыр, мясо и хлеб, да еще баночку джема в придачу. От мужа, Дюсселя и наших покровителей она тоже получила только цветы и продукты питания. Ну и времена!
Беп чуть не дошла до нервного срыва: столько всего на нее навалилось. Чуть ли не десять раз в день ее посылают за покупками с просьбой вернуться как можно скорее. Потом оказывается, что она купила что-то не то, и отсылают обратно. И при этом у нее куча работы в конторе, потому что Кляйман болен, и Мип сидит дома с простудой. Сама же Беп вывихнула ногу, у нее свои личные переживания, да еще безнадежно больной отец на руках. Не удивительно, что она дошла до предела. Мы попытались ее утешить, посоветовали быть потверже и не всегда безоговорочно выполнять все просьбы — тогда их поток уменьшится сам собой.
В субботу у нас разгорелась настоящая драма, такого здесь еще не было!
Началось с волнений из-за ван Марена, а закончилось гигантской ссорой.
Дюссель пожаловался маме, что с ним все обращаются, как с изгоем, холодно и нелюбезно, а ведь он никому не сделал зла! При этом Дюссель подхалимничал и льстил по своему обыкновению, на что мама, к счастью, не поддалась. Она честно ответила, что мы в нем разочаровались и не без причины. Тут Дюссель надавал кучу обещаний, но сомневаюсь, что они он их исполнит.
В отношениях с ван Даанами тоже возникла трещина, я это давно предвидела! Они чем-то угрожают, кажется, речь идет о мясе. Папа в бешенстве. Возможно, предстоит нешуточное столкновение.
Ах, если бы я могла отгородиться от всего этого, если бы могла уйти отсюда! А то и с ума сойти недолго!
Анна.
Воскресенье, 17 октября 1943 г.
Дорогая Китти!
Кляйман вернулся — ура! Он немного бледен, но уже при деле: пытается продать что-то из одежды ван Даанов.
Грустно, но факт: у ван Даанов кончились деньги. Последние сто гульденов он потерял на складе, из-за чего здесь было много шума. Как такое могло произойти, и куда в итоге делись деньги? Кто-то их украл. Но кто? Мы теряемся в подозрениях.
Хотя денег у них теперь нет совсем, мадам не хочет расстаться ни с одной вещью из целой горы пальто, платьев и обуви. Но сделать это ей все же придется, потому что ни костюм ее супруга, ни велосипед Петера продать невозможно. Придется мадам распрощаться с меховой шубкой! А она еще безуспешно пытается убедить всех, что ее семью должна содержать фирма.
Жуткая ссора только что закончилась перемирием, и только и слышно, что «Милый Путти» и «Бесценная Керли».
У меня уже кружится голова от всей ругани, которой я здесь наслышалась за последний месяц. У папы постоянно сжаты губы. Если кто-то его зовет, он вздрагивает, словно боится, что попросят уладить очередной спор. У Марго частые головные боли, у Дюсселя бессонница, мадам стонет весь день напролет, а у меня уже заходит ум за разум. Честно говоря, забываю, кто с кем в ссоре, а кто уже помирился.
Единственное, что отвлекает — это учеба, и я, действительно, занимаюсь очень много.
Анна.
Пятница, 29 октября 1943 г.
Дорогая Китти!
Господин Кляйман снова болен, его по-прежнему беспокоит желудок. Он даже не знает, остановилось ли у него кровотечение. Впервые мы видели его подавленным, когда он сообщил, что плохо себя чувствует и вынужден уйти домой.
Снова нешуточные ссоры у верхних, и опять из-за денег. Они хотят продать зимнее пальто и костюм господина ван Даана, но заломили такие цены, что найти покупателя невозможно.
Как-то, уже давно, Кляйман встретил знакомого меховщика. И тогда ему пришла в голову идея продать шубу госпожи ван Даан. Это шубка сделана из кроличьих шкурок, и госпожа носила ее целых семнадцать лет. Тем не менее, они получили за нее 325 гульденов — огромные деньги! Мадам хотела их припрятать, чтобы после войны накупить новых нарядов. Супругу стоило немалых трудов уговорить ее, что деньги необходимы сейчас, для повседневных нужд. И представить невозможно, как они орали, ругались и топали ногами. Вся наша семья стояла под лестницей, затаив дыхание, чтобы вмешаться в случае необходимости. Эти брань, истерики, постоянная нервотрепка так изматывают меня, что я вечерами засыпаю в слезах и благодарю Бога за то, что хоть полчасика могу побыть одна.
А в общем, со мной все хорошо, вот только аппетит совсем пропал. Целый день слышу: «Как ты плохо выглядишь!». Все стараются из последних сил хоть немного меня подкормить: пичкают глюкозой, рыбьим жиром, дрожжами и кальцием. Мои нервы совсем на пределе, а по воскресеньям мне и вовсе отвратительно. В доме тогда чувствуются напряжение и тяжелая атмосфера, все какие-то сонные, и даже птицы за окном не поют. Смертельная гнетущая тишина висит в воздухе, душит меня и как будто тянет куда-то в подземелье. Папа, мама, Марго мне совершенно безразличны, я бесцельно брожу по комнатам, поднимаюсь и спускаюсь по лестнице. Мне кажется, что я птица, у которой вырвали крылья, и которая в темноте бьется о прутья своей решетки. Все кричит во мне: я хочу воздуха, света и смеха! Но я не отвечаю этому голосу и ложусь на диван, чтобы немного поспать, уйти от тишины и постоянного страха — ах, ведь мы живые люди.
Анна.
Суббота, 30 октября 1943 г.
Дорогая Китти!
Мама ужасно нервная, и я из-за этого как на иголках. Почему мама и папа никогда не ругают Марго, зато всегда меня? Вот, например, вчера Марго читала книгу с прекрасными иллюстрациями, потом поставила ее на полку и вышла из комнаты. Я как раз не знала, чем заняться, и взяла ее, чтобы посмотреть картинки. Но тут Марго вернулась, увидела «свою книжку» в моих руках и потребовала ее обратно, скорчив сердитую гримасу. Мне хотелось еще немного посмотреть, но Марго злилась все больше, а тут и мама вмешалась: «Отдай сейчас же книгу!».
В комнату вошел папа, он даже не знал, в чем дело, только заметил, что Марго обижают! И накинулся на меня: «Посмотрел бы на тебя, если бы взяли что-то твое!». Я послушалась, положила книгу на место и с обиженным видом вышла из комнаты. На самом деле, я вовсе не обиделась и не рассердилась, просто мне было очень грустно.
Как папа мог судить, не зная толком, о чем спор! Да, я сама гораздо скорее отдала бы книгу Марго, если бы мама с папой так рьяно не вступились за нее! Можно подумать, я ее в самом деле серьезно обидела. Ну, от мамы я другого и не ожидала, она и Марго всегда защищают другу друга. Я уже настолько привыкла к маминым выговорам и раздражительности Марго, что просто не обращаю на них внимания. И конечно, люблю их, просто потому, что они мои мама и сестра, а их человеческие качества — это другой вопрос. Но с папой иначе. Если он уделяет внимание Марго, хвалит ее или ласкает, то все переворачивается во мне, потому что папу я обожаю, он мой пример, и никого на свете я не люблю, как его. Разумеется, он не умышленно делает мне больно: ведь Марго у нас самая умная, добрая и красивая. Но я хочу, что бы и меня воспринимали серьезно. Я всегда была этаким семейным клоуном, который постоянно проказничает, а отдуваться должен вдвое: взбучками от других и собственным отчаянием. Но сейчас мне все это надоело: и отношение ко мне, и так называемые серьезные разговоры. Я жду от папы того, что он не может мне дать. Нет, я не ревную к Марго и никогда не завидовала ее уму и красоте. Но мне хотелось бы, чтобы папа любил меня не только, как своего ребенка, но и как человека — Анну.
Я так цепляюсь за папу, потому что взаимопонимания с мамой у меня нет совсем, и на папу единственная надежда. Но он не понимает, что мне надо поговорить обо всем этом, выговориться наконец. О маминых ошибках он вообще не хочет слышать.
А я так устала от ссор. Не знаю, как сдерживать себя, ведь не могу же я прямо сказать маме, что не в состоянии выносить ее нетактичность, резкость и сарказм. Мы просто слишком разные. Я не сужу о ее характере, это не мое право. Я думаю о ней только, как о матери — той, которая меня родила, но не стала для меня настоящей мамой. Ведь я отлично знаю и чувствую, какой должна быть женщина и мать. Нет, обойдусь как-нибудь без их помощи! Постараюсь не обращать внимания на ее недостатки и видеть в ней только хорошее, а то, чего нет, буду искать в самой себе. Но из этого ничего не получается, а самое ужасное то, что ни мама, ни папа не понимают, как мне не достает их тепла и понимания, и как я обижена на них. Могут ли вообще родители понять детей?
Иногда мне кажется, что Бог испытывает меня, и будет испытывать в будущем. Я должна сама воспитать себя, без идеалов, и стану тогда очень сильной. Кто, как ни я, перечитает эти письма? И кто, как ни я сама, будет меня утешать? А я часто чувствую себя слабой и нуждаюсь в утешении, хотя знаю, что могу достигнуть большего и поэтому стараюсь стать лучше.
Со мной обращаются так непоследовательно. То Анна вполне разумна, и с ней разговаривают на равных, а на следующий день она вдруг превращается в маленькую глупую овечку, которая ничего не знает, но воображает, что всему выучилась по книгам. А у меня есть собственные идеалы, мысли и планы, только я пока не могу выразить их в словах.
Ах, на меня наваливается столько мыслей, когда я наконец остаюсь вечером одна или днем в окружении всех этих людей, которые меня совершенно не понимают. Поэтому я так часто возвращаюсь к дневнику, ведь у Китти терпения достаточно. Обещаю ей, что несмотря на все сохраню выдержку, проглочу слезы и добьюсь своего. Но очень хочется, чтобы кто-то меня поддержал — тот, кто меня любит.
Не суди обо мне плохо и пойми, что у меня просто нет больше сил!
Анна.
Среда, 3 ноября 1943 г.
Дорогая Китти!
Чтобы чем-то нас занять, и для нашего общего развития, папа заказал проспект заочного института. Марго прочитала эту толстую книжицу не меньше трех раз и не нашла для себя ничего подходящего. Тогда папа взялся за дело и выбрал для нас курсы основ латинского. Мы тут же заказали учебный материал, хотя стоит это немало. Марго энергично принялась за работу, и я тоже, хотя мне латинский дается с трудом. И еще папа попросил Кляймана приобрести детскую библию, чтобы я хоть немного ознакомилась с Новым заветом. «Это подарок Анне на праздник Хануки?», — спросила его Марго. «Ээ, нет, думаю, что ко дню святого Николаса». Действительно, Иисус и Ханука не очень сочетаются.
Поскольку пылесос сломался, мне приходится ежедневно чистить ковер старой щеткой. Окно при этом закрыто, свет и камин включены. По-моему, бесполезная и даже вредная работа, и жалобы, в самом деле, последовали незамедлительно: от поднимающейся в воздух пыли у мамы разболелась голова, новый латинский словарь Марго весь запылен, а папа еще ворчит, что пол все такой же грязный. Вот и жди от людей благодарности!
У нас по воскресеньям теперь новый порядок: камин будем зажигать не в пол шестого утра, а как обычно — в пол восьмого. На мой взгляд, это не безопасно. Что подумают соседи, увидев в выходной день дым из трубы? То же самое с занавесками. С тех пор как мы здесь поселились, они всегда плотно закрыты. Но время от времени кто-то из господ или дам не удерживается, чтобы не посмотреть в окно через щелочку. На виновного все накидываются, а тот оправдывается, что его никто не можешь заметить. Но так ли это на самом деле? Сейчас ссоры у нас как будто поутихли, вот только Дюссель разругался с ван Дааном. Если Дюссель упоминает госпожу ван Даан, то называет ее не иначе, как «глупая корова» или «старая телка», а то величает нашу ученую мадам «юной девицей» или «невезучей старой девой». Сковородка обвиняет чайник в том, что тот закоптился!
Анна.
Понедельник, 8 ноября 1943 г.
Дорогая Китти!
Если ты перечитаешь все мои письма, то они написаны при самых разных настроениях. Мне самой не нравится, что от настроения все так зависит. Не только у меня, а у всех нас. Если я под впечатлением от какой-то книги, то должна не показывать свои чувства и эмоции другим, иначе они подумают, что я совсем тронулась. Ты, наверно, заметила, что сейчас у меня расположение весьма скверное. Почему, толком не могу объяснить, не думаю, что из-за трусости, которая очень мешает мне в жизни. Сегодня вечером, когда Беп еще была у нас, раздался долгий и громкий звонок в дверь. Я побледнела, у меня сразу заболел живот — и все от страха.
Вечером в постели я представляю себя одну в тюрьме, без мамы и папы.
Или мне мерещатся кошмары: пожар в нашем Убежище, или что за нами приходят ночью, и я в ужасе забиваюсь под кровать. Я вижу все так ясно и четко, как будто это происходит в реальности. И я осознаю, что такое и в самом деле может случиться.
Мип часто повторяет, что завидует нашей спокойной жизни. Может, в чем-то она и права, но только если забыть о наших страхах.
Не могу представить себе, что когда-то мы снова будем жить в обычном мире. Хоть я и сама часто произношу «после войны», эти слова кажутся мне воздушным замком, который навсегда останется мечтой.
Мы, восемь жителей Убежища, как бы живем на кусочке голубого неба, а вокруг черные тяжелые облака. Сейчас мы в безопасности, но облака все наступают, и граница, отделяющая нас от смерти, приближается. Мы в ужасе мечемся и тесним друг друга в поисках выхода. Внизу люди воюют и сражаются, наверху спокойно и безмятежно, но темная масса не пускает нас ни наверх, ни вниз, она надвигается непроницаемым потоком, который хочет, но пока не может нас уничтожить. И мне остается только кричать: «О кольцо, кольцо, расступись и выпусти нас!»
Анна.
Четверг, 11 ноября 1943 г.
Дорогая Китти!
Для этой главы я придумала хорошее название.
ОДА МОЕЙ АВТОРУЧКЕ.
СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ.
Я всегда очень дорожила своей ручкой, прежде всего, из-за толстого пера. Только такими перьями я могу писать аккуратно. Эта ручка прожила долгую и интересную жизнь, о которой я тебе сейчас расскажу.
Когда мне было девять лет, ручка в коробочке, да еще тщательно упакованная в вату, прибыла из Ахена, города, где жила моя бабушка. Конечно, это был бабушкин подарок. На коробке стояла надпись «бесценный экземпляр».
Шел февраль, было холодно и ветрено, а я лежала в постели с гриппом. Тем не менее, свою драгоценную ручку в красном кожаном пенале я выставила на обозрение всем подругам. Я, Анна Франк, ужасно гордилась своим подарком!
Через год мне позволили взять ручку с собой в школу, и учительница разрешила писать ею на уроках. Но когда мне исполнилось одиннадцать, пришлось убрать мое сокровище в ящик: учительница шестого класса позволяла писать только школьными ручками, которые надо макать в чернильницу. Когда я в двенадцать лет поступила в еврейский лицей, то снова смогла пользовать авторучкой, она теперь вместе с карандашами хранилась в новом пенале, который закрывался на молнию! А потом ручка переехала в Убежище, где провела со мной четырнадцатый год моей жизни и вот…
В пятницу в пять часов я собралась писать у себя в комнате, но меня прогнали папа и Марго, которым приспичило заниматься латинским! Ручка осталась лежать на столе, а ее владелица занялась в уголке стола чисткой бобов, точнее, снятием с них плесени. Без четверти шесть я подмела пол и, завернув мусор и испорченные бобы в старую газету, бросила сверток в камин.
Тот взметнулся ярким пламенем, что привело меня в восторг, поскольку последнее время наш камин еле дышал.
Ученики латинского, наконец, освободили стол, и я уселась за ним, чтобы заняться своим письменным заданием. Но ручка бесследно исчезла. Мама, папа, Марго и даже Дюссель — все искали, но бесполезно. «Наверно, ты бросила ее в камин вместе с бобами», — предположила Марго. «О нет, не может быть!» — воскликнула я. Но когда к вечеру ручка так и не объявилась, мы решили, что она, в самом деле, сгорела. Поэтому и пламя было таким ярким! На следующий день грустное предположение подтвердилось: очищая камин от золы, папа нашел наконечник моей бесценной ручки. От нее самой не осталось и следа.
«Очевидно, расплавилась», — сказал папа.
Только одно меня утешает: моя ручка кремирована, что я когда-то желаю и себе!
Анна.
Среда, 17 ноября 1943 г.
Дорогая Китти!
У нас события не радостные. У Беп дифтерия, поэтому она шесть недель на карантине. Нам ее очень не хватает, к тому же ее болезнь осложнила доставку для нас еды и других покупок.
Кляйман еще не поправился и уже три недели питается только молоком и жидкой кашей. Все дела навалились на бедного Куглера.
Марго послала по почте задания по латинскому и теперь их вернули — с исправленными ошибками и замечаниями. Марго пишет под именем Беп. Учитель очень любезен и обладает чувством юмора. Представляю, как он доволен такой умной и прилежной ученицей!
С Дюсселем что-то случилось, и никто не понимает, в чем дело. Он вдруг совсем перестал разговаривать с ван Даанами. Мама с самого начала предупредила его, что с госпожой из-за этого могут возникнуть немалые неприятности. Но Дюссель возразил, что ван Дааны первыми объявили молчание, и он со своей стороны не намерен его нарушить. А знаешь, вчера 16 ноября была годовщина его прихода в Убежище. По этому поводу он подарил маме цветы.
А госпожа ван Даан, уже давно прозрачно намекающая, что Дюссель в этот день должен выставить угощение, не получила ничего. Вместо того, чтобы поблагодарить и ее за наш общий бескорыстный поступок, он вовсе перестал с ней разговаривать. Утром шестнадцатого я спросила доктора: что он ждет — поздравлений или соболезнований. Тот ответил, что примет и то, и другое.
Мама, так истово взявшая на себя роль миротворца, не достигла ничего: положение все то же.
Не преувеличивая, скажу, что Дюссель просто не в своем уме. Как часто мы тайком посмеиваемся над его феноменальной забывчивостью и полным отсутствием собственного мнения. Или когда он, например, совершенно искаженно пересказывает только что услышанные сообщения: все переворачивает с ног на голову! А как он в ответ на наши упреки дает красноречивые, но пустые обещания!
«Он был велик своим умом,
Но мелок был делами»
Анна.
Суббота, 27 ноября 1943 г.
Дорогая Китти!
Вчера вечером, перед тем, как заснуть, я вдруг увидела Ханнели. Она стояла передо мной в лохмотьях, бледная и исхудавшая. Ее глаза были огромные, и смотрели на меня с грустью и упреком, как будто спрашивая:
«Анна, почему ты меня покинула? Помоги, пожалуйста, помоги мне выбраться из этого ада!».
Но я не в состоянии помочь ей, лишь вижу, как другие люди страдают и гибнут, а сама сижу, сложа руки, и молю Бога, чтобы он вернул ее нам. Я видела именно Ханнели и никого другого, и мне ясно, почему. Я слишком строго судила ее, была еще ребенком и поэтому не понимала ее трудностей. У нее была хорошая подруга, и ей казалось, что я хотела ее отнять. Представляю, как Ханнели из-за этого переживала, ведь я и сама хорошо знаю, что это такое!
Были мгновения, когда я задумывалась о ней, но из-за эгоизма, быстро возвращалась к собственным забавам и проблемам.
Как плохо я обращалась с ней тогда! И теперь она смотрела на меня молящими глазами, такая бледная, беззащитная. Если бы я могла ей помочь!
Господи, ведь у меня здесь есть все, что можно желать, а ее так покарала судьба. Она была не менее набожной, чем я, и всем желала только хорошего.
Почему же я живу, а ее, может быть, уже нет? Почему наши судьбы такие разные, и мы так далеко друг от друга?
Честно говоря, я долгие месяцы, почти год, не думала о ней. Не так, чтобы совсем, но никогда не представляла ее, как сейчас — в такой страшной беде.
Ах, Ханнели, я так надеюсь, что если ты переживешь войну и вернешься к нам, то я смогу сделать для тебя что-то хорошее, и ты тогда простишь мою прежнюю несправедливость. Но ведь ей нужна моя помощь именно сейчас!
Вспоминает ли она меня, чувствует ли что-то?
Господи, поддержи ее, не позволь ей, по крайней мере, остаться в одиночестве. О, если бы она знала, с какой любовью и состраданием я думаю о ней, то это, возможно, придало бы ей силы.
Я пытаюсь отогнать страшные мысли, но ее большие глаза так и стоят передо мной. Верит ли она в Бога искренне или потому, что так надо? Мне никогда в голову не приходило спросить ее об этом.
Ханнели, Ханнели, ах, если бы я могла освободить тебя из плена и поделиться с тобой всем, что у меня есть! Но слишком поздно, я не могу ничем помочь тебе и не могу исправить свои ошибки. Но я никогда не забуду тебя и всегда буду за тебя молиться!
Анна.
Понедельник, 6 декабря 1943 г.
Дорогая Китти!
По мере приближения дня святого Николаса, я все чаще вспоминаю нашу замечательную корзину с подарками прошлого года, и так не обидно пропустить праздник в этот раз. Я долго думала, пока мне в голову не пришла забавная идея. Я посоветовалась с Пимом, и мы неделю назад взялись за работу: для каждого нужно было написать стихотворение.
Вечером в воскресенье в четверть девятого мы поднялись наверх с большой бельевой корзиной, украшенной фигурками, бантиками и розово-голубой подарочной бумагой. Корзину мы покрыли коричневой упаковочной бумагой, к которой прикрепили письмо. Я взяла его и прочитала всем собравшимся наверху, явно удивленным внушительными размерами нашего сюрприза:
Святой Николас к нам с визитом пришел
Он наше Убежище не обошел.
Увы, но отметить, как в прошлом году
Мы праздник не можем на нашу беду.
Ведь верили твердо мы в те времена:
Свобода нам всем через год суждена.
Но праздник забыть невозможно никак,
Советуем всем заглянуть в свой башмак!
Раздался дружный смех, и каждый вытащил из коробки свой туфель или ботинок, в котором лежало письмецо со стишком.
Анна.
Среда, 22 декабря 1943 г.
Дорогая Китти!
Из-за тяжелого гриппа я не могла написать тебе раньше. Болеть здесь ужасно: если нападает кашель, но надо забиться глубоко под одеяло и стараться кашлять как можно тише. Но от этого в горле першит только больше, и тогда тебя пичкают молоком с медом, сахаром или чем-то там еще. Если вспомнить все способы, которыми меня лечили, то голова пойдет кругом: компрессы, влажные и сухие укутывания, теплое питье, полоскания, смазывания, лимонный сок, обязательный постельный режим, и к тому же измерение температуры каждые два часа. Разве так можно вылечиться? А самое ужасное, что Дюссель решил поиграть в доктора и теперь то и дело прикладывает свою напомаженную голову к моей голой груди, чтобы послушать сердце. От его волос щекотно, а главное я стыжусь ужасно, хотя тридцать лет назад он получил официальное звание врача. С какой стати этот субъект ложится на мое сердце?
Ведь он не мой возлюбленный! Тем более, если у меня и что-то не так, он все равно это не услышит: его уши необходимо прочистить, а то он еще и оглохнет.
Но достаточно о болезнях. Теперь я в полном здравии, выросла на сантиметр, поправилась на килограмм и, хоть бледная, но снова жадная до учебы. В доме относительно тихо, никто не ссорится. Такого спокойствия не было уже полгода, и думаю, что долго оно не продлится.
Беп по-прежнему на карантине, но скоро снова придет к нам.
На Рождество мы получим дополнительные талоны на подсолнечное масло, сладости и джем. На Хануку господин Дюссель подарил госпоже ван Даан и маме прекрасный торт, который Мип спекла по его просьбе. Мало у Мип других дел! Я и Марго получили в подарок брошки, искусно сделанные из монет и тщательно отшлифованные. Не передать словами, какая это прекрасная работа!
А я тоже припасла что-то к Рождеству для Мип и Беп. В течении месяца ела кашу без сахара, и теперь из всех сэкономленных кусочков Кляйман сделал на дощечке орнамент.
В доме уныло, камин смердит, из-за грубой пищи все жалуются на желудок, и подозрительные звуки со всех сторон дают о себе знать.
На фронте затишье, настроение препротивное.
Анна.
Пятница, 24 декабря 1943 г.
Дорогая Китти!
Мы здесь так зависим от нашего настроения — кажется, что я только об этом и пишу. У меня оно в последнее время меняются особенно часто. Известное высказывание «от ликующей радости к глубокому унынию» подходит здесь, как нигде. Первое из этих чувств я испытываю, когда сравниваю нашу судьбу с другими еврейскими детьми. А в уныние впадаю, когда, например, госпожа Кляйман приходит к нам и рассказывает о хоккейном клубе своей Йоппи, о прогулках на каноэ, спектаклях и чайных сборищах с друзьями. Не думай, что я завидую Йоппи, но так хочется настоящего веселья, чтобы смеяться до боли в животе! Особенно сейчас, когда в Рождество и Новый год мы сидим взаперти.
Пусть неблагодарно с моей стороны писать такое, но должна же я иногда излить свое сердце, а бумага, в конце концов, все стерпит.
Если кто-то заходит к нам с улицы, приносит с собой холод и мороз, мне хочется закрыться с головой одеялом, чтобы не думать: когда же, наконец, мы сможем вдохнуть свежий воздух? И эти мысли приходят снова и снова, как я не стараюсь отгонять их и быть сильной.
Поверь мне, когда полтора года сидишь в четырех стенах, то иногда терпению приходит конец! Ничего не могу поделать с этими чувствами, хотя знаю, что мы должны быть благодарны судьбе. Я мечтаю поездить на велосипеде, танцевать, петь, смотреть на мир, почувствовать себя юной и свободной, но не имею права высказать все это. Ведь если мы все, восемь человек, начнем жаловаться и ходить с мрачными лицами, что же это будет?
Иногда я думаю: понял бы кто-то меня, простил бы мою неблагодарность, независимо от того, еврейка я или нет, и увидел бы во мне лишь девочку, которой так хочется свободы и радости? Не знаю и не могу говорить об этом ни с кем, потому что боюсь расплакаться. Слезы приносят облегчение, если плачешь не в одиночестве. Мне так не достает мамы, которая понимала бы меня.
И поэтому я часто думаю, когда пишу или чем-то занимаюсь, что стану такой мамой для своих детей, какую хотела бы иметь сама. Мамой, которая обращает внимание не на слова, а на дела и чувства. Нет, я не в состоянии это описать. Хорошо, что мама ничего не замечает, иначе она бы чувствовала себя очень несчастной. Что ж, достаточно на сегодня жалоб, но оттого, что я изложила их на бумаге, действительно стало легче!
Анна.
По мере приближения Рождества я все чаще думаю о том, что Пим рассказал мне год назад. Мне в то время не было ясно до конца, что он имел в виду, но зато понятно это сейчас. Если бы он снова начал такой разговор, я, может, дала бы ему почувствовать, как понимаю его! Думаю, что он заговорил тогда об этом, потому что постоянно слышит о «сердечных тайнах» других, а ведь и у него есть потребность выразить свои чувства. Пим почти никогда не говорит о себе. Марго, наверно, и не подозревает, что у него на душе. Бедный Пим, он пытается убедить себя, что все забыл. На самом деле это невозможно. Конечно, он видит мамины ошибки, но привык смиряться с ними. Надеюсь, что буду похожа на него, но не испытаю того, что переживает он!
Анна.
Понедельник, 27 декабря 1943 г.
Дорогая Китти!
В пятницу утром я впервые в жизни получила подарки к Рождеству. Наши девушки, Кляйман и Куглер подготовили для нас замечательный сюрприз. Мип испекла большой пирог с надписью: «Мир в 1944», а Беп подарила печенье настоящего довоенного качества.
Я, Петер и Марго получили по пачке йогурта, а остальные — по бутылке пива. Все было красиво и празднично упаковано в отдельные пакеты.
Рождество промелькнуло незаметно.
Анна.
Среда, 29 декабря 1943 г.
Дорогая Китти!
Вчера вечером меня опять посетили печальные мысли. Я снова и снова вспоминала бабушку и Ханнели. Милая бабуля, мы мало думали о твоих страданиях. А ты так любила нас и всегда пыталась что-то для нас сделать. И при этом оберегала нас от горькой правды [8]. Но и мы не оставляли бабушку в беде. Она все прощала мне, как бы безобразно я себя ни вела. Бабуля, любила ли ты меня по-настоящему или, как другие, никогда не понимала? Не знаю. А какой одинокой она, вероятно, себя чувствовала, хотя мы всегда были с ней!
Человек может быть одинок, несмотря на любовь многих, если никто не считает его самым любимым!
А Ханнели? Жива ли она? И что делает? О Господи, сохрани ее для нас! О Ханнели, думая о тебе, я осознаю, что и меня могла постигнуть такая же судьба. Почему же я часто недовольна жизнью? Я должна быть довольна и благодарна, а грустить имею право лишь, когда думаю о печальной участи других. Я просто эгоистична и труслива.
Почему мне постоянно мерещатся всякие страхи — в такой степени, что я кричать готова? Я мало доверяю Богу, а ведь он так много сделал для меня, хотя я этого не заслужила, и по-прежнему веду себя недостойно.
Когда думаешь о своих близких, остается только плакать. Плакать целые дни и молиться, что Бог спасет хоть немногих. Как я надеюсь, что мои молитвы помогут!
Анна.
Четверг, 30 декабря 1943 г.
Дорогая Китти!
После последних крупных ссор у нас царит мир: как между нами, Дюсселем и верхними, так и у ван Даанов. Но сейчас снова собираются темные тучи, а причина…: еда. Госпоже ван Даан пришла в голову абсурдная идея — ради экономии меньше жарить картошки по утрам. Мама, Дюссель и остальные были абсолютно не согласны с ней, в результате каждая семья жарит картошку для себя. Но теперь ведутся споры о неравном распределении жира, и маме приходится восстанавливать справедливость. Если все это кончится чем-то интересным, я тебе сообщу. В последнее время у нас все больше готовят раздельно: мясо (им жирное, нам без жира). Верхние варят суп, а мы нет. Они чистят картошку, мы скребем. Покупки тоже — каждый для себя. А сейчас то же и с жареной картошкой.
Если бы можно было во всем отделиться от них!
Анна.
P.S. Беп принесла мне открытку, с портретом всей королевской семьи.
Юлиана выглядит на ней очень молодой, да и королева тоже. Все три девочки прелестны. Мило, что Беп так внимательна ко мне, правда?
Воскресенье, 2 января 1944 г.
Дорогая Китти!
Сегодня утром мне нечем было заняться, вот я и просмотрела дневник. В нем оказалось много писем, в которых я пишу о маме в таких резких выражениях, что я сама испугалась и спросила себя: «Анна, неужели ты могла говорить о ней с такой ненавистью?»
Так я и сидела перед открытой тетрадкой и думала, почему я была полна вражды и злости и доверила все это тебе. Я пыталась понять ту Анну, какой она была год назад и простить ее. Моя совесть не успокоится, пока я не найду объяснения своим чувствам.
Быстрые смены настроений и вспыльчивость закрывают мне глаза (не в буквальном смысле, конечно), мешают смотреть на вещи объективно, поставить себя на место других, спокойно подумать над их словами. В результате, я обижаю людей, причиняю им боль… Я слишком занята собой, замыкаюсь в себе и все печали доверяю дневнику. Конечно, в дневнике я также описываю нашу жизнь, но многие страницы можно было бы выбросить из него…
Я ужасно злилась на маму, что нередко случается и сейчас. Да, она не понимала меня, но ведь и я не пыталась ее понять. Конечно, она любит меня, а я доставляла ей немало неприятностей. Трудные обстоятельства нашей жизни заставляют ее часто нервничать и огорчаться. Не удивительно, что в такой ситуации между нами не возникло понимания. А я все воспринимала всерьез, обижалась, грубила и расстраивала ее еще больше. Так накапливались наши взаимные расхождения и обиды. Это было нелегкое время для нас обеих, но сейчас оно позади. Наверно, и меня можно понять в том, что я раньше не осознавала своих ошибок и слишком жалела себя.
Если мне сейчас случится рассердиться, то я дам волю чувствам наедине, чтобы никто не слышал моих ругательств и топанья ног! Я уже давно не доводила маму до слез, и нервы у нее немного успокоились. Я обычно помалкиваю, если чем-то недовольна, и она тоже, и поэтому наши отношения сейчас стали гораздо лучше. Но любить ее беззаветной любовью ребенка — этого я не могу.
Я успокаиваю совесть тем, что лучше доверять мои излияния бумаге, чем заставлять маму из-за них переживать.
Анна.
Четверг, 6 января 1944 г.
Дорогая Китти!
Сегодня я должна признаться тебе в двух вещах, что займет немало времени. Но мне необходимо с кем-то поделиться, и лучше всего с тобой, потому что ты никогда меня не предашь!
Сначала о маме. Я часто жаловалась тебе на нее и сама старалась быть с ней любезной. Вдруг я поняла, что мне в маме не хватает. Она часто говорила, что видит в нас скорее подруг, чем дочерей. В этом, наверно, есть что-то хорошее, но все же подруга не может заменить маму. А мне нужна мама, перед которой я преклонялась бы, и которая была бы для меня идеалом. А моя мать, если и пример для меня, то в обратном отношении: я бы как раз не хотела быть такой, как она. Наверняка, Марго думает об этом иначе и то, что я пишу тебе сейчас, она бы никогда не поняла. А папа избегает всех разговоров о маминых недостатках.
Мать в моем представлении должна быть прежде всего тактичной по отношению к своим детям — в любом возрасте. Не так, как моя мама, которая откровенно высмеивает меня, когда я плачу — не от физической боли, а по другим причинам.
Одного случая, может, не очень важного на первый взгляд, я ей никогда не прощу. В тот день у меня был назначен прием к зубному врачу. Мама и Марго пошли со мной и совсем не возражали, что я беру с собой велосипед. А когда я вышла от доктора, они радостно сообщили, что собираются в город, чтобы на что-то посмотреть или купить, я уже точно не помню. Я, конечно, хотела пойти с ними, но не могла — из-за велосипеда. От обиды у меня полились слезы, а мама с Марго стали смеяться надо мной. Я просто пришла в исступление и прямо на улице показала им язык. Помню, что проходящая мимо маленькая женщина взглянула очень испуганно. Я вернулась домой и еще долго плакала. Странно, что при всех ранах, которые мне когда-то нанесла мама, больней всего кажется эта. Я ужасно разозлилась тогда!
Второй вопрос, о котором я хочу с тобой поговорить, для меня очень непростой, потому что касается меня лично. Я не ханжа, Китти, хотя когда они здесь открыто обсуждают свои посещения туалета, все во мне сопротивляется.
Вчера я прочитала статью Сиз Хейстер о том, почему люди краснеют. Кажется, что написано это специально для меня. Краснею-то я не часто, но все остальное в статье — обо мне. Там написано, что девочки в переходном возрасте становятся замкнутыми и задумываются обо всех переменах, которые происходят с их телом. Вот и у меня так, и мне кажется, что в последнее время я стесняюсь Марго, маму и папу. А Марго совсем не стесняется, хотя она гораздо застенчивее меня.
Мне кажется таким чудесным то, что происходит со мной не только снаружи, но и изнутри. Я никогда не говорю об этом ни с кем, только с самой собой. Всегда во время месячных (а это случалось уже три раза) мне кажется, что, несмотря на боль и неудобства, я несу в себе какую-то особую тайну. И предчувствие этой тайны радует меня уже заранее. Сиз Хейстер пишет также, что юные девушки часто неуверенны в себе и что они постепенно узнают себя — свои мысли, привычки, характер. И я в какой-то момент начала задумываться об этом и пытаюсь понять себя уже с тринадцати лет, хотя, кажется, мало в этом продвинулась. Иногда вечером в постели не могу удержаться, чтобы не потрогать свои груди и услышать, как спокойно и ровно бьется сердце.
Похожие чувства я бессознательно испытывала и раньше, перед тем, как пришла сюда. Однажды я ночевала у Джекки, и мне ужасно захотелось увидеть ее тело, что ни разу до сих пор не удавалось. Я предложила в знак дружбы дотронуться до ее груди, и чтобы она дотронулась до моей. Но Джекки отказалась. А в другой раз меня охватило желание расцеловать ее, что я и сделала. Я буквально впадаю в экстаз, когда вижу обнаженную женскую фигуру, например Венеру Шпрингера. Это так необыкновенно прекрасно, что я часто не могу сдержать слез. Ах, если бы у меня была подруга!
Анна.
Четверг, 6 января 1944 г.
Дорогая Китти!
Мне просто необходимо откровенно поговорить с кем-то, поэтому я в последнее время все чаще беседую с Петером. Вообще, мне всегда было уютно в его комнатенке, но поскольку Петер чрезвычайно скромный и сам никогда навязывается, я боялась показаться надоедливой и не оставалась у него долго. А в последнее время как раз искала повод поболтать, и вот такая возможность представилась. Петер вдруг помешался на кроссвордах и теперь только ими и занимается. Я предложила ему свою помощь, и мы уселись рядом: он за столом, я на диване. Когда я смотрела в его синие глаза, то почему-то чувствовала себя смелее. Петер был явно смущен моим неожиданным визитом. Его лицо выдавало беззащитность и неуверенность, и в то же время я ощущала, что рядом со мной мужчина. Его застенчивость трогала меня и хотелось сказать:
«Расскажи, наконец, что-то о себе, не обращай внимания на мою пустую болтовню». Однако подобные слова легче произносить мысленно, чем в действительности.
Ничего особенного в этот вечер не произошло, кроме того, что я рассказала ему о статье Сиз Хейстер. Конечно, не все, что писала в дневнике, а лишь о том, что он с годами непременно приобретет уверенность в себе.
Вечером я плакала безудержно. И думала: почему это я должна добиваться расположения Петера? Но так или иначе, именно этого мне хочется, поэтому я не оставлю Петера в покое, пока не заставлю его заговорить.
Только не подумай, что я влюблена, об этом нет и речи. Если бы у ван Даанов был не сын, а дочка, то я бы так же пыталась подружиться с ней.
Сегодня утром я проснулась примерно без пяти семь и совершенно ясно вспомнила свой сон. Мне снилось, что я сидела на стуле, а напротив меня сидел Петер… Шифф. Мы листали книжку с рисунками Мари Бос. Я все так четко помнила, даже эти рисунки! Но самое главное не это. В какой-то момент мои глаза встретились с красивыми карими глазами Петера, и тот ласково сказал: «Если б я знал, то пришел бы к тебе гораздо раньше!» Потом я почувствовала прикосновение его мягкой и холодной щеки, и это было так хорошо, так прекрасно…
В тот момент, все еще щекой к щеке я проснулась. Казалось, что его глаза так глубоко заглядывают в мое сердце и читают там, как сильно я любила его и люблю до сих пор. Я почти плакала: мне было ужасно грустно, что я его нашла, чтобы тут же потерять снова. Но одновременно я радовалась, что Петер не забыл меня. Удивительные сны снятся мне! Однажды я видела во сне бабулю (папину маму) так отчетливо, что различала каждую ее морщинку. Позже мне приснилась другая бабушка, которая пришла ко мне, как ангел-хранитель. А потом Ханнели, как бы олицетворяющая всех евреев и всех моих друзей.
А теперь Петер, милый Петер, он предстал передо мной словно живой, я видела его так ясно, так хорошо.
Анна.
Пятница, 7 января 1944 г.
Дорогая Китти!
Как это мне до сих пор не пришло в голову рассказать тебе историю моей большой любви!
Когда я еще ходила в детский сад, мне очень нравился Сэлли Киммел. Отец его умер, и он жил с матерью и теткой. Двоюродный брат Сэлли, Аппи, высокий, стройный и темноволосый, похожий на кинозвезду, вызывал всеобщее восхищение, а сам Сэлли был смешным и толстым. Мы много времени проводили вместе, хотя моя любовь оставалась без ответа. Но потом я встретила Петера и тогда влюбилась по-настоящему. Он тоже привязался ко мне, и целое лето мы были неразлучны. Так и вижу мысленно, как мы вместе идем по улице: он в белом хлопчатобумажном костюмчике, а я в коротком летнем платье. После летних каникул я пошла в последний класс младшей школы, а он поступил в среднюю. Он часто заходил за мной после уроков или я за ним. Петер — настоящий красавец: высокий, тонкий, с умным, серьезным, спокойным и привлекательным лицом. У него были темные волосы, прекрасные карие глаза, загорелые румяные щеки и тонкий нос. Особенно я любила его улыбку, немного озорную и шаловливую.
Потом я уехала на каникулы, а Петер за это время переехал и поселился в одной комнате с мальчиком постарше. Тот, очевидно, внушил ему, что я недоросль и мелюзга, и Петер отдалился от меня. Но я так любила его, что не хотела этому верить, пока не осознала, что выгляжу смешной, постоянно бегая за ним.
Годы шли. Петер дружил с девочками своего возраста, а со мной даже не здоровался. Когда я начала учиться в еврейском лицее, многие мальчики из класса влюбились в меня. Это, конечно, льстило мне, но трогало мало. Потом, как я уже рассказывала, в меня безумно влюбился Хелло, но я сама не любила никого.
Существует пословица: «Время все излечивает». Так произошло и со мной. Я убедила себя, что Петер мне никогда серьезно не нравился. Но воспоминания остались, и должна признаться, что я иногда злилась на него и ревновала к другим девочкам. А сегодня утром осознала, что мои чувства совсем не изменились, наоборот, они росли и крепли вместе со мной. Я даже могу понять, что казалась Петеру ребенком, но мне было очень больно, когда он забыл меня.
Я видела его лицо очень близко, и знаю теперь наверняка: никто никогда не тронет мое сердце, как он.
Сегодня утром я была сама не своя. Когда папа поцеловал меня, я чуть не вскрикнула: «Ах, если бы это был Петер!». Чем бы я не занималась в течение всего дня, я беспрестанно повторяла про себя: «Петель, о, милый Петель…».
Что же теперь делать? Просто жить, молиться Богу и просить его, чтобы мы с Петером нашли друг друга, когда я выйду отсюда. Он тогда взглянул бы мне в глаза, прочитал в них мои чувства и сказал: «О, Анна, если б я знал, то пришел бы к тебе гораздо раньше!». Как-то мы с папой говорили о сексе, и он сказал, что я еще не могу понять, что такое чувственное влечение. Но думаю, что понимала это уже тогда, а тем более — сейчас. Никто мне так не дорог, как милый Петер!
Я посмотрела на себя в зеркало и увидела, как изменилась за этот день. Глаза казались ясными и глубокими, губы нежными, а щеки порозовели, чего не было уже месяцы. Я выглядела счастливой, но к этому примешивалась грусть, и улыбка быстро слетала с моего лица. Как же я могу быть счастливой, если Петер, возможно, совсем не думает обо мне? И все же я до сих пор вижу его прекрасные глаза и чувствую прикосновение его щеки к моей щеке. Петель, о Петель, как забыть мне то мгновение? Разве сможет кто-то другой занять твое место, ведь это покажется лишь жалкой подделкой. Я люблю тебя, и моя любовь так велика, что просто не умещается в сердце. Она должна выйти наружу, и тогда и смогу увидеть, как она огромна!
Если бы неделю назад и даже вчера кто-то спросил меня: «За кого из своих знакомых ты хотела бы выйти замуж?», то я ответила бы: «За Сэлли: с ним спокойно и надежно». А сегодня я бы закричала: «За Петеля, потому что его люблю всей душой!». Но в одном я бы оставалась твердой: «Он может дотронуться только до моего лица».
Сегодня утром на чердаке я сидела перед окном, и мысленно разговаривала с Петелом, а потом представила, как мы плачем вместе. И снова почувствовала его губы и чудесную щеку. О Петель, приди ко мне, думай обо мне, мой дорогой Петель!
Среда, 12 января 1944 г.
Дорогая Китти!
Уже четырнадцать дней, как Беп снова с нами, хотя ее сестренке только со следующей недели можно посещать в школу. Мип и Ян два дня сидели дома — оба испортили себе желудки. У меня новое увлечение — танцы и балет! Каждый вечер упражняюсь. Из своей сиреневой комбинации мама соорудила для меня настоящую балетную пачку. Но переделать гимнастические тапочки в балетные пуанты, к сожалению, не получилось. А между тем мои онемевшие мышцы приобретают прежнюю гибкость. Очень полезное упражнение, когда сидя на полу, пытаешься обеими руками приподнять ноги. Приходится подкладывать подушки, иначе моя бедная попка не выдержит!
Сейчас у нас все читают «Безоблачное утро». Мама от этой книги в восторге, поскольку речь идет о проблемах молодежи. Про себя я иронизирую: «Занялась бы лучше собственной молодостью!» По-моему, мама воображает себе, что у нас с Марго самые лучшие отношения с родителями, какие только могут быть. А сама постоянно вмешивается в наши дела! При этом Марго интересует ее больше, потому что мои мысли и проблемы, как мне кажется, ей совершенно чужды. А я не собираюсь объяснять маме, что одна из ее дочек совсем не такая, как она себя представляет — ведь она бы лишь растерялась, расстроилась и не знала, как себя вести. И в результате ничего для меня не изменилось бы. Конечно, мама понимает, что между нами нет настоящих любви и доверия, но наверно, утешает себя тем, что это временно.
Марго сейчас мила и добра ко мне, по-моему, она очень изменилась — ни следа прежней раздражительности. Она все больше становится моей настоящей подругой. И я для нее уже не маленькая глупышка, с которой совсем не нужно считаться. Мне самой странно, что я часто смотрю на себя глазами других и как бы читаю жизнеописание чужой для меня Анны Франк.
Раньше дома, когда у меня не было так много времени на раздумья, мне иногда казалось, что папа, мама и Марго — вовсе не родные для меня люди. Бывало, что по полгода я играла роль сироты, пока, наконец, не начинала сердиться на себя и понимать, что я сама виновата. Нечего разыгрывать страдания, если тебе прекрасно живется! И какое-то время я заставляла себя быть милой и послушной. Каждое утро я надеялась, что первой увижу маму, и та ласково ответит на мое приветствие. И я, в самом деле, радовалась ее доброй улыбке. Но потом она неизбежно делала мне то или иное замечание или выговор, и я уходила в школу, чувствуя себя разочарованной и отвергнутой. По пути из школы я мысленно прощала маму — ведь она всегда так занята! Приходила домой веселая, болтала без умолку, но все заканчивалось так же, как утром. Иногда я убеждала себя, что надо оставаться сердитой, но мне так не терпелось поделиться школьными новостями, что я забывала об этом намерении. Ну, а затем снова приходило время, когда я уже не прислушивалась по утрам к шагам на лестнице и по вечерам плакала в подушку от одиночества.
А здесь, как ты знаешь, все переживания только усилились. К счастью, Бог послал мне утешение — Петера! Я целую тайком свой медальон и думаю: «Ах, какое мне дело до всей этой суеты! У меня есть Петель, и никто об этом не знает!». Это чувство поможет мне пережить все невзгоды. Если бы они знали, что у меня на душе!
Суббота, 15 января 1944 г.
Милая Китти!
Какой смысл описывать тебе в деталях все наши ссоры и споры? Ведь достаточно рассказов о том, как мы делим мясо и жир, и отдельно жарим для себя картошку. Уже несколько дней мы позволяем себе чуть больше ржаного хлеба, потому что с четырех часов только и думаем об ужине, и усмирить наши голодные желудки невозможно.
Мамин день рождения все ближе. Куглер дал ей по этому случаю дополнительную порцию сахара, что, разумеется, вызвало зависть госпожи ван Даан. Оказывается, ее в свое время обделили. Не буду надоедать тебе рассказом о ругани, истериках и ядовитых разговорах. Но представь, как все это надоело нам!
Мама выразила невыполнимое желание: не видеть ван Даанов хотя бы недели две.
Я спрашиваю себя: всегда ли ссоришься, если живешь так долго бок о бок?
А может, нам просто не повезло? Когда Дюссель за столом наливает себе четверть всей мясной подливки, прекрасно зная, что другим осталось слишком мало, аппетит у меня пропадает вовсе. Так бы и бросилась на него, стащила со стула и выгнала вон! Неужели большинство людей такие же эгоисты и жадины?
Наверно, неплохо, что я познала здесь человеческую природу, но хорошего понемножку. Петер такого же мнения.
А война продолжается, пока мы здесь спорим, ссоримся и мечтаем о свободе. Надо пытаться и в наших условиях жить нормально и даже радоваться!
Вот я все рассуждаю… Боюсь, что еще немного, и я превращусь в высохшую фасолевую веточку. А мне так хочется еще побыть обычной девочкой!
Анна.
Среда, 19 января 1944 г.
Дорогая Китти!
Сама не понимаю до конца, что со мной, но после того сна я уже не та, что прежде. И знаешь, сегодня ночью мне снова снился Петер, и он опять смотрел на меня такими глубоким взглядом. Однако этот сон не был таким прекрасным и явственным, как прошлый.
Ты знаешь, что раньше я всегда ревновала Марго к папе. Сейчас от этого не осталось и следа. Мне, правда, по-прежнему больно, когда папа нервничает и раздражается, но при этом я думаю: «Нельзя обижаться на вас за то, что вы такие! Вы все рассуждаете о мыслях и делах современной молодежи, а на самом деле ничего об этом не знаете!». От отца я ожидаю больше, чем поцелуев и других нежностей. Наверно, ужасно, что я все время так занята собой? Может, я должна все им прощать — ведь я так хочу быть хорошей и доброй. Я и прощаю маме, но не могу смириться с ее сарказмом и насмешками.
Я знаю, что далеко не совершена, да и возможно ли это вообще?
Анна Франк.
P.S. Папа спросил меня, рассказала ли я тебе о торте. Дело в том, что мама на день рождения получила от наших попечителей настоящий шоколадный торт. Конечно, это было замечательно! Но сейчас меня это мало занимает.
Суббота, 22 января 1944 г.
Дорогая Китти!
Может, ты знаешь, почему все люди так оберегают свой внутренний мир?
Почему я с другими совсем не такая, как с самой собой? Почему мы все мало доверяем друг другу? Да, конечно, на это найдутся причины, но все же грустно, что даже самые близкие мало тебя понимают.
Кажется, что с тех пор, как мне приснился тот сон, я повзрослела, и больше стала «личностью». Ты не поверишь, но даже к ван Даанам я сейчас отношусь иначе, и менее принципиальна во время наших стычек. Как же я могла так измениться? Знаешь, я часто думаю в последнее время, что если бы мама была иной, настоящей «мамочкой», то наши отношения сложились бы совсем иначе. Разумеется, у госпожи ван Даан несносный характер, но если бы не мамины излишние принципиальность и упрямство, то ссор было бы в два раза меньше. У госпожи ван Даан есть, кстати, одна хорошая черта: с ней можно нормально поговорить. Несмотря на ее эгоизм, жадность и вероломство, она легко соглашается и уступает, если ее не раздражать и не провоцировать.
Конечно, она не всегда последовательна. Но, набравшись терпения, с ней обычно можно договориться.
Разногласия по вопросам воспитания, избалованности, еде — все, все, все — не вызвало бы наших ужасных пререканий, если бы мы видели в других не только плохие, но и хорошие стороны и вообще, относились к людям дружелюбно.
Да, Китти, я знаю, что ты думаешь: «Анна, ты ли это говоришь? Ты, которая слышала от верхних столько жестоких слов и испытала столько несправедливости!».
Это правда, и тем не менее… Сейчас я все это пересматриваю, но не собираюсь действовать, как в пословице: «Стоит запеть старым, пищат молодые». Я хочу лучше узнать ван Даанов и понять, были ли мы справедливы в наших суждениях о них или что-то преувеличивали. Может, я в итоге решу, что родители правы. А если нет, то постараюсь объяснить им их ошибки, а уж сама останусь при собственном мнении. Я буду использовать любую возможность, чтобы открыто поговорить с госпожой ван Даан о наших спорных предметах, и несмотря на нелестное прозвище «всезнайки», сохраню нейтральную позицию.
Конечно, я не стану выступать против своей семьи и всегда буду защищать своих родных против кого бы то ни было, но сплетен от меня больше никто не услышит — это осталось в прошлом!
До сих пор я была убеждена, что во всех ссорах виноваты только они, но на самом деле, доля нашей вины тоже есть. По сути дела мы были правы, но как разумные люди (а к ним мы себя причисляем) мы должны лучше пытаться понять окружающих.
Надеюсь, что сейчас я наконец разобралась, что к чему.
Анна.
Понедельник, 24 января 1944 г.
Дорогая Китти!
Со мной произошло что-то странное (хотя слово «произошло» тут неточно).
Раньше — и в школе, и дома — о взаимоотношениях полов говорили, как о чем-то тайном и неприличном. При этом всегда шептались, а тех, кто еще ничего об этом не знал, высмеивали. Мне не нравились разговоры в подобном тоне, но изменить я ничего не могла, поэтому молчала и пыталась узнать как можно больше от подруг.
Однажды (я тогда уже знала достаточно) мама сказала мне: «Анна! Я хочу дать тебе хороший совет. Никогда не говори об этом с мальчиками и не отвечай им, если они начнут разговор сами». Я буквально помню, что ответила тогда: «Разумеется, нет, как же иначе!». И предмет был исчерпан.
Первое время жизни в Убежище папа часто заговаривал со мной на эту тему, хотя я предпочла бы обсуждать такие вещи с мамой. Что-то я и сама читала в книгах.
Петер ван Даан относится, на мой взгляд, к вопросам пола спокойно и естественно, а меня он никогда не дразнил и не расспрашивал. Его мать как-то призналась, что ни разу с Петером о подобном не беседовала и даже не знает, насколько он просвещен.
Вчера, когда я, Петер и Марго чистили картошку, разговор зашел о Моффи.
Я сказала: «Ведь мы даже не знаем, какого он пола». «Почему же нет, — ответил Петер, — он кот!». Я рассмеялась: «Хорош кот — в интересном положении!». Остальные засмеялись тоже. Дело в том, что Петер месяца два назад объявил, что Моффи вскоре обзаведется потомством — так раздулся у него живот. Но оказалось, что кот просто чем-то объелся, и родов не последовало.
А теперь Петер, чтобы снять с себя обвинения, решил внести полную ясность: «Можешь сама посмотреть. Я как-то недавно с ним возился и точно убедился, что он кот». Мне стало ужасно любопытно, и я отправилась с Петером на склад. Моффи, однако, не был настроен принимать гостей, и его негде не было видно. Мы подождали немного, пока не замерзли и в итоге ушли ни с чем.
Вечером я услышала, что Петер снова пошел на склад. И преодолевая страх, последовала за ним по темной лестнице. В этот раз Моффи был тут как тут, и Петер пытался схватить его, чтобы поставить на весы. «А ты здесь, — сказал он, — хочешь посмотреть?» Без излишних церемоний он уложил кота на спину и, придерживая его голову и лапы, начал объяснять: «Вот его половой член, а там за волосиками — задний проход». Тут Моффи вырвался и снова встал на свои белые носочки. Если бы какой-то другой мальчик произнес в моем присутствии слова «половой член», то я бы умерла от стыда. Но Петер говорил так просто и естественно, что я оставалась совершенно спокойной. Мы еще немного поиграли с Моффи, поболтали на разные темы и потом медленно направились по длинному коридору к двери.
Я спросила:
— Муши кастрировали при тебе?
— Да, конечно. Это, кстати, минутное дело. Ему, разумеется, дали наркоз.
— У него что-то удалили?
— Нет, доктор лишь надрезал семенной канал. Внешне ничего не заметишь.
Я набралась мужества, хотя это было не просто!
— Послушай, Петер, когда ты говоришь «половой орган», ты понимаешь, что у самок и самцов они называются по-разному?
— Да, я это знаю.
— У самок «влагалище», насколько я знаю, а как у самцов, я не помню.
— Угу.
— Хотя, не удивительно, что я забыла, ведь эти слова редко произносят или пишут.
— Почему бы тебе не спросить наверху? Мои родители знают достаточно, и опыта у них больше, чем у меня.
Мы как раз подошли к лестнице, и я решила больше ничего не спрашивать. Никогда — даже с девочкой — я не решилась бы так говорить! И уверена, что когда мама предостерегала меня от любопытства мальчиков, она имела в виду что-то более невинное.
До конца дня я все же ощущала какую-то неловкость, ведь это был особый разговор! И я извлекла из него урок: с ровесниками, даже юношами, можно просто и спокойно говорить на эту тему — без глупых намеков и шуток.
Правда ли, что Петер задает вопросы об этом родителям? Действительно ли он такой, каким был вчера?
Ах, ведь я ничего не знаю!
Анна.
Пятница, 28 января 1944 г.
Дорогая Китти!
В последнее время я увлеклась родословными и генеалогией королевских семей. Замечаю, что чем больше хочешь узнать, тем глубже уходишь в прошлое, и делаешь массу интересных открытий.
Хотя я с рвением учусь по школьной программе (и, кстати, уже достаточно свободно могу слушать английское радио), по воскресеньям я не даю себе отдыха и привожу в порядок свою коллекцию кинозвезд. Она уже немало разрослась и регулярно пополняется благодаря журналу «Кино и театр», который по понедельникам приносит господин Куглер. Хотя обитатели Убежища, далеки от подобных интересов и считают мое увлечение пустой тратой денег, они каждый раз удивляются моим познаниям: я всегда могу с точностью перечислить артистов любого фильма!
Беп со своим другом часто ходит в кино, и стоит ей упомянуть название картины, как я тут же объявляю исполнителей главных ролей. Мама сказала, что позже мне и в кино не надо будет ходить — ведь мне уже все известно: и сюжет, и артисты, и мнение прессы.
Когда я вплываю в гостиную с новой прической, то в критических взглядах, устремленных на меня, читаю вопрос: «У какой кинозвезды было на голове что-то подобное?». А если я отвечаю, что все сама придумала, то мне не очень-то верят! Новая прическа обычно держится не больше получаса: мне так надоедают замечания и комментарии, что я бегу в ванную и снова распускаю волосы.
Анна.
Пятница, 28 января 1944 г.
Дорогая Китти!
Сегодня утром я спросила себя, не обращаюсь ли я с тобой, как с коровой, которая постоянно пережевывает старые надоевшие новости и мечтает, наконец, узнать от Анны что-то новое.
К сожалению, вполне тебя понимаю, ведь подумай — каково мне самой выслушивать каждый день одно и то же! Если за столом разговор идет не о политике или нашей изысканной пище, то мама и госпожа ван Даан вновь заводят пластинку с рассказами о своей молодости. Или Дюссель городит всякую чушь на разные темы: о роскошных нарядах своей супруги, великолепных скаковых лошадях, течах в лодках, мальчиках, которые в четыре года уже умеют плавать, болях в суставах и о своих трусливых пациентах. Когда один из нас восьмерых начинает какой-то рассказ, остальные семеро уже могут его завершить. Суть каждого анекдота известна заранее, и в итоге рассказчик смеется в одиночестве. А всех молочников, мясников и галантерейщиков наших бывших домохозяек мы уже представляем себе не иначе, как с длинной бородой — так часто их у нас за столом разбирали по косточкам! Нет, новый, неизвестный предмет разговора у нас в Убежище невозможен!
Но все это еще было бы сносно, если бы взрослые не усвоили привычку по десять раз заново повторять рассказы Кляймана, Яна и Мип, дополняя их новыми деталями и собственными соображениями. Бывает, что мне приходится больно щипать себя за руку, чтобы удержаться и не высказать очередному оратору все, что я о нем думаю. Ведь такие маленькие девочки, как Анна, не должны перебивать взрослых — даже, если те болтают ерунду, бессмыслицу и неправду.
Очень важные для нас новости, поступающие от Кляймана и Яна — это истории о таких же, как мы вынужденных затворниках. Наши друзья стараются доставить как можно больше информации о них, и мы мысленно разделяем страдания и радости наших товарищей по несчастью.
«Прятаться, скрываться» — эти слова стали такими же обыденными, как папины тапочки перед камином. А подпольных организаций подобно «Свободной Голландии» очень много, на удивление много. Они подделывают паспорта, помогают своим подопечным деньгами, находят надежные убежища, обеспечивают молодых христиан. Поразительно, что они все это делают совершенно бескорыстно и рискуют собой, спасая жизни других. Лучший пример — наши помощники, которые столько для нас делают, и надеюсь, что будут помогать нам до выхода на свободу. А ведь если нас обнаружат, то их ожидает тяжкое наказание. Ни разу ни один из них не намекнул, что мы обуза для них (что и есть на самом деле), а забота о нас тяжела и утомительна. Каждое утро они поднимаются наверх, беседуют с мужчинами о политике, с женщинами — о еде и тяготах войны, с детьми — о книгах и газетах. Они стараются всегда выглядеть веселыми, никогда не забывают принести цветы и подарки к дням рождения и праздникам и в любой момент готовы выполнить наши просьбы. Мы никогда не должны это забывать. Помогая своим ближним, они совершают подвиг, сравнимый с геройством на полях сражений.
Ходят странные слухи, которые часто оказываются правдой. Кляйман рассказал, например, что в провинции Гелдерланд прошел футбольный матч, одна команда состояла исключительно из «подпольщиков», а другая — из местных полицейских. В Хилферсуме чиновники позаботились о том, чтобы и «подпольщики» бесплатно получили свои продовольственные карточки, которые иначе можно приобрести только черном рынке по 60 гульденов за штуку.
Как бы немцы не узнали о подобных мероприятиях!
Анна.
Воскресенье, 30 января 1944 г.
Милая Китти!
Вот и опять наступило воскресенье — для меня это печальный день, здесь в Убежище. Хотя сейчас легче, чем в начале.
На складе я еще не была, возможно, спущусь позже. Несколько вечеров я приходила туда с папой, а вчера была там совершенно одна. Я стояла на лестнице, а надо мной кружились бесконечные немецкие самолеты. Мне казалось в тот момент, что я одна на свете и не от кого не могу ожидать помощи. Но мой страх исчез. Я смотрела на небо и полностью доверяла Богу.
Мне так необходимо иногда быть одной. Папа замечает, что со мной что-то не так, но я не решаюсь ему рассказать. Мне хочется лишь кричать: «Ах, оставьте меня в покое!». И кто знает, может, меня, действительно, оставят одну, и это мне совсем не понравится…
Анна Франк.
Четверг, 3 февраля 1944 г.
Дорогая Китти!
По всей стране только и говорят, что о высадке союзников. Если бы ты была здесь, то тоже поверила в это, ведь ведется такая подготовка. А может, и высмеяла нас: ведь толком ничего не известно!
Все газеты полны новостей о будущем десанте и часто сбивают людей с толку. Например, пишут так: «Если англичане высадятся в Нидерландах, но немецкие войска сделают все возможное, чтобы удержать страну, хоть и придется затопить ее». И даже помещают карту Голландии с предполагаемыми затопленными территориями, к которым принадлежит и значительная часть Амстердама. Мы тут же приступаем к обсуждению о том, как вести себя в этой нелегкой ситуации. Поступают разные мнения. Например: «Поскольку передвижение пешком или на велосипедах исключено, придется идти вброд — там, где вода остановилась».
«Нет, надо плыть. Под водой, в купальных костюмах и шапочках, никто не заметит, что мы евреи».
«Не говорите ерунду! Ведь как поплывут наши дамы? Уж скорее крысы откусят собственные лапы…»
«Да мы из дому-то не выберемся… Склад и так еле дышит, а уж если его зальет…»
«Ребята, хватит сходить с ума, отнеситесь серьезно! Надо непременно достать лодку».
«Зачем же? У меня есть предложение получше. Каждый сядет в ящик из-под сахара, а грести будем половниками».
«Я пойду на ходулях, в молодости я это прекрасно умел».
«Яну они не нужны, он сам, как ходули, и водрузит на них Мип…»
И все в таком духе, представляешь себе, Кит? Шутить, конечно, весело, но что будет на самом деле, никто не знает. И вот второй важный вопрос, связанный с садкой: что нам делать, если немцы эвакуируют Амстердам?
«Уезжать со всеми, только хорошенько загримироваться».
«На улицу — да вы что! Отсюда ни шагу! В Германии людей ждет только гибель».
«Конечно, останемся здесь. В безопасности! Уговорим Кляймана переселиться со своей семьей сюда. Попробуем достать мешок шерсти, тогда они смогут спать на полу. Пусть Мип и Кляйман заранее притащат одеяла. И надо запастись продуктами, наших припасов недостаточно. Пусть Ян как-нибудь приобретет сухофрукты, а пока у нас есть тридцать килограммов фасоли, пять килограммов гороха, да еще пятьдесят банок овощей».
«Мама, посчитай-ка, сколько у нас всего».
«10 банок рыбы, 40 банок молока, 10 килограммов сухого молока, три бутылки подсолнечного масла, 4 банки сливочного масла, 4 банки мяса, 2 бутылки клубничного сиропа, 2 — малинового, 20 бутылок протертых помидоров, 5 килограммов геркулеса, 4 — риса. И это все».
На первый взгляд, кажется много, но на самом деле это не так — ведь мы пользуемся этими продуктами каждый день, и еще подкармливаем гостей. Вот угля, дров и свечей в доме достаточно.
«Давайте сошьем нагрудные мешочки, чтобы в случае бегства захватить деньги».
«Надо составить списки самого необходимого, что мы возьмем с собой и заранее упаковать рюкзаки».
«Когда опасность приблизится вплотную, мы на чердаках установим два поста».
«Да что мы считаем запасы еды, ведь у нас не будет воды и электричества».
«Воду будем фильтровать и потом кипятить в печке. Вымоем большие фляги и будем хранить в них воду. Используем все возможные емкости — канистры, миски… «.
«Не забыли, у нас еще есть картошка на складе?»
Вот такие разговоры ведутся весь день напролет — о том, что будет с нами до и после высадки. Говорим о голоде, смерти, бомбах, огнетушителях, спальных мешках, еврейских паспортах, отравляющих газах и так далее и так далее. Малоприятные темы! Вот пример такого разговора обитателей Убежища с Яном.
Убежище: «Мы боимся, что если немцы отступят, то захватят с собой все население Амстердама».
Ян: «Это невозможно, у них не хватит поездов».
Убежище: «Какие поезда? Думаете, нам вагоны предоставят? На своих двоих — вот наш транспорт!».
Ян: «Не думаю и не верю. Почему вы все видите в черном свете? Какой им смысл — тащить за собой всех горожан?»
Убежище: «А ты забыл, что сказал Геббельс: если нам придется отступать, то мы плотно закроем двери за оккупированными территориями!»
Ян: «Мало ли что они говорят?»
Убежище: «А ты полагаешь, что немцы проявят милосердие? Они подумают: если нам погибать, то уж им — тем более…»
Ян: «Довольно предсказаний. Я им все равно не верю!»
Убежище: «Сценарий известный — не видишь опасности, пока она не приблизится вплотную».
Ян: «Вы все безнадежные пессимисты. Что толку в ваших прогнозах?»
Убежище: «Мы уже достаточно испытали на себе — сначала в Германии, потом здесь… А что будет с Россией?»
Ян: «Об этом никто ничего толком не знает. Возможно, русская и английская пропаганда так же все преувеличивают, как немцы».
Убежище: «Ничего подобного! Английское радио всегда говорило правду. Но даже, если что-то преувеличено, факты чудовищны — ты знаешь сам, что в России и Польше расстреляны и удушены газом миллионы невинных мирных людей».
Больше не буду утомлять тебя подобными разговорами. Сама я совершенно спокойна и не поддаюсь панике. Я уже дошла до того, что мне безразлично, умру я или останусь в живых. Мир вполне обойдется без меня, а ход событий мы все равно изменить не в состоянии. Что будет, то будет, и я надеюсь на счастливый конец.
Анна.
Вторник, 8 февраля 1944 г.
Дорогая Китти!
Как я себя сейчас чувствую, трудно описать словами. В один момент мне хочется покоя, в другой — веселья. Но смеяться мы здесь разучились, я имею в виду — смеяться по-настоящему — так, что не можешь остановиться. Хотя сегодня утром мы с Марго неудержимо хихикали, как бывало раньше в школе.
Вчера вечером произошло очередное столкновение с мамой. Марго закуталась в шерстяное одеяло, но вдруг вскочила — она укололась булавкой!
Очевидно, мама воткнула ее в одеяло и потом забыла вытащить. Папа глубокомысленно покачал головой и пошутил насчет маминой рассеянности. Тут мама как раз вышла из ванной, и я сказала в шутку: «Ты настоящая мать-злодейка». Она поинтересовалась — почему. И мы рассказали о булавке.
Она тут же приняла высокомерный вид и ответила: «Не тебе упрекать других в неаккуратности. Если ты занимаешься шитьем, то весь пол усыпан булавками. А кстати — вон там валяется маникюрный набор. Ты его никогда не убираешь на место!». Я ответила, что набором вовсе не пользовалась, и тут вскочила Марго: оказывается, виновата была она!
Мама еще немного почитала нотации, но тут моя чаша терпения не переполнилась. Однако я лишь сказала: «Я никого и не обвиняла в неряшливости. Почему мне всегда приходится отдуваться за других?!»
Мама не ответила, и чуть позже мне пришлось, как ни в чем ни бывало, поцеловать ее на ночь. Ах, наш спор был, конечно, пустяковым, но мне уже так все надоело!
Похоже, что сейчас у меня есть время на раздумье, и мысли все перебегали с одного предмета на другой, пока не остановились на папе с мамой. Их брак всегда был для меня идеалом: без ссор, даже без мелких размолвок, одно слово: гармония! О папином прошлом мне что-то известно, а то, что я не знаю, дополнила моя фантазия. Мне кажется, что папа женился на маме, потому что счел ее подходящей для себя женой. Хочу прибавить, что восхищаюсь мамой в этой роли: она никогда не выражала тени недовольства или ревности. А ведь для любящей женщины нелегко сознавать, что не она занимает первое место в сердце своего мужа. Мама знала это. Почему бы папе, собственно, не жениться на ней? Его молодость прошла, а идеалы разлетелись в прах. И что же получилось из их совместной жизни? Их союз — пусть и без ссор и разногласий — не назовешь совершенным. Папа ценит маму и любит ее, но не так, как надо в моем представлении любить! Папа принимает маму такой, какая она есть, часто сердится на нее, но не показывает виду, поскольку знает, что и она жертвует чем-то важным.
Папа далеко не всегда интересуется маминым мнением: он знает, что она часто судит предвзято, и преувеличенно негативно. Папа совсем не влюблен. Он, конечно, целует маму, потому что так полагается, но, например, никогда ее не погладит. Он смотрит на нее, как бы посмеиваясь или поддразнивая, но не с любовью. Да, маме приходится нелегко и, возможно, как раз в этом причина ее тяжелого характера, и чем дольше она живет, тем любовь от нее дальше и несбыточнее. Это терзает и мучает ее, ведь она любит папу, как никто другой, любит безответно — как это должно быть тяжело! А папа знает, что мама никогда не будет требовать от него больше чувств, чем он испытывает.
Получается, что я должна жалеть маму? Пытаться помочь ей? А папа? Нет, не могу. Ведь «мама» в моем представлении должна быть совсем другой. И вообще — как помочь? Она мне никогда ничего о себе не рассказывает, а я не задаю вопросов. Что мы знаем о мыслях других? Я не могу разговаривать с ней, не могу смотреть с любовью в ее холодные глаза — это немыслимо! Если бы она хоть в чем-то была ласковой, понимающей, милой или терпеливой мамой, то я попробовала бы приблизиться к ней. Но любить ее бесчувственную натуру, переносить насмешки — это с каждым днем все невозможнее.
Анна.
Суббота, 12 февраля 1944 г.
Дорогая Китти!
Солнце светит, небо голубое, и дует такой приятный ветер. Мне хочется, так хочется очень многого… Встреч с друзьями, откровенных разговоров, свободы. И возможности побыть одной. А еще хочется… поплакать! У меня такое чувство, будто что-то прыгает внутри, и я знаю, что слезы помогли бы. Но я не могу. Я ужасно неспокойная, хожу из комнаты в комнату, вдыхаю воздух через щелочку в окне, чувствую, как бьется сердце, как будто хочет сказать: «Исполни, наконец, мои желания!».
Думаю, что это из-за прихода весны, я чувствую ее всеми своими телом и душой. Я должна сдерживать себя, чтобы не показывать виду, что со мной происходит. Я в полной растерянности, не знаю, что читать, что писать, что делать. Только тоскую и мечтаю…
Анна.
Понедельник, 14 февраля 1944 г.
Дорогая Китти!
С субботы многое изменилось. У меня по-прежнему полно несбыточных желаний, но небольшая, совсем крошечная часть их исполнена.
В воскресенье утром я заметила (и не буду скрывать: к моей немалой радости), что Петер непрестанно на меня смотрит. Совсем иначе, чем раньше, не знаю, не могу объяснить, но мне вдруг показалось, что он вовсе не влюблен в Марго, в чем я всегда была убеждена. Я почти весь день старалась смотреть на него как можно реже, но если я это все же делала, меня охватывало такое замечательное чувство, какое испытываешь лишь в редкие мгновения.
В воскресенье вечером все, кроме меня и Пима, слушали радиопередачу «Бессмертная музыка немецких мастеров». Дюссель постоянно менял волны, что всех ужасно раздражало. Спустя полчаса Петер уже не мог сдерживаться и попросил Дюсселя прекратить это. Тот ответил надменно: «Не надо мне указывать!». Петер рассердился и продолжал настаивать на своем. Господин ван Даан поддержал его, и Дюссель вынужден был уступить. Вот и все.
Случай, казалось бы, пустяковый, но Петер был, по-видимому, задет не на шутку. Во всяком случае, сегодня утром, когда я что-то искала в книжном шкафу на чердаке, он подошел ко мне и стал рассказывать обо всем, что случилось. Я еще ничего не знала, поэтому оказалась благодарным слушателем, и Петер разговорился.
«Видишь ли, — сказал он, — я не так часто вступаю в спор, поскольку знаю, что все равно не найду нужных слов. Я начинаю запинаться, краснею, говорю вовсе не то, что хотел и запутываюсь окончательно. Так и было вчера: я знал, что хочу сказать, но растерялся, сбился, и это было ужасно. В прошлом у меня была плохая привычка: если я на кого-то злился, то пускал в ход кулаки вместо слов. Но так далеко не уйдешь. Вот ты говоришь людям то, что о них думаешь, потому я восхищаюсь тобой. Ты нисколько не смущаешься.
«Ты ошибаешься, — ответила я, — я тоже часто высказываю не то, что собиралась, к тому же, говорю слишком много и долго. Так что твои проблемы мне знакомы!»
«Может быть, но твое смущение никому не бросается в глаза, а ведь это очень важно. Ты не краснеешь и всегда выглядишь уверенно».
Я про себя посмеялась над этими словами, но внешне оставалась серьезной, так как боялась сбить Петера и потерять его доверие. Я уселась на пол, обхватила колени руками и смотрела ему прямо в глаза.
Я очень рада, что не единственная в доме, у кого случаются припадки злости и раздражения. У Петера явно свалился груз с души, когда он выразил мне свое отношение к Дюсселю, не стесняясь самых крепких выражений и не опасаясь, разумеется, что я на него донесу. И мне было хорошо с ним: я почувствовала понимание с его стороны, что до сих пор испытывала только с подругами.
Анна.
Вторник, 15 февраля 1944 г.
Дорогая Китти,
Этот пустяшный эпизод с Дюсселем получил продолжение — по его же вине. В понедельник утром торжествующий Дюссель подошел к маме и сообщил, что только что разговаривал с Петером. Тот якобы спросил его, хорошо ли он спал и прибавил, что извиняется за вчерашнее: он вовсе не имел в виду того, что наговорил. А Дюссель успокоил Петера, сказав, что и сам не воспринял услышанного буквально. Так что снова тишь да гладь. Я была потрясена, что Петер — при всей своей злости на Дюсселя и намерении стать смелее и решительнее — позволил так себя унизить.
Я не могла удержаться, чтобы не расспросить Петера, и выяснила, что Дюссель солгал! Надо было видеть Петера в тот момент! Жаль, что не было фотоаппарата. Его лицо выразило почти одновременно возмущение, ярость, растерянность и вопрос: что же делать. Вечером он с господином ван Дааном высказали Дюсселю свое недовольство, но очевидно, не очень резко, так как сегодня состоялся осмотр зубов Петера.
Тем не менее, они стараются общаться как можно реже.
Среда, 16 февраля 1944 г
Целый день мы не говорили друг с другом кроме нескольких незначащих слов. Слишком холодно, чтобы сидеть на чердаке, кроме того у Марго сегодня день рождения. В пол первого он пришел посмотреть на подарки и пробыл довольно долго, что на него совершенно не похоже. А потом я все же решила попробовать. Пошла на чердак за кофе для Марго (надо же позаботиться о ней раз в году), а потом поднялась за картошкой и, заглянув в комнатку Петера, спросила, закрывать ли мне за собой люк. «Да, — сказал он, — только, постучи, когда вернешься, и я открою». Я поднялась наверх и минут десять вылавливала картофелины из большой бочки, пока не замерзла, и не разболелась спина. Стучать я, конечно, не стала и открыла люк сама. Но Петер тут же услужливо подскочил и взял у меня кастрюлю.
«Как не искала, более мелких не нашла»
«А в большой бочке посмотрела?»
«Да, все там перерыла».
К этому моменту я стояла на лестнице. Петер стал изучать содержимое кастрюли, которую он все еще держал в руках. «Замечательная картошка, — сказал он, — мои поздравления!». При этом он посмотрел так мягко и ласково, что меня словно охватило теплой волной. Я почувствовала, что Петер хочет сделать мне приятное: не умея красиво говорить, он выразил чувства взглядом.
Я его хорошо поняла и была бесконечно благодарна. До сих пор меня охватывает радость, когда я вспоминаю, как он смотрел!
Внизу мама сказала, что картошки недостаточно, и я снова пошла наверх. Зайдя к Петеру, извинилась, что опять его беспокою. Тут он поднялся, встал между стеной и лестницей и, схватив мою руку, попытался меня удержать.
«Я сам пойду, я и так туда собирался».
Я ответила, что это совсем не нужно, тем более, сейчас мне не обязательно отыскивать маленькие картофелины. Он, наконец, отпустил меня, но когда я вернулась, снова открыл люк. Уже у двери я поинтересовалась: «Чем ты сейчас занимаешься?» «Французским». Я спросила, могу ли я взглянуть на его учебник, вымыла руки и уселась на диван. Объяснила ему кое-что из французского, а потом мы разговорились. Петер сказал, что когда повзрослеет, хочет уехать в голландскую колонию — Индонезию — и стать там фермером.
Потом стал рассуждать на разные темы: о своем прежнем доме, черной торговле и о том, что он неудачник. Я подтвердила лишь, что он страдает комплексом неполноценности. Еще он говорил о войне: о том, что русские вместе с англичанами наверняка победят, а также — о евреях. Он сам предпочел бы быть христианином не только сейчас, но и после войны. Я спросила, хочет ли он тогда принять крещение, но этого он как раз не хотел. Все равно настоящий христианин из него не получится, впрочем, кто будет знать после войны, что он еврей? Эти слова меня больно кольнули. Меня всегда коробил в нем этот элемент нечестности.
Петер также заявил: «Евреи всегда были и останутся избранным народом!»
Я ответила: «Надеюсь, что эта избранность когда-то обернется и хорошей стороной!». Потом мы очень уютно поболтали о папе, о жизненном опыте и еще о разном — не помню уже о чем. Я спустилась вниз только в пол пятого, когда пришла Беп.
Вечером он сказал что-то очень хорошее. Мы обсуждали одну кинозвезду.
Когда-то я подарила ему ее портрет, который с тех пор — уже полтора года — висит у него в комнате. И вот сейчас я предложила ему фотографии других кинозвезд.
«Нет, — сказал он, — оставим лучше все по старому. Я каждый день смотрю на это фото, и мне кажется, что мы друзья».
Теперь я лучше понимаю, почему он так крепко прижимает к себе Муши. Ему просто не хватает тепла! Да, вспомнила, что он еще сказал: «Я редко боюсь чего-то, разве что, болезней. Но эти страхи я преодолею!».
Чувство неполноценности у Петера огромное. Он считает себя глупым, а нас, напротив, очень сообразительными. Если я помогаю ему с французским, он многократно благодарит меня. В следующий раз непременно отвечу: «Да, прекрати эти излияния! Ведь ты, например, гораздо сильнее меня в английском и географии!».
Анна.
Четверг, 17 февраля 1944 г.
Дорогая Китти,
Сегодня утром я зашла к верхним, так как обещала госпоже ван Даан почитать вслух что-то из моих сочинений. Я начала с рассказа «Сон Евы», который ей очень понравился. Потом прочитала отрывки из «Убежища». Госпожа смеялась от души. Петер тоже слушал и попросил меня читать чаще. Я решила тут же воспользоваться моментом, побежала за дневником и показала ему кусочек о Боге. Его реакция была довольно туманной: я даже не могу передать, что он сказал, во всяком случае, это не было впечатлением от прочитанного. Я объяснила, что на примере этих строчек хотела показать, что пишу не только о смешном. Петер кивнул и вышел из комнаты. Посмотрим, что будет дальше!
Анна.
Пятница, 18 февраля 1944 г.
Дорогая Китти,
Если я теперь поднимаюсь наверх, то всегда, чтобы увидеть «его». Моя жизнь, несомненно, стала лучше — есть цель и радости!
Предмет моих симпатий живет в том же доме, что и я, поэтому можно не бояться соперниц, кроме Марго. Только не подумай, что я влюблена, вовсе нет!
Но я чувствую, что между мной и Петером зарождаются особенные дружба и доверие. Я использую любую возможность, чтобы зайти к нему, и между нами теперь совсем не так, как было раньше, когда Петер не знал, о чем начать разговор. Теперь он говорит без умолку, даже когда я стою в дверях, чтобы уйти.
Маме не очень нравится, что я часто хожу наверх. Она говорит, что я мешаю Петеру и должна оставить его в покое. Как будто я сама не разбираюсь, что к чему! Когда я поднимаюсь наверх, она провожает меня странным взглядом, а когда возвращаюсь, спрашивает, где я была. Как мне это надоело, не удивительно, что я испытываю к ней чуть ли не отвращение!
Анна Франк.
Суббота, 19 февраля 1944 г.
Дорогая Китти,
Снова суббота, и это говорит само за себя. Я почти час провела наверху, но с «ним» поговорила лишь мимоходом. В пол третьего, когда все отдыхали — кто спал, кто читал — я, завернувшись в одеяло, уселась внизу за письменным столом, чтобы позаниматься в тишине. Но вдруг мне стало так тоскливо, что я положила голову на руки и расплакалась. Я чувствовала себя безумно несчастной! Ах, если бы «он» пришел и утешил меня.
Только в четыре я поднялась наверх. А в пять собралась за картошкой в надежде встретить «его», но еще когда я причесывалась в ванной, он ушел в подвал к Моффи. Я решила помочь госпоже ван Даан и в ожидании, когда она начнет готовить, уселась с книгой в гостиной. Но вдруг опять почувствовала, что сейчас расплачусь, и помчалась в туалет, взглянув быстро по дороге в карманное зеркальце. Там я долго сидела просто так, рассматривая пятна от слез на моем переднике. Мне было ужасно грустно.
Я думала примерно следующее: я никогда не завоюю Петера, да у него и нет потребности в доверии. Наверно, я ему вовсе не нужна. Значит надо жить дальше без Петера и без дружбы. А может, и без надежды, утешения и будущего.
Ах, если бы я могла положить голову ему на плечо и не чувствовать себя больше такой одинокой и покинутой! Кто знает, может, я ему глубоко безразлична, и на других он смотрит таким же теплым взглядом. А я-то вообразила, что только на меня! О, Петер, если бы ты сейчас мог увидеть или услышать меня, но с другой стороны, я боюсь узнать горькую правду.
Позже я приободрилась и снова стала мечтать и надеяться, хотя все еще продолжала плакать.
Анна Франк.
Воскресенье, 20 февраля 1944 г.
Дорогая Китти,
То, что другие люди делают в течение недели, мы, здесь в Убежище, исполняем по воскресеньям. Когда другие в праздничных одеждах гуляют на солнышке, мы драим, моем и метем.
Восемь часов:
Не считаясь с любителями поспать, Дюссель встает, идет в ванную, потом вниз, снова наверх и моется целый час.
Пол десятого:
Камины включены, шторы приподняты и ван Даан отправляется в ванную. Одно из моих воскресных испытаний: наблюдать, лежа в постели, как Дюссель молится. Наверно, многие осудят меня, если я скажу, что это отвратительное зрелище. Нет, он не рыдает и вообще не проявляет сентиментальности, но четверть часа (целые четверть часа!) покачивается с носков на пятки и обратно. Туда-сюда, туда-сюда — у меня начинается головокружение, если не закрыть глаза.
Четверть одиннадцатого:
Ван Даан свистит, ванная свободна. Наше семейство приподнимает сонные головы с подушек. Потом все происходит очень быстро. Мы с Марго занимаемся внизу стиркой. Поскольку там обычно холодно, натягиваем на себя брюки и надеваем на головы косынки. Между тем папа моется в ванной, потом наступает наша с Марго очередь, и вот, наконец, все готовы!
Пол одиннадцатого:
Завтрак. Об этом не буду распространяться: у нас и без того только и говорят, что о еде.
Четверть первого:
Каждый приступает к своим обязанностям. Папа, стоя на коленях, усердно чистит ковры, в результате всюду летают большие облака пыли. Господин Дюссель стелит постели (как всегда все перепутает) и насвистывает все тот же скрипичный концерт Бетховена. Мама развешивает белье на чердаке. Господин ван Даан убирает внизу, Петер и Муши обычно там же. Госпожа ван Даан наряжается в длинный фартук, черный шерстяной жакет, платок, обматывает себя красной шалью и, захватив мешок грязного белья, отправляется стирать.
Мы с Марго моем посуду и убираем комнату.
Среда, 23 февраля 1944 г.
Дорогая Китти,
Со вчерашнего дня установилась прекрасная погода, и настроение приподнятое. Моя литературная работа — самое важное в моей жизни — продвигается успешно. Каждое утро я поднимаюсь на чердак, чтобы вдохнуть немного свежего воздуха. Когда я пришла туда сегодня утром, Петер занимался уборкой, но очень быстро закончил дела и присоединился ко мне. В тот момент. я уже, конечно, сидела на моем любимом месте — на полу. Мы смотрели на голубое небо, ветки каштанов со сверкающими капельками воды, на ласточек и других птиц, казалось, выточенных из серебра. Мы были так тронуты, что не произносили ни слова. Он стоял, прислонившись к подоконнику, а я сидела. Мы молчали, вдыхали свежий воздух и оба чувствовали, что нельзя нарушать молчание. Так продолжалось, пока Петер не пошел колоть дрова, и к тому моменту я знала точно, что он хороший и милый мальчик. Он поднялся на мансарду, я за ним, и в течение пятнадцати минут мы по-прежнему не разговаривали. Я наблюдала, как Петер колет дрова, он старался работать как можно лучше, чтобы продемонстрировать мне свою ловкость. Время от времени я смотрела в окно на амстердамские крыши: они протянулись до самого горизонта, обозначенного размытой голубой полоской.
«Пока я могу видеть это, — подумала я, — безоблачное небо и солнечный свет — я не смею грустить».
Для всех, кто одинок, несчастлив или боится чего-то, лучшее средство излечения — побыть наедине с Богом и природой. Только тогда поймешь, что все в мире устроено так, как должно быть, и что Бог всем желает счастья. И пока это существует (а должно существовать всегда), то при любых обстоятельствах и любом горе найдется утешение. Я убеждена, что природа может оказать огромную поддержку.
О, может, уже скоро я смогу делиться с кем-то этим всеобъемлющим ощущением счастья — с тем, кто чувствует так же, как я.
Анна.
Мысли (Петеру).
Нам здесь многого не достает, очень многого. Ты чувствуешь это так же, как я. Я не имею в виду материальные потребности — в этом отношении у нас есть все необходимое. Нет, я говорю о том, что у нас на душе. Так же, как ты, я мечтаю о свободе и воздухе, но верю, что мы будем вознаграждены за наши лишения. Вознаграждены духовно.
Когда я сегодня утром смотрела в окно, то ощущала себя наедине с Богом и природой, и была совершенно счастлива. Петер, пока ты чувствуешь и мыслишь, пока можешь радоваться природе, здоровью, самой жизни, ты можешь стать счастливым.
Богатство, славу можно потерять, но духовная радость, если и покидает тебя на время, то всегда возвращается.
А если тебе грустно и одиноко, поднимись в хорошую погоду на мансарду и посмотри в окно: на дома, крыши, небо. Пока ты можешь спокойно смотреть на небо, и пока душа у тебя чиста, счастье возможно.
Воскресенье, 27 февраля 1944 г.
Милая Китти,
С утра до вечера я думаю только о Петере. Засыпаю и просыпаюсь с мыслями о нем и вижу его во сне. Думаю, все-таки, что мы с Петером не такие разные, как кажется на первый взгляд. И знаешь почему? Нам обоим не хватает мамы. Его мать слишком поверхностная и легкомысленная, и внутренняя жизнь сына ее мало волнует. Моя мама вмешивается во все, не понимает тонкостей, не тактична…
Петер и я страдаем из-за этого. Мы оба не достаточно уверены в себе, слишком мягки и ранимы, и поэтому нам особенно трудно, если с нами грубо обращаются. Я тогда или упорно молчу, или — наоборот — высказываю все, что у меня на душе, и часто становлюсь невыносимой для окружающих. А Петер замыкается в себе, молчит, и все думает о своем.
Но как же нам найти друг друга? Не знаю, долго ли еще я смогу сдерживать свои чувства.
Анна.
Понедельник, 28 февраля 1944 г.
Милая Китти,
Это уже становится кошмаром. Я вижу его почти ежечасно, и все же он далеко. Я должна скрывать свои эмоции, быть веселой, а на самом деле мне бесконечно тяжело!
Петер Шифф и Петер ван Даан слились в одного Петера, хорошего, милого, который мне так нужен! Мама ужасная, папа добрый, и от этого мне только хуже. Особенно раздражает Марго, к которой не придерешься. А я хочу только покоя.
Петер не подошел ко мне на чердаке, а отправился столярничать.
Казалось, каждый удар молотка отбивает кусочек моего мужества. Мне было ужасно тоскливо. А тут еще забили часы.
Я знаю, что сентиментальна. И сознаю, что сейчас в отчаянии, и не в состоянии действовать разумно. О, помоги!
Анна Франк.
Cреда, 1 марта 1944 г.
Милая Китти,
Мои проблемы отошли на задний план из-за… взлома! Наверно, я надоела тебе с нашими налетами, но что я могу поделать, если грабителей так привлекает фирма Гиз и K°? Этот взлом гораздо серьезнее, чем прошлый, в июне 43 года.
Господин ван Даан, спустившись вчера в пол восьмого вниз, увидел, что дверь в контору и стеклянная дверь открыты. Это насторожило его. Подозрения усилились, когда он обнаружил, что и другие двери открыты, а в конторе царит жуткий беспорядок. «Были воры», — промелькнуло у него в голове! На всякий случай он проверил наружный замок, но тот оказался цел. «Значит Беп или Петер допустили вчера оплошность», — подумал ван Даан. Он недолго посидел в кабинете Куглера, потом выключил свет и поднялся наверх, не особенно обеспокоенный увиденным.
Сегодня утром Петер очень рано постучался в нашу дверь, чтобы сообщить тревожную новость: входная дверь открыта настежь, а из стенного шкафа исчезли проекционный аппарат и новый портфель Куглера. Петеру наказали немедленно закрыть дверь, а ван Даан рассказал о том, что видел внизу накануне вечером. Мы все были ужасно напуганы и взволнованы.
Объяснение происшедшему может быть только одно: вор владеет запасным ключом от входной двери, поскольку никаких следов взлома мы не нашли.
Очевидно, он проник в контору ранним вечером, увидев ван Даана, где-то затаился, а потом смылся со всем украденным добром, забыв в спешке захлопнуть дверь.
Но у кого может быть ключ? И почему вор не пошел не склад? Может, это был один из работников склада? Он может выдать нас: ведь он собственными глазами видел ван Даана!
Теперь мы живем в постоянном страхе, потому что не знаем, когда пресловутому налетчику опять взбредет в голову прийти сюда? Или он сам был испуган неожиданным появлением ван Даана?
Анна Франк.
P.S. Может, у тебя есть на примете хороший сыщик для нас? Первое условие, разумеется, чтобы мы ему полностью могли доверять…
Четверг, 2 марта 1944 г.
Дорогая Китти,
Сегодня я сидела с Марго на чердаке, но не чувствовала себя так особенно, как с Петером. Хотя знаю, что наши с Марго ощущения часто совпадают.
После мытья посуды Беп стала жаловаться маме и госпоже ван Даан на свое продавленное настроении. Но чем они могут ей помочь? И прежде всего, моя бестактная мать! Знаешь, что она ей посоветовала? Больше думать о страданиях других людей. Как будто это помогает, когда тебе самому плохо! Я так прямо и сказала, и в ответ, разумеется, услышала, что не доросла до понимания подобных вещей.
Как же взрослые иногда тупы и непонятливы! Как будто Петер, Марго, Беп и я не чувствуют того же, что они. А помочь и утешить может только любовь — любовь матери или очень хороших, настоящих друзей. Но наши две мамаши ровным счетом ничего в нас не понимают! Хотя, пожалуй, госпожа ван Даан чуть больше, чем мама.
О, я так хотела сказать бедной Беп слова, которые непременно поддержали бы ее! Но пришел папа и довольно грубо отодвинул меня в сторону. Как они все глупы!
С Марго я немного поговорила о папе и маме, о том, как бы нам здесь хорошо жилось, если бы они не были такими несносными. Мы бы, например, устраивали вечера, на которых каждый по очереди о чем-то рассказывал. Но как бы не так, ведь мне нельзя говорить! К тому же господин ван Даан имеет привычку перебивать, а мама все время ехидничает — она просто не в состоянии вести обычный разговор. Папе надоели наши вечные столкновения, а Дюсселю — и подавно. Что касается госпожи ван Даан, то во время споров она чувствует себя такой оскорбленной, что вся краснеет и не произносит ни слова. А мы? Мы не имеем право на собственное мнение! При этом они считают себя современными. Можно заткнуть людям рот, но нельзя запретить им думать, лишь потому, что они слишком молоды. Беп, Марго, Петеру и мне помогла бы лишь большая настоящая любовь, которая в наших условиях невозможна. И никто, особенно эти глупейшие существа здесь, не могут нас понять, потому что мы мыслим и чувствуем гораздо глубже, чем они предполагают!
Любовь, что такое любовь? Я думаю, что это не выразишь словами. Любовь — это значит понимать другого, делить с ним счастье и горе. И физическая любовь в какой-то момент тоже неотъемлема от этого, Ты что-то делишь другим, отдаешь и получаешь — не существенно, в законном ли браке, с детьми или без.
Неважно, невинны отношения или нет, главное, что кто-то рядом, понимает тебя и полностью тебе принадлежит!
Анна Франк.
Сейчас мама снова ворчит, она явно ревнует меня к госпоже ван Даан, с которой я разговариваю чаще, чем с ней. Но меня это совершенно не трогает!
Сегодня днем мне удалось поймать Петера, и мы болтали примерно сорок пять минут. Петер не привык открыто говорить о себе, но все же постепенно расковывается. Я не знала, как лучше — уйти или остаться. Но мне так хочется помочь ему! Я рассказала ему о Беп и бестактности наших мам. А он пожаловался, что его отец и мать постоянно ссорятся: то о политике, то о сигаретах, то еще о чем-то. Как Петер не смущался, он признался мне, что с удовольствием не видел бы своих родителей года два. «Мой отец не такой обходительный, как кажется, но в вопросе с сигаретами, несомненно, права мама». Поговорили и о проблемах с моей мамой. А за папу он вступился горой и заявил, что считает его замечательным парнем!
Вечером, когда я закончила мыть посуду и сняла фартук, он подошел ко мне и попросил никому не рассказывать о нашем разговоре. Я пообещала, хотя уже рассказала Марго, но в ее молчании я абсолютно уверена.
«Что ты, Петер, — сказала я, — можешь не бояться. Я уже давно отвыкла сплетничать и никогда не передаю другим то, что узнала от тебя». Он был очень доволен. Я еще сказала, что у нас слишком много злословят, да и я сама не исключение. «Так считает Марго, и правильно: ведь я постоянно ругаю Дюсселя»
«И весьма справедливо!», — сказал Петер и покраснел, а я даже слегка смутилась от его искреннего комплимента.
Потом мы снова вернулись к теме «нижних» и «верхних». То, что наша семья не очень жалует его родителей, Петера удивило и огорчило. «Петер, — сказала я, — я с тобой совершенно откровенна. Почему же я стану скрывать это от тебя? Ведь мы признаем и свои собственные ошибки». И прибавила: «Я очень хочу помочь тебе. Ведь нелегко находиться между двух враждующих лагерей, хоть ты сам не признаешь этого».
«Что ж, я рад твоей помощи».
«Ты всегда можешь также доверяться моему папе, не сомневаясь, что все останется между вами».
«Да, я знаю, что он настоящий товарищ».
«Ведь ты любишь его, не правда ли?»
Петер кивнул, а я продолжала: «И он тебя тоже, я знаю точно!»
Петер покраснел, он явно был растроган: «Ты думаешь?»
«Да, это чувствуется, когда он говорит о тебе».
Тут явился ван Даан.
Петер тоже замечательный парень, как папа!
Анна Франк.
Пятница, 3 марта 1944 г.
Милая Китти,
Когда я сегодня вечером смотрела на горящую свечку, мне было так радостно и спокойно. Казалось, из огонька на меня смотрит бабушка, она меня защищает, оберегает и приносит мне радость. Но мои мысли были заняты кем-то другим,… Петером. Когда я сегодня днем пошла за картошкой, и с полной кастрюлей стояла наверху, он спросил меня: «Что ты делала целый день?». Я уселась на лестнице, и мы разговорились. В четверть шестого — через час после моего ухода наверх — картошка была доставлена на кухню. Петер в этот раз ни слова не сказал о своих родителях. Мы говорили о книгах и нашей прошлой жизни. О, какой у этого мальчика добрый взгляд, как бы мне не влюбиться в него.
Об этом он и сам заговорил сегодня вечером. Я пришла к нему после чистки картошки и сообщила, что мне ужасно жарко. И прибавила: «По тебе и Марго можно узнавать температуру. Когда тепло, вы красные, а если холодно — бледные».
«Влюбилась?» — спросил он.
«С чего это — влюбилась?» Мой ответ, точнее, вопрос прозвучал довольно невинно.
«А почему бы и нет?»
Но тут нас позвали есть.
Что он имел в виду? Сегодня я наконец спросила его, не очень ли докучаю ему болтовней. Он ответил: «Да нет, ничуть!». В какой степени этот ответ продиктован его тактичностью, не знаю.
Китти, я, действительно, похожа на влюбленную, которая только и говорит, что о своем милом. А Петер и вправду милый. Конечно только, если я ему тоже нравлюсь. Но я не котенок, которого можно схватить без перчаток. А он любит бывать один, и вообще, я понятия не имею, что он думает обо мне. В любом случае, мы сейчас узнали друг друга получше, и надеюсь, что еще что-то произойдет. И может быть, скорее, чем кажется! Несколько раз в день я встречаю его полный понимания взгляд, подмигиваю ему, и мы оба рады. Глупо судить о его чувствах, но почему-то я уверена, что наши мысли совпадают.
Анна.
Суббота, 4 марта 1944 г.
Дорогая Китти,
Уже месяцы не было такой субботы — совсем не скучной, грустной или унылой. А причина — Петер! Сегодня утром я поднялась на чердак, чтобы повесить там фартук. Папа как раз занимался с Петером французским и спросил меня, не хочу ли я присоединиться к ним. Я согласилась. Мы немного поговорили по-французски, и объяснила ему что-то из грамматики. Потом перешли к английскому. Папа почитал вслух из Диккенса, и я была на седьмом небе, потому что сидела на папином стуле рядом с Петером. Без четверти одиннадцатого я спустилась вниз, а когда в пол двенадцатого снова пришла на чердак, он уже ждал меня на лестнице. Мы болтали до без четверти час. При любой возможности, например, когда я после еды выхожу из комнаты, и никто нас не слышит, он говорит: «Пока, Анна, до скорого».
Я так рада! Может, он все-таки влюбился в меня? Как бы то ни было, он замечательный парень, и с ним можно славно поговорить!
Госпожа ван Даан одобряет наше общение, но вчера она спросила двусмысленно: «Могу я вам доверять?» «Конечно, — возмутилась я, — вы меня обижаете!». С утра до вечера я радуюсь встречам с Петером!
P.S. Совсем забыла: вчера намело полно снега. Но сегодня уже почти ничего не видно — все растаяло.
Анна Франк.
Понедельник, 6 марта 1944 г.
Дорогая Китти,
Не находишь ли ты преувеличенным, что после разговора с Петером о родителях я чувствую себя в какой-то степени ответственной за него? Думаю, что от ссор ван Даанов мне сейчас не менее больно, чем Петеру, но снова заговорить с ним об этом не решаюсь. Вдруг ему будет неприятно? Я ни в коем случае не хочу показаться нетактичной.
По лицу Петера заметно, что он так же много думает обо мне, как я о нем. Как я разозлилась вчера вечером, когда его мамаша насмешливо изрекла: «Мыслитель!». Петер смутился и покраснел, а я едва сдержалась.
Почему эти люди не могут промолчать? Больно видеть, как Петер одинок, и оставаться равнодушной. Чувствую, как невыносимы ему склоки в доме! Бедный Петер, как тебе нужна любовь!
Ужасно было слышать его заявление, что в друзьях он совсем не нуждается. Это заблуждение! Впрочем, думаю, что он и сам себе не верит. Он выставляет напоказ свое одиночество и наигранное равнодушие, чтобы не показать истинных чувств. Бедный Петер, как долго ты еще будешь играть эту роль? Она наверняка стоит тебе неимоверных усилий, что может закончиться гигантским взрывом! Петер, если бы я могла тебе помочь. Мы бы вместе положили конец нашему одиночеству!
Я много думаю, но говорю мало. Я рада, когда вижу его, и особенно, если тогда светит солнце. Вчера во время мытья головы я расшалилась, зная, что он сидит в соседней комнате. Ничего не могу с собой поделать: чем я тише и серьезнее в душе, тем более вызывающе себя веду! Кто первый увидит и сломает мой панцирь?
Все-таки хорошо, что у ван Даанов сын, а не дочка. С девочкой не было бы таких трудностей, но и не было бы прекрасных моментов!
Анна Франк.
P.S. Я с тобой совершенно откровенна, поэтому признаюсь, что живу только встречами с ним. Надеюсь, что и он их ждет, и радуюсь, если замечаю его редкие и неловкие попытки приблизиться ко мне. Мне кажется, что ему так же хочется выговориться, как мне. Он и не подозревает, как именно его неловкость и застенчивость трогают меня!
Вторник, 7 марта 1944 г.
Дорогая Китти,
Когда я думаю о моей жизни до 1942 года, то она кажется мне какой-то игрушечной. Анна Франк того беззаботного времени совсем не похожа на сегодняшнюю Анну, немало поумневшую. А как раньше все было просто и замечательно! Любимица учителей, избалована родителями, за каждым углом пять поклонников, не меньше двадцати подруг и знакомых, денег достаточно, сладостей без счета — что же нужно еще?
Ты, наверняка, задаешься вопросом: чем же я так привлекала окружающих?
Петер говорит «обаяние», но это не совсем правда. Учителям нравились мои меткие ответы, смешные замечания, критический взгляд и неизменная веселость. Они находили меня забавной и смешной. Кроме того, я слыла известной кокеткой. А наряду с этим была прилежной, открытой и щедрой. Никогда я не была воображалой, ни на кого-то не смотрела свысока, а сладости раздавала всем подряд.
Может, всеобщее поклонение сделало меня самонадеянной? К счастью, в самый разгар моей популярности, я была сброшена с пьедестала, и лишь спустя год, привыкла к тому, что никто мной не восхищается.
Какой меня знали в школе? Шутница и зачинщица, всегда хвост трубой, никогда не хандрит и не плачет. Что ж удивляться, что каждый хотел проводить меня домой и завоевать мое внимание? Сейчас мне та Анна Франк кажется милой и забавной, но поверхностной и не имеющей со мной ничего общего. Петер говорит о том времени: «Когда я тебя встречал, вокруг вертелось несколько мальчиков и куча девочек, ты всегда смеялась и была в центре». И это правда.
Что же осталось от той Анны Франк? О, конечно, смех и шутки по-прежнему со мной, я столь же критично отношусь к людям, могу флиртовать и кокетничать, если захочу… Пожить бы хоть несколько дней, хоть недельку такой беззаботной жизнью… Но я точно знаю, что к концу той недели мне все надоело бы, и я была бы рада серьезному разговору с первым встречным. Мне не нужны больше поклонники и обожатели, а только друзья, ценящие не мой смех, а сущность и характер. Конечно, круг людей вокруг меня станет тогда гораздо меньше. Но зато это будут настоящие друзья.
Несмотря на все, я не была в 1942 году безоблачно счастливой. Я часто чувствовала себя одинокой, но поскольку была занята с утра до вечера, то не задумывалась над этим, и старалась получить от жизни как можно больше удовольствий. Смех и шутки — сознательно или бессознательно — помогали мне заполнить пустоту.
Сейчас, глядя назад, я осознаю, что беззаботное время осталось позади и никогда больше не вернется. А мне бы и не хотелось такой жизни, я выросла из нее. Я не смогла бы сейчас только веселиться, какая-то моя часть всегда остается серьезной.
Я как бы рассматриваю себя до 1942 года через сильное увеличительное стекло. Счастливая жизнь дома. Потом внезапная перемена, ссоры, непонимание… Это неожиданно навалилось на меня, и я не знала, как себя вести — отсюда моя грубость. В первую половину 1943 года мне часто было грустно и одиноко, и я много плакала. Пыталась разобраться в своих многочисленных ошибках и недостатках, которые казались больше, чем они есть на самом деле. Старалась много говорить со всеми, найти понимание у Пима, но напрасно. Я должна была сама изменить свое поведение так, чтобы больше не слышать со всех сторон упреков, вызывающих у меня лишь отчаяние и бессилие.
Во второй половине года стало немного лучше, я повзрослела, и ко мне стали относиться иначе. Я тогда много думала, начала сочинять рассказы и пришла к выводу, что должна стать независимой от окружающих и не позволять им раскачивать себя, как маятник то в одну, то в другую сторону. Я хотела сформировать себя сама, по собственной воле. Как мне тогда не хватало мамы, не хватало во всем! Это причиняло боль. Но еще больнее стало от того, когда я поняла, что и папе я никогда не доверяла. В общем, не доверяла никому, кроме себя.
Важное событие этого года: мой сон… мечты о мальчике, именно не о подруге, а о друге. Я также открыла внутреннее счастье и осознала, что мои веселье и легкомысленность напускные. Постепенно я стала спокойнее. Теперь я живу только Петером, потому что от него во многом зависит, что произойдет со мной дальше!
Вечером в постели я всегда заканчиваю молитву словами: «Благодарю тебя за все хорошее, за любовь и красоту». Мне тогда становится радостно, и я думаю, что «хорошее» — это то, что мы в надежном укрытии, и что мы здоровы.
«Любовь» — это о Петере, она еще мала и непрочна, и мы оба не решаемся произнести слова: любовь, будущее, счастье. А красота — это весь мир, природа и вообще все, что есть на свете прекрасного.
И тогда я думаю не о горестях, а о том, как много в жизни радостного. В этом-то мы с мамой и различаемся. Если кто-то грустит, то она дает совет: «Вспомни, сколько вокруг горя и будь довольна, что многие несчастья тебя миновали». А мой совет такой: «Иди в поля, смотри на солнце, любуйся природой. Ищи счастье в себе самой, подумай обо всем прекрасном, что есть в тебе и мире и будь счастлива».
По-моему, мама не права. Она говорит: радуйся, что не страдаешь еще больше. А если эти страдания придут потом? Тогда все пропало? Я считаю, что после любого пережитого горя остается что-то хорошее, со временем это хорошее растет, и так достигается своего рода равновесие. Если ты счастлив, то приносишь радость и другим. Тот, кто хранит веру и мужество, победит зло!
Анна Франк.
Среда, 8 марта 1944 г.
Мы с Марго пишем друг другу записочки, ради шутки, разумеется.
Анна: Странно, что ночные события я вспоминаю обычно позже… Например, сейчас вдруг подумала, что господин Дюссель в последнюю ночь ужасно храпел.
Сейчас, без четверти три дня он храпит снова, потому и вспомнила. Тогда ночью я встала в туалет и намеренно шумела, чтобы он прекратил.
Марго: Что легче сносить храп или зевоту?
Анна: Храп. Если пошуметь, то он замолкает, а виновник даже и не просыпается.
То, что я не написала Марго, а доверяю тебе: мне очень часто снится Петер. Два дня назад мне снилось, что наша гостиная превратилась в каток, и туда пришел маленький мальчик, которого я знала раньше; рядом с ним всегда была сестра, одетая в типичное для катка голубое платьице. Я спросила мальчика, как его зовут, и он ответил: «Петер». И во сне я удивилась: как много Петеров я знаю!
В другом сне мы с Петером стояли в его комнате, у лестницы. Я что-то болтала, а он поцеловал меня, но сказал, что любит меня не по-настоящему, и что я не должна с ним флиртовать. Я была так рада, когда проснулась и поняла, что это не произошло на самом деле!
Сегодня ночью мне снова снилось, что мы целовались, но щеки Петера были другими, чем в первом сне: не нежными, какими они кажутся на вид, а как у папы, то есть у мужчины, который уже бреется.
Пятница, 10 марта 1944 г.
Милая Китти!
Сегодня я поняла, как верна пословица: «Приходит беда, открывай ворота». И Петер только что сказал то же самое. Сейчас расскажу о наших сегодняшних и, возможно, предстоящих неприятностях.
Во-первых, заболела Мип: она простудилась в церкви, на свадьбе Хенка и Агги. Во-вторых, господин Кляйман еще не оправился от последнего желудочного кровотечения, и Беп сейчас одна в конторе. В-третьих, господин (имя называть не буду) арестован. Это удар не только для него самого, но и для нас: благодаря ему мы получали картошку, масло и джем. У господина М. (назову его так) пятеро детей, все моложе тринадцати лет, и еще один должен родиться.
Вчера вечером мы страшно испугались: кто-то постучал в стенку, соседнюю с нашей. Мы как раз ужинали. К счастью, остаток дня прошел без волнений. В последнее время мне стало неинтересно описывать нашу повседневную жизнь. Я больше занята тем, что происходит в моем сердце. Пойми меня правильно: я очень переживаю за господина М., но все же в моем дневнике не много места для него. Во вторник, среду и четверг я с полпятого до четверти шестого была у Петера. Мы занимались французским и немного болтали. Я всегда радуюсь нашим коротким встречам, а главное, мне кажется, что Петеру мой приход тоже доставляет удовольствие.
Анна Франк.
Суббота, 11 марта 1944 г.
Дорогая Китти,
В последнее время мне все не сидится на месте: то и дело иду наверх, спускаюсь и поднимаюсь опять… Мне так нравится разговаривать с Петером, но боюсь надоесть ему. Он мне много рассказывает: о прошлом, родителях, себе самом. Но мне этого недостаточно, и я постоянно себя спрашиваю: вправе ли я желать большего? Раньше я считала его невыносимым, и он так же думал обо мне. Сейчас я изменила свое мнение, но изменил ли и он свое? Конечно, мы можем стать хорошими друзьями, и так мне будет легче сносить наше заточение. Но хватит об этом. Ведь я только им и занимаюсь, и не хочу втягивать тебя в свои переживания!
Анна Франк.
Воскресенье, 12 марта 1944 г.
Дорогая Китти,
Чем дальше, тем хуже. Со вчерашнего дня Петер на меня не смотрит, как будто за что-то сердится. Я, со всей стороны, из-за всех сил стараюсь не смотреть на него и говорить с ним как можно меньше. Но как это трудно! Что именно во мне привлекает его, а что отталкивает? Может, я преувеличиваю, он просто не в настроении, и завтра все будет нормально!
Самое трудное сейчас не показывать своих мучений и вести себя как ни в чем не бывало. Болтать, помогать по хозяйству, отдыхать и главное — быть веселой! Больше всего сейчас мне не хватает природы и возможности побыть одной так долго, как я этого захочу!
Ах, Китти, кажется, я все бросаю в одну кучу, но я совсем запуталась.
То мне его ужасно не хватает, и я не могу удержаться, чтобы не смотреть на него, а то я себя спрашиваю: на что он мне, собственно, сдался?!
День и ночь, всегда, когда я не сплю, меня не оставляют вопросы: «Не чересчур ли ты пристаешь к нему? Не слишком ли часто ходишь наверх? Может, не в меру много говоришь о серьезных вещах, которых он не хочет касаться?
Можешь ты ему вовсе не нравишься, и лишь вообразила весь сыр-бор? Но почему он так откровенен с тобой? А может, он сам потом об этом жалеет?» И еще много других вопросов.
Вчера днем я так расстроилась из-за плохих новостей с фронта, что заснула на диване. Мне хотелось забыться, чтобы не думать. Проспала до четырех и потом пошла к родителям. Было нелегко отвечать на мамины вопросы и объяснить папе, почему я вдруг заснула. Я отговорилась головной болью, и не солгала: моя голова, действительно болела… как-то изнутри.
Обычные люди, обычные девочки-подростки сочли бы меня занудой из-за моих бесконечных жалоб. Что ж, они правы, ведь я поверяю тебе все, что у меня на сердце, а потом до конца дня стараюсь быть решительной, веселой и самоуверенной, чтобы не терзаться бесконечными вопросами и сомнениями.
Марго очень добра со мной и явно рассчитывает на мою откровенность, но я просто не могу рассказать ей все. Она воспринимает меня всерьез, слишком всерьез, много думает о своей безрассудной сестренке и спрашивает себя: «Правдива ли она или разыгрывает комедию?».
Мы живем здесь слишком тесно, и мне не хотелось бы видеть доверенную моих тайн ежедневно. Когда же распутается этот клубок мыслей, и ко мне снова придут мир и покой?
Анна.
Вторник, 14 марта 1944 г.
Дорогая Китти,
Тебе, наверно, интересно узнать, что мы сегодня будем есть, хотя мне самой эта тема ужасно наскучила. В настоящий момент внизу работает уборщица, а я сижу за столом у ван Даанов, прижав к носу надушенный (еще до нашего заточения) носовой платок. Ты, наверно, не понимаешь — о чем я, поэтому начну с начала. Поскольку поставщики наших продуктовых талонов арестованы, у нас совсем не осталось масла. К тому же Мип и Кляйман больны, и Беп не может отлучиться из конторы за покупками. Настроение у нас ниже среднего, и еда соответствующая. Сегодня утром не было ни капли масла или маргарина. По утрам мы едим не жареную картошку, а кашу, которую госпожа ван Даан варит на молоке — из страха, что иначе мы умрем с голоду. На обед намечалось консервированное картофельное пюре, перемешанное с зеленой капустой (национальное голландское блюдо).
Вот зачем мне нужен носовой платок! Ты не представляешь себе, как отвратительно пахнет этот явно слишком долго хранившийся продукт! Вся комната пропахла смесью перезрелых слив, специй и гнилых яиц. Меня тошнит от идеи, что нам еще предстоит все это есть!
Кроме того, наша картошка заболела странной болезнью, и приходится сжигать ее ведрами в камине. Мы развлекаемся тем, что гадаем, чем же она в точности больна и пришли к выводу, что это смесь рака, оспы и кори.
Небольшое удовольствие сидеть здесь на четвертом году войны. Скорей бы все это кончилось!
Сказать по правде, еда не так уж меня бы занимала, если бы все остальное не было так мрачно. В этом и беда: мы уже не в состоянии выносить однообразное существование. Сейчас я приведу мнение пяти взрослых о нашем положении (дети не имеют права голоса, и в этот раз я не стала с этим спорить).
Госпожа ван Даан:
Работа поварихи мне уже давно наскучила, но сидеть сложа руки еще хуже.
Вот я и тружусь на кухне, но должна вам сказать: готовить без жира невозможно, и я просто заболеваю от ужасных запахов. А моя зарплата — лишь крики и неблагодарность. Я всегда была белой вороной и отдувалась за других.
А война, по-моему, стоит на месте, может, еще и немцы победят. Страшно боюсь, что мы здесь умрем с голоду, так что не спрашивайте, почему у меня плохое настроение.
Господин ван Даан:
Мне необходимо курить, курить, курить… Тогда все не так страшно: ни еда, ни политика, ни хандра Керли. Впрочем, Керли славная женщина. Если нет курева, я становлюсь больным, и мне нужно мясо. Все тогда кажется скверным и беспросветным, и мы страшно ссоримся. Нет, моя Керли удивительно глупа.
Госпожа Франк:
Еда, конечно, не самое главное, но я так мечтаю о кусочке ржаного хлеба, и вообще ужасно хочу есть. На месте госпожи ван Даан я бы давно положила конец бесконечному курению ее супруга. Впрочем, сейчас мне самой необходимо затянуться, моя голова распухла от проблем. Ван Дааны — ужасные люди. Англичане совершают ошибку за ошибкой, война все продолжается. Хорошо хоть, что мы не в Польше.
Господин Франк:
Все в порядке, и я ни в чем не нуждаюсь. Успокойтесь и наберитесь терпения. Дай-ка мне еще картошки, и я замолчу. Отложи из моей порции немного для Беп. Политика не стоит на месте, и мои ожидания самые оптимистические.
Господин Дюссель:
Я должен защитить диссертацию, все подготовить к сроку. Политикой я очень доволен, и уверен, что нас здесь не найдут. Я, я, я…!
Анна.
Четверг, 16 марта 1944 г.
Дорогая Китти,
Ох, хоть ненадолго отвлекусь от мрачных предсказаний. А они сегодня так и сыплются: «Если то и то произойдет, нам не справиться. А если такой-то и такой-то заболеет, мы окажемся в полной изоляции. И тогда…». «Что тогда» ты наверно догадываешься, поскольку хорошо знакома с жителями Убежища.
Эти бесконечные «если» вызваны тем, что господина Куглера на шесть дней вызвали на рытье окопы, у Беп тяжелая простуда, и вероятно, завтра она останется дома, Мип еще не оправилась от гриппа, а у Кляймана снова кровотечение, сопровождаемое обмороками. Воистину скорбный список!
По нашему мнению, Куглер должен был получить освобождение у надежного доктора и предъявить его в муниципалитете. Складские рабочие завтра свободны, и Беп будет в конторе одна. Если (снова если) она сляжет в постель, мы должны быть тихи, как мыши, чтобы нас, чего доброго, не услышал
Кег. В час зайдет Ян на полчасика, он у нас что-то вроде сторожа в зоопарке.
От Яна мы впервые за долгое время услышали новости из большого мира. Надо было видеть, как жадно мы его слушали. Ни дать, ни взять картинка «Бабушка рассказывает».
Ян, довольный благодарной публикой, болтал без умолку, и разумеется, прежде всего — о еде. Сейчас, во время болезни Мип для него готовит их знакомая, госпожа П. Позавчера и вчера он ел морковь с зеленым горошком, сегодня на обед — бобы, а завтра она сделает из картофеля и оставшейся моркови пюре. Мы спросили, что говорит доктор о Мип.
«Доктор?! — закричал Ян — Лучше не спрашивайте! Сегодня я позвонил ему с просьбой выписать лекарство против гриппа. Ответила ассистентка: «За рецептом можно прийти только в часы приема, между 8 и 9 утра». Если же ассистентку удается убедить, что грипп тебя совсем доконал, к телефону подходит сам врач. «Высунете язык и скажите ааа, — говорит он, — все ясно, по вашему ааа я констатирую красное горло. Зайдите за рецептом и возьмите в аптеке лекарство. До свидания! » И больше ничего не добьешься. Вот до чего дошли: лечат по телефону. Впрочем, не будем упрекать докторов, у них ведь только две руки, а от больных нет отбоя. Но мы посмеялись от души над рассказом Яна. Представляю, как выглядит комната ожидания у доктора. Недовольство против бесплатных пациентов теперь перекинулось на тех, кто с виду как будто не болен. На них бросают взгляды, явно выражающие: «А ты-то зачем явился сюда, пропустил бы вперед настоящих больных!»
Анна.
Четверг, 16 марта 1944 г.
Дорогая Китти,
Погода такая чудесная, что и описать невозможно, я непременно поднимусь на чердак.
Теперь я поняла, почему Петер гораздо спокойнее меня. У него есть своя комната, где он занимается, мечтает, думает и спит. А я метаюсь из одного угла в другой. Никогда я не остаюсь одна в нашей общей с Дюсселем комнате. А мне так нужно иногда побыть одной! Ведь и из-за этого я все бегаю на чердак.
Там, да еще с тобой, Китти, я могу быть самой собой. Но не буду больше жаловаться, постараюсь быть сильной!
Внизу никто не видит моего смятения, разве что замечают, что я все холоднее и надменнее с мамой, менее ласкова с папой и почти не общаюсь с Марго — я закрыта для всех. Я должна сохранять уверенный вид, чтобы никто не догадался, какая война у меня в душе. Война желаний и разума. До сих пор побеждал последний, но первые все же берут перевес. Мне этого и хочется, и страшно.
О, как ужасно трудно не открыться Петеру, но я знаю, что начать должен он. И как нелегко из снов и воображаемой жизни возвращаться в действительность! Да, Китти, твоя Анна слегка не в своем уме, но я живу в безумное время и в ненормальной обстановке.
Единственное утешение для меня — это то, что я могу записать свои мысли и чувства, иначе я бы просто пропала.
Но что думает Петер? Я почти уверена, что когда-то мы откровенно поговорим обо всем. Он должен что-то понимать во мне, ведь «внешняя» Анна, которую он знал до сих пор, не может ему нравиться. Его любовь к покою и согласию никак не сочетаются с моей непоседливостью. Неужели, он — единственный на земле, кто заглянул за мою каменную маску? Сумеет ли он понять, что скрывается за ней? Кажется, в одной старой пословице говорится, что любовь вырастает из сострадания, и о том, что они неотделимы. Не обо мне ли это? Ведь я так часто жалела его, почти так же, как себя.
Я не знаю, совершенно не знаю, как найти первые слова. И он, конечно, не знает, ему всегда было трудно высказаться.
Может, лучше написать ему, но я не решаюсь. Ведь это неимоверно трудно!
Анна.
Пятница, 17 марта 1944 г.
Мой бесценный друг,
В самом деле, все наладилось. Простуда Беп не перешла в грипп, она лишь немного хрипит, а господину Куглеру удалось получить справку, освобождающую его от работ. Все в Убежище вздохнули с облегчением. И все здоровы! Только я и Марго устали от наших родителей.
Не пойми меня превратно, я все также сильно люблю папу. А Марго — и папу, и маму, но мы в нашем возрасте хотим самостоятельности, а не вечной опеки. Когда я иду наверх, меня всегда спрашивают, что я там собираюсь делать. Следят, чтобы я не ела много соли, а ежедневно в четверть девятого мама спрашивает, не пора ли мне уже готовиться ко сну. Не могу сказать, что нам многое запрещают, например, читать мы можем практически все. Но постоянные замечания и вопросы надоели нам смертельно.
Кроме того меня раздражает привычка часто целоваться, сентиментальные и искусственные прозвища, папина манера шутить на тему туалета. Короче, мне хотелось бы хоть какое-то время побыть без них, а они этого совсем не понимают. Разумеется, мы не высказываем им наших упреков, да и какой смысл?
Марго вчера сказала: «Стоит положить голову на руки или вздохнуть, так уже спрашивают — не болит ли голова или что-то другое. Никогда не оставляют в покое!»
Нам обеим тяжело видеть, что от нашего, такого теплого и гармоничного домашнего очага почти ничего не осталось! Но это и не удивительно в такой ненормальной ситуации. С нами обращаются, как с маленькими детьми, а мы, в сущности, гораздо взрослее наших сверстниц. Пусть мне только четырнадцать, но я твердо знаю, что я хочу, кто прав и не прав, и имею собственное мнение, взгляды и принципы. И как ни странно это звучит в устах подростка, я чувствую себя уже не ребенком, а полноправным человеком, ни от кого не. зависящем. Я знаю, что в спорах и дискуссиях я гораздо сильнее мамы, более объективно смотрю на вещи, не преувеличиваю все подобно ей, я более ловкая и организованная, и поэтому (можешь смеяться над этим) чувствую себя выше ее во многих отношениях. Я могу любить только человека, которого уважаю и которым восхищаюсь, а ведь ничего подобного к маме я не испытываю!
Все будет хорошо, только бы Петер был со мной, как раз им я часто восхищаюсь. Ах, он такой милый и симпатичный мальчик!
Анна Франк.
Суббота, 18 марта 1944 г.
Дорогая Китти,
Одной тебе я рассказываю все — о себе и своих чувствах. Поэтому с тобой могу поговорить и о самых интимных вещах — о сексе.
Родители, да и вообще все взрослые относятся к этой теме весьма странно. Вместо того чтобы просто рассказать все девочкам и мальчикам, когда тем исполнилось двенадцать лет, они во время разговоров об этом отсылают их из комнаты и предоставляют самим разбираться, что к чему. Если родители обнаруживают, что их дети посвящены в тайну, они успокаиваются и считают, что те более или менее в курсе. Хотя лучше бы наверстали упущенное и спросили, что же им именно известно.
Для родителей это, действительно, серьезный вопрос, но я больших проблем не вижу. Они думают, что их семейная жизнь потеряет в глазах детей свою чистоту и святость, хотя сами знают, что чистота — чаще всего обман. Я считаю, что совсем не страшно, если мужчина вступает в брак, имея уже какой-то опыт, да и как это может повредить браку?
Когда мне исполнилось одиннадцать, мне рассказали о менструации, точнее, о технической стороне, но не о том, что она означает. В двенадцать с половиной я узнала больше благодаря Джекки: оказалось, что та гораздо просвещеннее меня. Как живут мужчина с женщиной, я уже знала раньше — просто чувствовала интуитивно, хотя все это казалось мне странным. Когда Джекки подтвердила мои мысли, я была очень горда за свою интуицию!
То, что дети рождаются не из живота, я тоже услышала от Джекки, которая так прямо и сказала: «Где плод зарождается, оттуда и выходит». О девственной плеве и других деталях мы прочитали в анатомическом справочнике. Я знала также, что беременности можно избежать, но не имела понятия, как именно.
Здесь, в Убежище папа рассказал о проститутках. Но если собрать все мои знания, то есть еще вопросы, на которые я не знаю ответа.
Если мама не объясняет все детям ясно, то они узнают правду по частичкам, и это плохо.
Хотя сегодня суббота, я не грущу, потому что я сидела с Петером на чердаке! Я закрыла глаза и мечтала — так чудесно…
Анна Франк.
Воскресенье, 19 марта 1944 г.
Дорогая Китти,
Вчерашний день был для меня очень важным. После обеда все шло сначала своим чередом. В пять я поставила варить картошку, и тут мама попросила меня отнести Петеру кусочек кровяной колбасы. Я, было, отказалась, но потом все-таки пошла.
Петер не захотел колбасу, что меня расстроило — мне все казалось, что он не может забыть ссоры о недоверии. Мне вдруг стало невыносимо горько, я молча отдала маме блюдце и побежала в туалет, чтобы выплакаться в одиночестве. И я решила все же поговорить с Петером. Перед едой не было никакой возможности, потому что мы вчетвером разгадывали кроссворд. Но когда мы уже садились за стол, я успела шепнуть ему:
— Петер, ты будешь вечером заниматься стенографией?
— Нет.
— Тогда я хотела бы поговорить с тобой.
— Хорошо.
После мытья посуды я пошла в его комнату. Первое, что я спросила — о кровяной колбасе, не из-за прошлой ли ссоры он отказался от нее? К счастью, причина была не в этом, хотя Петер сказал, что так просто не уступает. Было очень жарко, и мое лицо раскраснелось. Поэтому я снова поднялась наверх после того, как занесла Марго воду: на чердаке можно хоть немного глотнуть свежего воздуха. Ради приличия я сначала постояла у окна ван Даанов, но очень быстро подошла к Петеру. Мы стояли по обе стороны открытого окна: он слева, я — справа. Гораздо легче говорить у окна, в полутьме, чем при ярком свете. По-моему, Петер думает также. Мы столько всего рассказали друг другу, так много, что повторить все невозможно. И это было так замечательно, это был мой самый прекрасный вечер в Убежище. Все-таки коротко перечислю, о чем шел разговор.
Сначала о ссорах и о том, что я сейчас иначе отношусь к ним. Потом о нашем непонимании с родителями. Я говорила о маме, папе, Марго и себе самой.
В какой-то момент он спросил:
— Вы всегда целуетесь, когда желаете друг другу спокойной ночи?
— Разумеется, и ни один раз! А ты, конечно, нет?
— Нет, я почти никогда никого не целовал.
— А как же в дни рождения?
— Ну тогда — естественно.
Мы еще поговорили о том, что оба не доверяем нашим родителям по-настоящему. И что его папа с мамой очень любят друг друга и хотели бы больше близости с Петером, а он этого как раз не хочет. Что если мне грустно, я плачу в постели, а он поднимается в мансарду и выкрикивает там ругательства. И что мы с Марго только сейчас лучше узнали друг друга, но все равно не очень откровенны, потому что слишком много вместе. И так обо всем — о доверии, чувствах и нас самих. Он был таким, каким я его всегда представляла, и каков он на самом деле!
Мы вспоминали прошлое — 1942 год — что мы были тогда совсем другими и не выносили друг друга. Я казалась ему слишком шумной и назойливой, а он мне — вовсе не стоящим внимания. Я не понимала, почему он не флиртует со мной.
А сейчас очень рада, что этого не было. Он заговорил о своей привычке уединяться. Я ответила, что его стремление к покою и тишине и моя непоседливость не так уж противоречат друг другу. Я ведь тоже люблю быть одна, что мне почти никогда не удается, вот только с дневником. И что я прекрасно знаю, как надоедаю другим, особенно господину Дюсселю. Мы признались друг другу, что очень рады, что наши родители здесь с детьми. Я сказала, что теперь лучше понимаю его замкнутость, его проблемы с отцом и матерью, и буду стараться помогать ему во время ссор.
— Да ведь ты и так мне помогаешь!
— Чем же? — спросила я удивленно.
— Своей жизнерадостностью!
Это было самое лучшее из того, что я услышала от него до сих пор. Он так же сказал, что я совсем не мешаю ему, когда прихожу, и он напротив очень рад. А я объяснила, что все детские прозвища со стороны мамы и папы, бесконечные ласки и поцелуи вовсе не означают взаимного доверия. Мы говорили о независимости, дневнике, одиночестве, различии внешней и внутренней сущности человека, масках и так далее.
Это было чудесно, теперь я знаю, что он любит меня, как друг, и этого пока довольно. У меня нет слов, так я рада и благодарна. Ах, Китти, прости меня за сбивчивый стиль, я просто писала, не задумываясь.
У меня сейчас чувство, что мы с Петером делим тайну. Когда он смотрит мне в глаза и улыбается, что-то вспыхивает во мне. Я надеюсь, что это сохранится, и мы еще много славных часов проведем вместе.
Твоя счастливая и благодарная Анна.
Понедельник, 20 марта 1944 г.
Дорогая Китти,
Утром Петер спросил меня, зайду ли я к нему сегодня, и прибавил, что ему абсолютно не мешаю, и в его комнате достаточно места для двоих. Я, ответила, что не могу приходить каждый день: это не нравится взрослым. Но по мнению Петера, я не обязана с этим считаться. Я сказала тогда, что люблю приходить к нему по субботним вечерам, и попросила всегда звать меня в полнолуние. «Тогда мы спустимся вниз, — сказал Петер, — оттуда лучше наблюдать за луной». Я с этим согласилась, ведь воров я уже боюсь гораздо меньше.
Но мое счастье не безоблачно: мне кажется, и уже давно, что Марго нравится Петеру гораздо больше, чем я. Влюблена ли Марго в Петера, я не знаю, но часто чувствую себя виноватой. Может, ей тяжело и больно каждый раз, когда я встречаюсь с Петером. Удивительно, что она ничем себя не выдает, я уверена, что сама с ума бы сошла от ревности. А Марго только убеждает меня, что жалеть ее не надо. «Но ведь нехорошо получается, что ты оказываешься в стороне», — сказала я ей. «Я этому привыкла», — ответила она с какой-то горечью. С Петером я не решаюсь этим поделиться, может, когда-то позже, а пока нам так много нужно рассказать друг другу! Вчера мама слегка шлепнула меня и должна признаться — заслуженно. Я, действительно, слишком далеко зашла в равнодушии и дерзости по отношению к ней. Что ж, постараюсь несмотря ни на что сдерживаться и быть любезной!
Мои отношения с Пимом уже не такие теплые, как раньше. Он старается не обращаться со мной, как с маленьким ребенком, но стал холодным и равнодушным. Посмотрим, к чему это приведет! Он пригрозил не давать мне дополнительных уроков, если я не буду выполнять заданий по алгебре. Увидим, насколько серьезны его намерения. Впрочем, я бы с удовольствием начала заниматься, только вот никак не получу новый учебник.
Пока достаточно, не могу удержаться, чтобы не смотреть на Петера, и чувства буквально переполняют меня!
Анна Франк.
Вот доказательства великодушия Марго. Это письмо я получила от нее 20 марта.
Анна, когда я вчера сказала, что не ревную, то была откровенна только наполовину. Хотя я в самом деле не ревную ни тебя, ни Петера, мне немного грустно, что я пока не встретила и, наверно, не скоро встречу человека, с которым могла бы делить свои мысли и чувства. Но именно поэтому я от души рада за вас — что вы можете довериться друг другу. Ведь тебе не хватает здесь многого из того, чем человек должен обладать бесспорно и естественно.
С другой стороны, я убеждена, что не смогла бы по-настоящему подружиться с Петером. Чтобы быть с кем-то откровенной, я должна сначала близко сойтись с ним и почувствовать, что он меня хорошо понимает, без лишних слов. А такой человек должен стоять духовно гораздо выше меня, что я не могу сказать о Петере. А для тебя это, возможно, именно так. Пожалуйста, не думай, что я чувствую себя обделенной, это не правда. А вы с Петером только много выиграете от общения друг с другом.
Мой ответ:
Милая Марго,
Ты написала очень хорошее письмо, но оно не успокоило меня до конца. Между мной и Петером еще совсем нет того доверия, о котором ты пишешь. Но у темного открытого окна можно сказать друг другу больше, чем при ясном солнечном свете. И о чувствах легче говорить шепотом, чем разглашать их на весь мир. Я думаю, что ты привязана к Петеру, как сестра, и не меньше меня хотела бы помочь ему. Может, ты ему и действительно поможешь, хоть и нет между вами настоящей дружбы. Я считаю, что откровенность должна исходить с обеих сторон и думаю, что в этом причина того, что мы с папой так разошлись.
Давай не будем больше говорить об этом, а если ты еще что-то хочешь сказать, то лучше напиши — мне так объясняться гораздо легче. Ты не знаешь, как я восхищаюсь тобой и надеюсь хоть что-то перенять от папиной и твоей доброты — вы с ним в этом так похожи.
Анна.
Среда, 22 марта 1944 г.
Милая Китти,
Вот какой ответ я получила от Марго:
Дорогая Анна,
После твоего вчерашнего письма я все еще подозреваю, что ты во время своего общения или занятий с Петером испытываешь угрызения совести. Для этого нет никакой причины. Конечно, где-то есть человек, который заслуживает мое доверие, но это в любом случае не Петер.
Возможно, ты права в том, что Петер для меня что-то вроде брата, но… младшего брата. Наши чувства, подобно щупальцам, тянутся друг друга вслепую, чтобы, возможно, соприкоснуться когда-то, как брат и сестра. Но если это и произойдет, то не скоро. Так что, не надо жалеть меня. Лучше радуйся своей новой дружбе.
Между мной и Петером сейчас как нельзя лучше. И кто знает, Китти, может, здесь, в Убежище возникнет большая, настоящая любовь. Значит, не так нелепы были шутки о том, что нам с Петером придется пожениться, если мы останемся здесь надолго. Но о замужестве с ним я совсем не думаю. Я не знаю, каким он станет, когда повзрослеет, и достаточно ли мы тогда будем любить друг друга.
То, что и Петер меня любит, я уже убеждена, какого бы вида не была эта любовь. Может, он просто нашел во мне хорошего товарища, или я привлекаю его, как девочка, или он ищет во мне сестру — не знаю. Когда он сказал, что я помогаю ему переносить стычки его родителей, я была ужасно рада, и поверила в нашу дружбу. А вчера спросила его: а что, если бы здесь была целая дюжина Анн, и все приходили к нему. Он ответил: «Если бы они все были, как ты, то это ничего». Он всегда очень мил со мной, и думаю, он, в самом деле, радуется нашим встречам. Французским он, между прочим, занялся усердно и учит его даже в постели до четверти одиннадцатого.
О, когда я вспоминаю тот субботний вечер, наши слова и голоса, то впервые довольна собой. Я уверена, что и сейчас сказала бы то же, что тогда, а такое чувство у меня бывает редко. Он такой красивый, когда смеется, и еще, когда задумывается. Он вообще очень хороший, добрый и красивый.
По-моему, его ошеломило то, что я оказалась не эдакой легкомысленной Анной, а таким же мечтательным существом, как он сам, и с не меньшим числом проблем!
Вчера после мытья посуды я ждала, что он позовет меня наверх. Но он ничего не сказал. Я ушла к себе, а он спустился вниз, чтобы позвать Дюсселя слушать радио, потом возился в ванной и, так и не дождавшись Дюсселя, ушел наверх. Я слышала, как он сначала все ходил по комнате, и довольно рано лег спать.
Я была очень неспокойной весь вечер, то и дело бежала в ванную, чтобы сполоснуть лицо холодной водой. То бралась за чтение, то проваливалась в мечты, смотрела на часы, ждала, ждала, ждала и прислушивалась, что делает он. Когда я услышала, что он лег, то почувствовала себя бесконечно усталой.
Сегодня вечером мне надо купаться, а что будет завтра? И еще так долго ждать!
Анна Франк.
Мой ответ Марго:
Милая Марго,
Сейчас самое лучшее для меня — это ждать. Думаю, что очень скоро между мной и Петером решится: будет ли все по старому или иначе. Я сама не знаю и не загадываю. Но в одном уверена: если мы заключим дружбу, я расскажу ему, что ты тоже очень его любишь и всегда готова ему помочь. Ты, конечно, против, но меня это не волнует. Что Петер думает о тебе, не знаю, но обязательно спрошу его об этом. Конечно, плохих мыслей у него не может быть, наоборот! Зайди спокойно на чердак, когда мы там вдвоем, ты точно не помешаешь, потому что у нас с ним молчаливый договор: откровенные разговоры только вечером, в темноте.
Будь сильной. Я тоже стараюсь, хотя это не всегда легко, твое время придет скорее, чем ты думаешь.
Твоя Анна.
Четверг, 23 марта 1944 г.
Дорогая Китти,
Практические проблемы более или менее разрешились. Наших поставщиков карточек освободили из тюрьмы — к счастью!
Мип со вчерашнего дня снова с нами, но ее супруг заболел: озноб, температура, в общем, типичные симптомы гриппа. Беп лучше, хотя еще кашляет, а Кляйману долго придется сидеть дома.
Вчера недалеко от нас сбили самолет. Летчики спаслись, выпрыгнув с парашютами, а сам самолет упал на школу, где в тот момент не было детей.
Последствия: небольшой пожар и несколько жертв. Немцы пытались еще стрелять в спускавшихся летчиков, наблюдавшие за этим амстердамцы были в ярости от такого низкого поступка. Мы, точнее наши дамы, перепугались до смерти. Я не выношу стрельбу.
Теперь о себе. Когда я вчера пришла к Петеру, то наш разговор каким-то образом перешел на тему секса. Я уже давно собиралась спросить его о некоторых вещах — он много знает. Он был очень удивлен, когда я сказала, что взрослые ни мне, ни Марго ничего не объяснили. Я много говорила о себе, Марго, маме и папе и призналась, что в последнее время не решаюсь задавать интимных вопросов. Петер предложил тогда просветить меня, за что я была благодарна. Он объяснил, как нужно предохраняться, после чего я решилась спросить: как мальчики замечают, что они стали взрослыми. Он сказал, что подумает об этом и расскажет мне вечером. Я передала ему историю Джекки и сказала, что девочки беспомощны перед сильными парнями. «Ну, меня-то ты можешь не бояться», — ответил он.
Вечером, когда я пришла, он объяснил мне — о мальчиках. Я себя чувствовала немного неловко, но все же хорошо, что мы поговорили об этом. Ни с одним другим мальчиком я не могла бы обсуждать такие интимные вопросы, так же, как и он — с другой девочкой. Он снова рассказал мне о предохранении.
А вечером мы с Марго болтали в ванной о Браме и Трейс.
Утром произошел неприятный эпизод. После завтрака Петер жестом позвал меня наверх. «Ты, однако, сыграла со мной злую шутку, — сказал он, — я слышал, как ты вчера секретничала с Марго. Почему бы не развлечь ее тем, что ты узнала от Петера!».
Я была потрясена и всеми силами попыталась убедить его, что он заблуждается. Его можно понять: откровенность далась ему, конечно, нелегко, а теперь он решил, что я ею так воспользовалась…
«О нет, Петер, — сказала я, — так низко я бы никогда не поступила. Я пообещала молчать об этом и сдержу обещание. Притворяться, разыгрывать доверие, а потом предавать — это совсем не смешно, а просто скверно. Я ничего не рассказала, веришь мне?».
Он убедил меня, что верит, но я должна еще раз поговорить с ним. Целый день только об этом и думаю. Хорошо хоть, что он сразу выложил, что у него на душе, представляю, каково было бы терзаться подозрениями и молчать. Милый Петер!
Теперь я должна и буду все ему рассказывать!
Анна.
Пятница, 24 марта 1944 г.
Дорогая Китти,
Часто по вечерам я поднимаюсь наверх, чтобы в комнатке Петера вдохнуть свежего вечернего воздуха. В темноте гораздо легче начинаешь серьезный разговор, чем когда солнце светит тебе в лицо. Уютно сидеть рядом с ним на стуле и смотреть в окно. Ван Дааны и Дюссель изощрятся в колкостях, когда видят, что я собираюсь на чердак. Например, «Аннина вторая родина», «Будь осторожна с мужчинами» или «Вечером в темноте принимать юную даму?». Петеру на удивление удается сохранять присутствие духа при подобных замечаниях.
Маму, кстати, тоже мучает любопытство, и она непременно спросила бы, о чем же мы с Петером беседуем, если бы не боялась, что я решительно откажусь отвечать. Петер уверяет, что взрослые просто нам завидуют, потому что мы молоды и игнорируем их мнение.
Иногда Петер приходит за мной вниз, но мне тогда всегда неловко: он, хоть и настроен твердо, но ужасно краснеет и путается в словах. Как я рада, что почти никогда не краснею: это, по-моему, приносит кучу неудобств.
Очень жаль, что Марго сидит внизу, в то время как я у Петера. Но поделать с этим ничего нельзя. Конечно, она может подняться к нам наверх, но непременно почувствует себя лишней — пятым колесом в телеге. Все только и говорят, что о нашей внезапной дружбе. Уж не знаю, сколько раз за столом обсуждались возможные свадьбы в Убежище на тот случай, если война продлится еще пять лет. Ну, а как мы относимся к этому пустословию?
Нас оно мало трогает, ведь все это чепуха. Неужели мои родители забыли свою собственную юность? Вероятно, да, поскольку они всегда серьезно воспринимают наши шутки, и смеются, когда мы серьезны.
Как будет дальше, не знаю, а пока мы не можем наговориться. Но если между нами все будет хорошо, то говорить не обязательно. Только бы верхние не мешали! Ко мне они и так относятся с предубеждением. Конечно, мы с Петером никогда не расскажем, о чем мы говорим. Представь себе, что они узнают, какие интимные темы мы затрагиваем.
Мне бы очень хотелось спросить Петера, знает ли он, как устроены девочки. По-моему, у мальчиков все гораздо проще. На фотографиях и скульптурах обнаженных мужчин можно все хорошо рассмотреть, а у женщин — нет. У них половые органы (так, кажется, они называются) располагаются между ног. Я думаю, что он еще никогда не видел девочку вблизи и я, честно говоря, тоже нет. В самом деле, мальчики устроены проще. Но как же разъяснить ему?
То, что он не имеет ясного представления об этом, я заключила из его слов.
Он говорил что-то о шейке матки, но ведь это находится внутри, а снаружи совсем не видно. Все-таки жизнь — штука странная. Когда я была маленькой, то ничего не знала о внутренних половых губах, ведь и они не заметны. И я думала, что моча выходит из клитора — вот смешно! А когда я у мамы спросила, для чего нужен клитор, она ответила, что не знает. Глупо, как всегда.
Но вернусь к сути дела. Как же объяснить ему, в конце концов, не имея наглядного примера? Что ж — была не была — попробую сейчас на бумаге!
Если девочка стоит, то спереди у нее что-то разглядеть невозможно. Между ног находятся своего рода подушечки: мягкие, покрыты волосами и плотно примыкающие друг к другу, поэтому они закрывают то, что за ними. Но если сесть то между ними образуется щель и можно увидеть, что внутри красно, склизко и довольно противно. Сверху между большими половыми губами находится как бы складочка, похожая на пузырек — это клитор. Потом следуют малые половые губы, которые тоже близко прилегают друг к другу, а за ними — снова участочек кожи, размером примерно с большой палец руки. В верхней части есть дырочка, из которой выходит моча.
Ниже только кожа, но, если ее слегка раздвинуть, то увидишь влагалище.
Оно почти не заметно, такая крошечная дырочка. Не могу представить, как в нее может войти мужчина, и как оттуда рождаются дети. Туда даже непросто засунуть указательный палец. Вот и весь рассказ, но все это очень важно.
Анна.
Суббота, 25 марта 1944 г.
Дорогая Китти,
Если ты меняешься, то замечаешь это, когда изменения уже произошли. Я изменилась совершенно, во всем: в моих воззрениях, взглядах на жизнь, внешности, мыслях… И могу уверено сказать: в лучшую сторону. Я тебе уже рассказывала, как труден был для меня переход от беззаботной жизни, в которой все мной восхищались, в безжалостную действительность с взрослыми и их упреками. Мама и папа во многом виноваты. Дома они меня баловали, и это было, конечно, очень приятно. А здесь они не пытались понять меня, и в ссорах никогда не вставали на мою сторону. Прошло значительное время, пока мне не стало ясно, что и им здесь непросто ладить с другими. Сейчас я поняла, сколько мы все — и старые, и молодые — совершили промахов. Самая большая ошибка папы и мамы по отношению к ван Даанам в том, что они никогда не говорили с ними открыто, по-дружески, пусть и настоящими друзьями их не назовешь. Мне бы очень хотелось жить здесь в мире, без ссор и сплетен. С папой и Марго это нетрудно, а с мамой другое дело, поэтому хорошо, что она меня нередко ставит на место. Можно заручиться расположением господина ван Даана, если внимательно слушать его, не возражать и главное… на все его шутки и подвохи отвечать новой шуткой. С госпожой ван Даан вполне можно сладить, если быть с ней откровенной и признавать свои ошибки. Ведь она прямодушно раскаивается в собственных и весьма многочисленных погрешностях.
Я точно знаю, что уже давно она не так плохо думает обо мне, как в начале. И это благодаря моей правдивости и отсутствию привычки льстить другим. Будучи честной, можно многого достичь, сохранив при этом достоинство.
Вчера госпожа ван Даан завела со мной разговор о рисе, который мы выделили господину Кляйману: «Мы даем, даем и еще раз даем. В конце концов, я решила: довольно. Господин Кляйман всегда может, если постарается, достать себе рис. Почему мы должны отдавать все из наших запасов? Ведь нам это необходимо самим».
«Нет, госпожа, — ответила я, — вы не правы. Господин Кляйман, наверно, и может достать рис, но у него до этого не доходят руки. Мы не вправе судить наших помощников и должны всегда давать им то, в чем они нуждаются, и без чего мы сами в данный момент можем обойтись. Мисочка риса в неделю для нас ничто, нам ее вполне заменят бобы».
Госпожа ван Даан со мной не согласилась, но признала, что можно судить так, как я.
Впрочем, достаточно об этом. Я не всегда уверена в себе и часто сомневаюсь, но все еще придет! О да! Особенно сейчас, когда мне так помогает
Петер!
Не знаю, как сильно он меня любит, и дойдет ли между нами когда-то до поцелуя, Но ни в коем случае не хочу его торопить. С папой я говорила о том, что в последнее время часто бываю у Петера, и спросила, как он к этому относится. Конечно, он ответил, что хорошо!
Петеру я с легкостью рассказываю то, в чем раньше никогда бы не призналась. Например, что у в будущем хочу писать. И хоть не собираюсь стать писательницей, но всегда буду этим заниматься наряду с моей основной работой.
Я не богата деньгами или другими ценностями, не красива, не умна и не талантлива, но я буду счастливой! У меня хороший характер, я люблю людей, доверяю им и хочу, чтобы они тоже были счастливы!
Твоя верная Анна Франк.
День опять прошел впустую,
Превратившись в тьму ночную.
(Так было несколько неделю назад, но сейчас все иначе. Поскольку я очень редко сочиняю стихи, то решила эти записать).
Анна.
Понедельник, 27 марта 1944 г.
Дорогая Китти,
Вообще, значительная часть описания нашей жизни в Убежище должна быть посвящена политике. Поскольку эта тема меня не так уж интересует, я все откладывала ее в сторону. Но сегодня мое письмо будет об этом.
То, что по вопросам политики существует много суждений естественно, так же как и то, что в трудные военные времена об этом говорят больше, чем обычно. Но глупо, что разговоры о политике часто приводят к ссорам! Пусть заключают пари, смеются, спорят, рассказывают анекдоты, но только не ругаются, ведь ссоры обычно заканчиваются плохо.
Люди с воли часто приносят ложные вести, но радио нас еще никогда не обманывало. Настроение Яна, Мип, Кляймана, Беп и Куглера непрерывно меняется то в одну, то в другую сторону — в зависимости от политических прогнозов. У Яна, пожалуй, меньше, чем у других.
Здесь, в Убежище, политическая атмосфера всегда дна и та же. Во время наших многочисленных дебатов о наступлении, военных бомбардировок, выступлениях министров слышишь самые разнообразные высказывания!
«Невероятно!» «Боже правый, если они только сейчас начинают, на что же они рассчитывают?» «Дела идут замечательно, лучше нельзя!»
Оптимисты и пессимисты и, прежде всего, реалисты, не устают высказывать свои суждения и, как водится, каждый убежден в собственной правоте. Вот, например, одна дама выражает сомнение в безграничном доверии принца Бернарда [9] к англичанам, а некий господин нападает на эту даму за ее насмешливое и скептическое отношение к его любимой нации!
И так с утра до вечера, и что удивительно — никому не надоедает. Я нашла одно безотказное средство, которое никогда не подведет. Представь, что тебя уколют булавкой — обязательно подскочишь. И с моим средством точно так же. Начни разговор о политике — всего один вопрос, слово или предложение — и вся семья включается, как один!
Как будто не достаточно было сообщений немецкого командования и английского Би-би-си, так недавно настроили еще канал «Воздушная волна».
Великолепно, конечно, хоть новости часто удручающие. Англичане врут, подобно немцам, утверждая, что совершают воздушные налеты круглосуточно.
Итак, радио включается в восемь утра, если не раньше, и потом каждый час до девяти, а то и десяти-одиннадцати вечера. Это подтверждает то, что наши взрослые — весьма терпеливые тугодумы (касается лишь некоторых, и я никого не хочу обидеть). По-моему, одной или двух сводок в день вполне хватило бы. Но старые гуси… впрочем, о них я уже высказалась. Слушают все передачи подряд, а если не сидят перед радио, не едят и не спят, то говорят о еде, сне и политике. Как бы от такой рутины самой преждевременно не состариться!
А вот и идеальный пример: речь нашего любимого Уинстона Черчилля.
Воскресенье, девять вечера. Чайник под колпаком стоит на столе, входят гости. Дюссель усаживается слева от радио, господин ван Даан перед ним, Петер рядом. Мама с другой стороны от ван Даана, за ней его супруга. Мы с Марго сзади, Пим за столом. Кажется, я не очень ясно описала, в какой последовательности мы сидим, но это не так уж важно. Мужчины курят, у Петера от напряжения слипаются глаза. Мама, одета в длинную ночную рубашку, она и госпожа вздрагивают от гула самолетов, которые все же летят по направлению к Эссену, что бы там не говорил Черчилль. Папа потягивает чай, мы с Марго тесно прижались друг к другу, потому что на наших коленях спит Муши. У Марго в волосах бигуди, моя пижама слишком короткая. Мирно, спокойно уютно, но я с волнением ожидаю окончания выступления. А они, кажется, не могут дождаться конца и дрожат от нетерпения в предвкушении диспута. Словно мышка, выглядывающая из норки, дразня кошку, они провоцируют друг друга и готовы спорить до бесконечности.
Анна.
Вторник, 28 марта 1944 г.
Дорогая Китти,
Я могла бы еще много рассказать на тему политики, но сегодня у меня много других новостей. Во-первых, мама запретила мне ходить наверх, потому что считает, что госпожа ван Даан ревнует. Во-вторых, Петер предложил Марго приходить наверх вместе со мной — не знаю, из вежливости или он хочет этого в самом деле.
И что же теперь? Из-за мамы я вынуждена сидеть здесь, в обществе Дюсселя. Уж не ревнует ли она сама? А папа поддерживает дружбу с Петером и радуется нашему взаимопониманию. По-моему, Марго тоже любит Петера, но не считает возможным обсуждать это втроем, ведь о таком предмете можно говорить лишь с глазу на глаз.
Мама предполагает, что Петер влюблен в меня, и честно говоря, мне бы хотелось, чтобы это была правда. Тогда мы окажемся на равных позициях, и нам будет легче друг с другом. Мама говорит, что Петер слишком часто на меня смотрит. Это верно: мы постоянно обмениваемся взглядами, и я замечаю, что он любуется моими ямочками на щеках. Но что могу с этим поделать?
Я в очень трудном положении. С мамой мы в конфликте. Папа закрывает глаза на наше несогласие. Мама очень переживает из-за того, что любит меня, а я ее — нет и не верю в ее понимание и поддержку.
А Петер… Нет, Петера я не оставлю, он так мил, и я восхищаюсь им.
Между нами может возникнуть что-то особенное. Почему же старики суют нос в наши дела? К счастью, я привыкла скрывать свои чувства, и поэтому никто не замечает, как он мне нравится. Скажет ли он, наконец, что-нибудь? Почувствую ли я прикосновение его щеки, как это было во сне о Петеле? О, Петер и Петель — вы слились для меня воедино. Взрослые нас не понимают, им неведомо, что мы счастливы, когда сидим рядом и молчим. Они не понимают, почему нас так тянет друг к другу! О, когда же мы преодолеем трудности? И все же хорошо, что сейчас нам трудно, тем чудеснее будет развязка. Когда он кладет голову на руки и закрывает глаза, то кажется совсем ребенком. Он такой ласковый, когда играет с Муши или говорит о нем. Он сильный, когда поднимает мешок с картошкой или другие тяжести. Он мужественный, когда наблюдает за обстрелом или пытается в темноте обнаружить вора. А его беспомощность и неловкость меня только трогают. Я люблю, когда он мне что-то объясняет, и сама всегда рада ему помочь.
Да, что нам наши мамаши! Только бы он сам не избегал меня.
Папа утверждает, что я кокетка, но это не так — я тщеславна, не более.
Мне редко приходилось слышать комплименты о моей внешности, кроме как от Ц.Н. — тот говорил, что я очень мило смеюсь. А вот вчера Петер сделал мне комплимент, так что приведу весь наш разговор.
Петер часто просит меня: «Засмейся!». Вчера я спросила его, почему он этого хочет.
— Потому что тебе это очень идет. У тебя появляются ямочки на щеках, интересно, откуда они берутся?
— Это у меня с рождения. Единственная моя красота!
— Нет, это совсем не так!
— Почему же? Я знаю, что красавицей меня не назовешь, я никогда ею не была и не стану.
— Не согласен. По-моему, ты очень симпатичная.
— Неправда.
— Если я тебе говорю, то можешь мне верить!
После этого я, конечно, сказала, что и он очень славно выглядит.
Анна.
Среда, 29 марта 1944 г.
Дорогая Китти,
Вчера в своем выступлении по голландскому радио министр Болкенштейн сказал, что военные воспоминания, дневники и письма приобретут позже большую ценность. После этого все, конечно, заговорили о моем дневнике. Ведь как интересно будет опубликовать роман о жизни в Убежище. Уже по одному названию люди подумают, что это увлекательный детектив.
А если серьезно: что, если лет через десять после войны рассказать, как мы, евреи, здесь жили, ели, разговаривали? Хотя я тебе и много рассказываю, это лишь небольшая часть нашей жизни. Например, ты не знаешь, что наши дамы ужасно боятся бомбежек, и что в воскресенье 350 английских самолетов сбросили пол миллиона килограмм взрывчатки на Аймюден, дома тогда дрожали, как трава на ветру. И что всюду свирепствует эпидемия. Чтобы рассказать все, пришлось бы писать целый день напролет. Люди стоят в очередях за овощами и другими товарами, врачи не могут навещать больных, потому что их машину тут же украдут. Взломов и грабежей так много, что невольно спрашиваешь себя — что же случилось с голландцами. Дети от восьми до одиннадцати лет разбивают окна в домах и тащат все, что попадается под руку. Никто не решается уйти из квартиры даже на пять минут, потому что за это время можно лишиться всего.
Ежедневно в газете публикуются объявления с просьбой вернуть за вознаграждение украденные пишущие машинки, персидские ковры, электрические часы, ткани. Городские куранты разбирают на части, то же — с телефонами-автоматами в будках.
Но откуда взяться хорошему настроению в народе, если все голодают, недельного пайка едва хватает на два дня, и только в кофейном суррогате нет недостатка. Высадка союзников все откладывается. А между тем мужчин угоняют в Германию, дети недоедают и болеют, одежда и обувь у всех износилась. Новая подметка стоит на черном рынке семь с половиной гульденов, а сапожники или вообще отказываются принимать обувь, или обещают починить ее только четыре месяца, и за это время туфли часто пропадают.
Одно хорошо: голод и дискриминация усиливают сопротивление против оккупантов. Служба по распределению продовольствия, полиция, чиновники разделились на две группы. Одни делают все возможное, чтобы помочь соотечественникам, другие выдают своих сограждан, из-за чего те попадают в тюрьмы. К счастью, таких среди голландцев совсем не много.
Анна.
Пятница, 31 марта 1944 г.
Дорогая Китти,
Подумай только: сейчас еще довольно холодно, а многие уже с месяц сидят без угля. Вот весело! Но настроение оптимистичное: дела на русском фронте развиваются блестяще! Не буду подробно писать о политике, но вот главные новости: русские стоят на границе Польши и Румынии — на Пруте, это близко от Одессы. Каждый день они ждут чрезвычайного сообщения Сталина.
В Москве ежедневно салют. Хотят ли они этим напомнить, что война еще продолжается или просто выражают радость — не знаю.
Немцы оккупировали Венгрию. Там живет миллион евреев, боюсь, что им плохо придется.
У нас ничего особенного. Сегодня у господина Дюсселя день рождения, он получил в подарок две пачки табака, кофе на одну чашку (посылка от жены), лимонный пунш от Куглера, сардины от Мип, одеколон от нас, сирень и тюльпаны. Да, и чуть не забыла — малиновый торт, немного клейкий из-за плохой муки и недостатка масла, но все же вкусный. Разговоры о нас с Петером немного приутихли. Сегодня вечером он за мной зайдет: это ему по-прежнему дается трудно, а поэтому и мне. Так приятно, что с ним я могу свободно говорить на любые щекотливые темы, что немыслимо с другими мальчиками.
Например, разговор у нас зашел о крови и в частности, о менструации. Петер находит, что женщины выносливы, потому что ежемесячно теряют кровь. И меня он считает сильной. Ха-ха, почему бы это?
Моя жизнь сейчас гораздо лучше. Бог не оставляет меня и не оставит никогда.
Анна Франк.
Суббота, 1 апреля 1944 г.
Милая Китти,
Мне все-таки трудно, и ты, конечно, понимаешь, о чем я. Я так мечтаю о поцелуе, и кажется, напрасно. Наверно, он видит во мне лишь товарища, не больше.
Я знаю, и ты знаешь тоже, что у меня твердый характер. Я привыкла одна и сама преодолевать трудности. Мама никогда не была мне поддержкой. Но сейчас мне так хочется прижаться к его плечу и замереть. Не могу забыть свой сон о щеке Петера, ах, как все было чудесно тогда! Неужели ему достаточно того, что между нами сейчас? Или он просто не решается признаться в любви?
Но почему он так часто зовет меня к себе? И почему молчит?
Я должна не думать об этом, а успокоиться, терпеливо ждать, и все тогда придет… Но я так не могу, и это ужасно. Получается, что я за ним бегаю, не он приходит ко мне, а я — к нему. С другой стороны, виновато еще и расположение комнат. Он должен это понять!
Анна Франк.
Пятница, 31 марта 1944 г.
Милая Китти,
Хотя это не в моих привычках, напишу тебе о еде, потому что с ней большие трудности — не только в Убежище, но и везде в Голландии и даже по всей Европе. За 21 месяц пребывания здесь мы пережили несколько продуктовых периодов, а что это означает, ты сейчас услышишь. Период — это промежуток времени, когда у нас едят главным образом одно и то же блюдо или один и тот же вид овощей. Так, одно время мы изо дня в день питались исключительно эндавием [10] — с песком и без, отдельно или размятого с картошкой. Затем наступила очередь кольраби, огурцов, помидоров, шпината, квашеной капусты и так далее. Не очень приятно два раза в день — днем и вечером — есть кислую капусту, но не голодать же. А теперь у нас воистину замечательный период — вообще нет свежих овощей. Наш обед по будним дням состоит из коричневой фасоли, горохового супа, картошки с мучными шариками, а если повезет, то нам перепадает немного салата или полугнилой морковки. А иначе — дополнительная порция фасоли. Картошка — обязательный компонент каждой трапезы. Ее, слегка обжаренную, мы едим даже на завтрак — из-за недостатка хлеба. Суп варится из фасоли, картофеля и бульонных концентратов. Вечером снова картошка, слегка политая капелькой соуса и к ней салат из свеклы, запас которой, к счастью, еще не иссяк. Мучные шарики мы лепим из «правительственной» муки с добавлением воды и дрожжей. Они клейкие, твердые и камнем ложатся в желудке.
Вот такие дела!
Наше лучшее угощение — кружочек ливерной колбасы или кусочек хлеба с джемом. Но мы живы, и это главное!
Анна Франк.
Среда, 5 апреля 1944 г.
Милая Китти,
Я не знаю, имеет ли смысл проходить здесь школьную программу. Конец войны представляется далеким, невозможным, сказочным и слишком прекрасным. Если война к сентябрю не закончится, то в школу я уже не вернусь: не хочу отставать от других на два года. Дни заполнены только Петером, мыслями, мечтами. Я так устала от этого, что в субботу вечером почувствовала себя совсем опустошенной. Разговаривая с Петером, я едва сдерживала слезы, а позже хохотала с ван Даанами за стаканом лимонного пунша, возбудилась и развеселилась, но оказавшись одна, поняла, что мне необходимо выплакаться.
Как была, в ванной, в ночной рубашке, я сначала долго и истово молилась, а потом ревела, вся сжавшись на каменном полу, опустив голову на руки. Все еще всхлипывая, я вернулась в спальню, стараясь сдерживаться, чтобы никто меня не услышал. Я пыталась сама приободрить себя и все повторяла: «Я должна, должна, должна…». Окоченевшая от непривычной позы, я упала на край кровати и долго боролась с собой, пока около половины одиннадцатого не легла спать.
И все прошло!
Действительно, прошло. Я должна много работать, чтобы не остаться глупой, чтобы чего-то достигнуть и стать журналисткой. Именно этого я хочу!
Я знаю, что могу писать. У меня есть несколько удачных рассказов и смешных описаний жизни в Убежище, интересных отрывков из дневника. Но талантлива ли я в самом деле, это еще надо доказать.
«Сон Евы» — моя лучшая сказка и удивительно то, что я сама не знаю, как она пришла мне в голову. В Жизни Кади есть удачные места, но в целом это ничто. Я сама — свой самый строгий и лучший судья, знаю, что написано хорошо, а что плохо. Только сам испытавший это, понимает, что писать — так чудесно. Я раньше жалела, что плохо рисую, а сейчас безумно счастлива, что, по крайней мере, писать мне удается. Если окажется, что я недостаточно талантлива, чтобы сочинять книги или работать в газете, то я всегда смогу писать просто для себя. Но я хочу достигнуть большего, я и представить себе не могу, что проживу жизнь, как мама, госпожа ван Даан или другие женщины, которые не работают или работают только ради денег. Мне недостаточно иметь мужа и детей, я не хочу подобно большинству влачить бесполезное существование. Я должна сделать что-то полезное и приятное для людей, которые меня окружают и ничего не знают обо мне… Я хочу что-то оставить и после моей смерти. Поэтому я так благодарна Богу, что он уже при моем рождении дал мне способность мыслить и писать — выражать все, чем я живу!
Когда я пишу, я счастлива: грустные мысли исчезают, и я снова полна сил! Но я по-прежнему не уверена, смогу ли в будущем написать что-то значительное, стану ли писательницей или журналисткой? Я надеюсь на это, очень надеюсь, потому что для меня необыкновенно важно выражать свои мысли, идеалы и фантазии. Над Жизнью Кади надо еще много трудиться, в мыслях у меня уже все готово, но сама работа не очень спорится. Может, так и не удастся закончить, и все полетит в корзину для бумаг или камин. С другой стороны, я думаю: в четырнадцать лет и таким малым опытом еще невозможно писать философские сочинения.
Так что вперед с новыми надеждами! Все у меня получится, я знаю, что смогу!
Анна Франк.
Четверг, 6 апреля 1944 г.
Милая Китти,
Ты просила меня рассказать о моих увлечениях и интересах. Так что слушай, только не пугайся, потому что их очень много. Самое важное для меня — писать, но это не назовешь просто увлечением. На втором месте родословные королевских семей: французской, немецкой, испанской, английской, австрийской, русской, норвежской и голландской. О них я собираю материалы из газет, книг и других всевозможных источников. Я значительно продвинулась в этом занятии, потому что уже давно делаю выписки из биографических и исторических книг. Иногда я переписываю целые исторические очерки.
Мое третье увлечение — это как раз история. От папы я регулярно получаю исторические книги. Не могу дождаться, пока сама не смогу покопаться в библиотеке! Номер четыре — греческая и римская мифология. На эту тему я тоже прочитала много книг. С ходу могу назвать девять муз и семь возлюбленных Зевса, жен Геракла и так далее. Еще меня занимают звезды кино и семейные фотографии. А также история искусств, прежде всего, писатели, поэты и художники. Музыкантами интересуюсь меньше, но думаю, что со временем и это придет. Не очень обожаю арифметику, алгебру и геометрию. Все остальные школьные предметы учу с большим удовольствием, и прежде всего — историю!
Анна Франк.
Вторник, 11 апреля 1944 г.
Милая Китти,
Голова идет кругом. Не знаю, с чего начать. Четверг (последний день, когда я писала в дневнике) прошел обычно. В пятницу (это была страстная пятница) и субботу мы после обеда играли в аукцион. Эти дни пролетели незаметно. В два часа, в субботу началась сильная перестрелка, но быстро затихла.
В полпятого я попросила Петера прийти ко мне, а в четверть шестого мы поднялись на чердак, где оставались до шести. С шести до четверти восьмого по радио передавали прекрасный концерт из произведений Моцарта. Чудесно, особенно, маленькая ночная серенада. Я просто не могу усидеть на месте, когда звучит такая музыка: все во мне приходит в движение! В воскресенье вечером Петер не смог искупаться, потому что корыто с замоченным бельем стояло на кухне. Поэтому мы в восемь вернулись на чердак и, чтобы удобнее было сидеть, я захватила снизу диванную подушку. Мы уселись на ящике, который оказался слишком маленьким для нас двоих, как и подушка. Мы оба опирались на другие ящики и сидели очень близко друг к другу. Но не одни — с нами был Муши!
Вдруг без четверти девять к нам влетел ван Даан и спросил, не захватили ли мы подушку Дюсселя. Мы, включая кота, вскочили и побежали вниз. А там страшная суматоха. Дюссель был вне себя, потому что я захватила его ночную подушку, и теперь он боялся, что в ней завелись блохи. Надо же так взвинтиться из-за пустяка! В качестве мести мы с Петером засунули ему в кровать две жесткие платяные щетки, которые он, правда, обнаружил перед тем, как лечь. Насмеялись мы вдоволь.
Но веселье длилось недолго. В полдесятого Петер постучал и попросил папу помочь ему перевести трудное английское предложение. «Что-то здесь не то, — сказала я Марго, — голоса наших мужчин звучат так, как будто произошел взлом». Мое предположение оказалось верным. Папа, ван Даан и Петер поспешно спустились вниз. А я с мамой, Марго и госпожой томились в ожидании.
Четыре испуганные женщины должны непременно говорить друг с другом, что мы и делали, пока не услышали внизу какой-то удар, потом все затихло, и вскоре часы пробили без четверти десять. Мы все тряслись и побелели от страха, хотя и старались сохранять спокойствие. Где наши мужчины? Что за удар? Неужели они сражаются с ворами? Мы уже ни о чем не могли думать и только ждали. В десять раздались шаги по лестнице. Вошел бледный и взволнованный папа, за ним ван Даан. «Выключайте свет, а потом быстро и тихо поднимайтесь наверх. Не исключено, что явится полиция!».
Поддаваться страху было некогда, я еще успела захватить кофточку, и вот мы наверху.
«Расскажите же, что случилось!»
Но говорить было некому, мужчины снова спустились вниз. Только в четверть одиннадцатого они, все четверо, пришли к нам. Двое стояли на страже у открытого окна. Дверь на нашу половину и окна были закрыты. Ночник мы прикрыли свитером, и только тогда они начали рассказывать.
Петер услышал два громких удара снизу, и спустившись, увидел, что с левой стороны складской двери недостает одной доски. Он помчался наверх, предупредил боеспособную часть нашего семейства, и они, уже вчетвером, снова пошли вниз. Когда они вошли на склад, воры как раз усердно занимались грабежом. «Полиция!» — не подумав, закричал ван Даан. Послышались быстрые шаги: грабители пустились в бегство. Чтобы ночной патруль не заметил следов, папа установил дверную доску на место, но из-за сильного удара снаружи она снова упала. Мужчины такой неслыханной наглости — ван Даан и Петер готовы были убить мерзавцев. Ван Даан ударил несколько раз топором по полу, и снова все затихло. Планку установили, но она упала опять. Оказалось, что за дверью стояли мужчина и женщина, их карманный фонарь освещал складское помещение.
«Черт возьми», — пробормотал кто-то из наших господ, и… из полицейских они превратились в воров. Все четверо поспешили скрыться. Петер швырнул на пол телефон, отворил окна кухни и кабинета и, захватив книги Дюсселя, все четверо скрылись за нашей потайной дверью.
(Конец первой части).
Пара с фонариком могла предупредить полицию. Был воскресный вечер первого дня Пасхи, понедельник — второй пасхальный день, так что до вторника никто из сотрудников в контору не собирался, и нам предстояло все это время сидеть затаившись. Подумать только — две ночи и день, в беспрерывном страхе! Так мы сидели в полной тьме, поскольку госпожа ван Даан в придачу ко всему случайно отключила свет. Мы переговаривались шепотом, и при каждом подозрительном шорохе шипели: «ШШШ — шшш…».
Пол одиннадцатого, одиннадцать — все тихо. И вдруг в четверть двенадцатого снизу шум. Шаги в доме: в кабинете, кухне и потом,… на нашей лестнице. Все затаили дыхание, восемь сердец бешено колотились. Шаги, возня около нашего вращающегося шкафа-двери. Этот момент не поддается описанию.
«Теперь мы пропали», — сказала я, и буквально увидела, как нас и наших покровителей увозит Гестапо. Удары по двери, что-то упало, шаги удаляются: мы спасены! Все еще дрожали, с разных сторон слышался лязг зубов. Мы просидели до пол двенадцатого, не проронив ни слова.
В доме было тихо, но на лестничной площадке перед нашим шкафом горел свет. Не потому ли, что шкаф вызвал какие-то подозрения? Или полиция просто забыла выключить свет? А может, она еще раз придет с визитом? Мы нарушили молчание — в доме явно не было посторонних, разве что охранник у входной двери. Мы все еще тряслись от пережитого, строили различные предположения, и всем понадобилось в туалет. Ведра хранились наверху, можно было использовать лишь металлическую корзину для бумаг. Начало положил ван Даан, потом папа, а мама слишком стеснялась… Папа занес корзину в комнату, где Марго, госпожа ван Даан и я без промедления ею воспользовались. Мама тоже наконец решилась.
Все просили бумагу, к счастью, у меня в карманах был небольшой запас. Корзина воняла, все смертельно устали, минуло двенадцать часов.
«Так давайте спать на полу!». Мы с Марго получили по подушке и одеялу. Марго лежала рядом со шкафом, я — между ножками стола. На полу воняло не так сильно, но госпожа ван Даан все же тихонечко принесла хлорки и накрыла горшок еще одной тряпкой. Страх, шепот, вонь, кому-то опять надо в туалет — попробуй засни! Я была совершенно без сил и с пол третьего до пол четвертого провалилась в сон. Проснулась оттого, что голова госпожи ван Даан лежала на моих ногах. «Дайте мне, пожалуйста, что-то теплое!» — попросила я. Мне дали, но не спрашивай, что. Шерстяные брюки, которые я натянула на пижаму, красный свитер, черную юбку, белые носки и еще гольфы. Госпожа снова заняла место в кресле, а ее супруг улегся на моих ногах. С половины четвертого я все думала и дрожала так, что мешала ван Даану заснуть. Я внутренне готовила себя к тому, что придет полиция, и тогда придется признаться, что мы скрываемся. А кто придет — добропорядочные голландцы или фашисты, и удастся ли подкупить последних?
«Спрячь же радио!» — прошипела мадам.
«Куда же — в плиту? — ответил ее муж — если они обнаружат нас, то радио уже значения не имеет».
«Тогда они найдут и Аннин дневник», — вмешался папа.
«Сожги его», — предложила самая трусливая среди нас.
Этот момент и еще, когда полиция стучала в нашу дверь, были самыми страшными для меня. Мой дневник?! Только вместе со мной! К счастью, папа не ответил.
Нет ни малейшего смысла передавать содержание разговоров: они продолжались бесконечно. Я пыталась утешить смертельно перепуганную госпожу ван Даан. Говорили о бегстве, допросах в гестапо, о том, что надо быть стойкими.
«Мы должны вести себя, как солдаты, госпожа. Ели суждено погибнуть, мы отдадим свои жизни за родину, королеву, свободу, правду и справедливость. Ведь к этому нас призывает голландское радио! Только ужасно, что из-за нас пострадают другие люди!».
Час спустя господин ван Даан поменялся с женой местами, и рядом со мной устроился папа. Мужчины беспрерывно курили, слышались вздохи, кому-то нужно было в туалет, и так продолжалось бесконечно.
Четыре часа, пять, пол шестого. Я пошла к Петеру: мы оба сидели молча и прислушивались, так тесно прижавшись друг к другу, что чувствовали малейшую дрожь наших тел. Иногда мы перебрасывались словами, но больше вслушивались. Между тем, взрослые раздвинули шторы и записали, что надо сообщить Кляйману по телефону: В семь часов было решено ему позвонить. Мы рисковали тем, что разговор услышит охранник, возможно, стоящий у входной двери. Но вероятность возвращения полиции была еще больше. Вот, что мы собирались сказать Кляйману.
«Взлом, приходила полиция, дошла до вращающегося шкафа, но не дальше. Воров, вероятно, вспугнули, и они бежали через сад. Главный вход заперт. Очевидно, Куглер ушел через другую дверь. Пишущая и вычислительная машинки на своем месте — в черном шкафу кабинета. Вещи Мип или Беп, оставленные на кухне, тоже не тронуты. Ключ от второй двери у Мип или Беп, замок, возможно, сломан. Необходимо предупредить Яна, чтобы тот взял ключ, осмотрел контору и накормил кота…»
К счастью, нам сразу удалось дозвониться Кляйману. После этого мы уселись у стола в ожидании Яна или полиции.
Петер уснул. Ван Даан и я лежали на полу, когда внизу раздались тяжелые шаги. Я тихо встала. «Это Ян». «Нет, это полиция», — заговорили все. Шум нашей двери, и влетает Мип. Госпожа ван Даан в тот момент потеряла самообладание и смертельно бледная упала в кресло, она бы наверняка потеряла сознание, продлись напряжение еще минуту. Перед взором Мип и Яна предстала живописная картина, один лишь стол стоило сфотографировать. На нем лежал журнал «Кино и театр», открытый на страничке с изображением танцовщиц, залитый джемом и микстурой против расстройства желудка. Стояли две банки варенья, лежали вперемежку остатки бутербродов, таблетки, зеркало, расческа, спички, пепел, сигареты, табак, пепельница, книги, чьи-то трусы, фонарик, туалетная бумага и много всего другого.
Яна и Мип встретили, разумеется, возгласами и слезами радости. Ян заколотил дырку в двери и поспешил с Мип в полицию, чтобы сообщить о взломе. Мип перед этим нашла под входом на склад записку ночного патруля Слегерса о том, что тот обнаружил дырку в двери, и уже предупредил полицию. Ян решил зайти и к нему.
У нас было полчаса в распоряжении, чтобы все привести в порядок.
Никогда не думала, что за это время можно так много сделать. Мы с Марго застелили постели, сходили в туалет, почистили зубы, вымыли руки и причесались. Потом я немного прибрала комнату и поднялась наверх. Стол уже убрали. Мы накрыли его, приготовили кофе, чай и вскипятили молоко. Папа с Петером вымыли баки (служившие нам ночными горшками) кипятком с хлоркой.
Самый большой из них был наполнен доверху и так тяжел, что его едва подняли. К тому же он протекал, и пришлось подставить под него ведро. В одиннадцать вернулся Ян, мы к тому моменту уже немного успокоились и уселись за стол.
Вот рассказ Яна. Слегерс спал, и Ян поговорил с его женой. Женщина рассказала, что ее муж во время обхода обнаружил следы взлома на нашей двери, позвал агента, и они вместе обошли весь дом. Слегерс — частный ночной патруль, объезжающий каждый вечер на велосипеде улицы вдоль канала, в сопровождении двух собак. Он собирался во вторник проинформировать Куглера.
Полиция еще не осмотрела место преступления, но там все записали и тоже намеривались зайти во вторник.
На обратном пути Ян заглянул к ван Хувену, нашему поставщику картошки и рассказал о взломе. «Знаю, знаю», — ответил он, как ни в чем не бывало — Вчера вечером я проходил с женой мимо вашей конторы и увидел дыру в двери.
Жена не хотела останавливаться, но я все же заглянул внутрь, светя фонарем. Очевидно, я спугнул грабителей, и они и смылись. Но я, на всякий случай, не стал звонить полиции — из-за вас. Я, конечно, ничего не знаю, но что-то подозреваю». Ян поблагодарил и ушел. Наверняка, ван Хувен догадывается о нас, ведь не случайно он всегда приносит картофель не к половине второго, а к половине первого. Славный человек!
После ухода Яна мы вымыли посуду, и потом все легли спать. Был час дня. Без четверти три я проснулась, Дюсселя в комнате не было. В ванной я наткнулась на заспанного Петера, и мы условились встретиться внизу. Я быстро привела себя в порядок и спустилась. «Не боишься пойти на чердак?» — спросил он. Я согласилась, взяла подушку, и мы поднялись наверх. Погода была замечательная, но скоро завыла сирена воздушной тревоги. Петер положил руку на мое плечо, а я свою — на его плечо, и так мы тихо сидели, пока Марго не позвала нас в четыре часа пить кофе. Мы ели бутерброды, пили лимонад и шутили — даже это стало возможным. Вечер прошел, как обычно. Перед тем, как идти спать, я поблагодарила Петера за то, что он самый смелый среди нас.
Мы еще ни разу не переживали такой опасности, как в ту ночь. Бог нам помог. Ведь подумать только: полиция перед нашим шкафом при ярком освещении, и нас не обнаружила! «Мы пропали», — прошептала я в тот момент, но произошло чудо. Если на наш дом упадет бомба, то погибнем только мы сами, а так пострадали бы невинные и преданные христиане, наши помощники.
«Мы спасены, оберегай нас и впредь», — все, что мы можем сказать. Эта история внесла перемены в нашу жизнь. Дюссель теперь сидит по вечерам в ванной, Петер с половины девятого до половины десятого обходит весь дом. Окно Петера запрещено открывать: оказалось, что кто-то напротив видел, что оно открыто. После пол десятого вечера нельзя спускать воду в туалете, чтобы этого случайно не услышал ночной патруль. Сегодня придет слесарь, чтобы установить новый замок на дверях склада. Споры в Убежище теперь не умолкают. Куглер упрекает нас в неосторожности и считает, что мы вообще не должны спускаться вниз. Ян того же мнения — ведь нас может услышать патруль или учуять его собаки.
Итак, жизнь ясно напомнила нам, что мы заклейменные евреи, прикованные к одному месту, лишенные всех прав, зато имеющие кучу обязанностей. Мы не должны поддаваться слабостям, напротив — всегда быть храбрыми и стойкими. Мы обязаны безропотно переносить все тяготы жизни, делать то, что в нашей власти и доверять Богу. Когда-нибудь эта ужасная война кончится, и мы станем обычными людьми, а не только евреями.
Кто наложил на нас это бремя? Кто сделал нас, евреев, особенным народом? Кто заставил нас страдать? Бог, но он же возвеличит нас. Если после стольких мук, евреи не исчезли, то из изгоев они должны стать героями. Кто знает, может, наша вера и есть истинная вера, направляющая людей на праведный путь, и за это мы страдаем. Мы никогда не станем только голландцами, только англичанами или представителями еще какого-то народа, мы всегда останемся еще и евреями — так надо, и мы сами этого хотим.
Будем сильными! Не отступим со своего пути, и выход найдется. Бог никогда не оставит нас. Уже сколько веков евреи страдают, и эти страдания закалили их. Слабые упадут, но сильные останутся и никогда не сдадутся!
В ту ночь я была уверена, что умру, я ждала прихода полиции и была готова ко всему, как солдат на поле боя. Я бы с радостью отдала жизнь за родину, но теперь, когда я спасена, мое первое желание после окончания войны: стать полноценной голландкой. Я люблю голландцев, страну и язык и хочу здесь работать. Я добьюсь своего — даже, если для этого придется написать письмо королеве!
Я уже не так зависима от родителей, хоть мне еще мало лет. У меня больше жизненной силы и более осознанное чувство справедливости, чем у мамы.
Я знаю, что я хочу. У меня есть цель, собственное мнение, вера и любовь, и я не изменю себе. Я знаю, что я женщина. Женщина сильная и мужественная!
Если Бог сохранит мне жизнь, я достигну большего, чем мама, моя жизнь не пройдет незамеченной, я буду работать для мира и для людей!
И больше всего мне необходимы стойкость и оптимизм!
Анна Франк.
Пятница, 14 апреля 1944 г.
Дорогая Китти,
Настроение в доме напряженное. Пим на грани срыва, госпожа ван Даан лежит простуженная в постели и ворчит, ее муж, лишенный сигарет, бледен как мел. Дюссель, вынужденный пожертвовать многими удобствами, брюзжит беспрерывно. Все сейчас неладно. Туалет протекает, кран сломался. Но благодаря нашим связям, их скоро починят.
Иногда я сентиментальная, ты это знаешь, но… для этого есть причины. Когда мы с Петером сидим среди хлама и пыли на жестком ящике, наши плечи и руки соприкасаются, он играет моими кудрями, когда за окнами поют птицы, мы видим зеленые деревья, солнце, голубое небо — тогда, о, мне хочется так многого!
А у нас только и видишь, что недовольные лица. Слышишь вздохи, ворчание, жалобы, кажется, что дела хуже некуда. На самом деле, ты сам хозяин своего настроения. А здесь, в Убежище никто не показывает хорошего примера, наоборот… И все повторяют: «Когда же это кончится?!»
…
Мне кажется, Кит, что сегодня я какая-то сама не своя, даже не знаю, почему. Все, что я пишу, противоречиво, беспорядочно, не связано между собой. Иногда я серьезно сомневаюсь, что в будущем кто-то заинтересуется моей болтовней. «Откровения юного гадкого утенка» — вот подходящее название этой чепухи. А уж господину Болкенштейну или господину Гербранди[11] мои дневники абсолютно не интересны.
Анна Франк.
Суббота, 15 апреля 1944 г.
Дорогая Китти,
За одним кошмаром незамедлительно последовал другой. Когда конец?! Мы можем с полным правом задать этот вопрос. Подумай только, что произошло: Петер забыл снять с двери засов. В результате Куглер с другими сотрудниками не могли попасть внутрь. Куглеру пришлось зайти к Кегу (соседу) и с его балкона сломать кухонное окно конторы. А наши окна были открыты, и Кег это увидел. Что ж он теперь подумает? И ван Марен? Куглер в ярости. Мы упрекали его, что он не позаботился о более надежной двери, а сами что устраиваем?
Петер в отчаянии. Когда мама за столом сказала, что больше всего жалеет его, он чуть не расплакался. Но виноваты мы все, ведь обычно господин ван Даан и остальные проверяют, снят ли засов. Может, мне удастся позже его утешить.
Ах, как бы я хотела помочь ему!
А вот другие происшествия в Убежище за последние недели.
В прошлое воскресенье Моффи было явно не по себе: он забился в угол и иногда жалобно мяукал. Без долгих раздумий Мип завернула его в платок, засунула в сумку и отнесла в больницу для кошек и собак. Доктор сказал, что что-то с желудком и прописал микстуру. Приняв ее несколько раз, Моффи совершенно выздоровел и несколько дней где-то пропадал, наверняка, у своей возлюбленной. Ну, а потом вернулся с распухшим носом и теперь пищит, если до него дотронуться. Наверно, хотел схватить то, что ему не полагалось, и получил заслуженный нагоняй. Муши на несколько дней почти потерял голос. Но когда мы решили и его показать доктору, вдруг выздоровел.
Чердачное окно теперь открыто по ночам. Мы с Петером часто по вечерам сидим наверху.
Кран и туалет починили.
Здоровье господина Кляймана, к счастью, поправляется. В ближайшее время он пройдет обследование. Очень надеемся, что операция желудка не понадобится.
В этот месяц мы получили восемь продовольственных карточек. К несчастью, первые четырнадцать дней вместо ячменя или геркулеса по ним выдавали сухие бобы. Наше новое лакомство — пикули. Но если не повезет, то в баночке оказываются всего несколько огурчиков в горчичном соусе. Овощей, кроме салата, нет совсем. Наши обеды состоят лишь из картошки и мучного соуса.
Русские захватили большую часть Крыма, но англичане никак не продвинутся дальше Кассино. Бомбежки в последнее время частые и тяжелые. Одна бомба упала на гаагский муниципалитет, и теперь всем голландцам нужно получить новые паспорта.
На сегодня достаточно.
Анна Франк.
Воскресенье, 16 апреля 1944 г.
Милая Китти,
Запомни вчерашний день, потому что он самый важный в моей жизни. Как и для каждой девочки — день ее первого поцелуя. Во всяком случае, для меня это очень важно!
Поцелуй Брама в правую щеку не в счет, равно как и ван Ваудстра в правую руку. Сейчас расскажу тебе, как все произошло.
Вчера в восемь часов мы с Петером сидели на диване, он обнял меня за плечи. (Он был не в комбинезоне, потому что суббота). «Давай немного подвинемся, — сказала я, — а то я все время ударяюсь головой о ящик». Он отодвинулся в самый угол. Я обхватила рукой его спину, а он прижал меня к себе еще крепче. Мы не первый раз сидели так, но еще никогда — так близко друг к другу. Моя левая грудь прижималась к его груди, и мое сердце билось сильнее и сильнее. Но это еще не все. Он не успокоился, пока моя голова не оказалась на его плече, так что его голова лежала сверху. Когда примерно пять минут спустя я выпрямилась, он притянул меня обратно к себе, и мы снова устроились, обнявшись, в прежнем положении. Это было чудесно, я не могла говорить, а лишь наслаждалась мгновением. Он неловко погладил мою щеку и руку, повозился с моими кудрями, и так мы сидели — голова к голове.
Чувство, которое переполняло меня тогда, не могу описать. Я была слишком счастлива, Китти, и он, я думаю — тоже.
В пол девятого мы встали. Петер надел гимнастические туфли, чтобы ступать как можно тише при втором обходе дома. Потом он вдруг сделал какое-то движение, не знаю точно, как, но перед тем, как мы пошли вниз, он поцеловал меня — где-то между волосами, левой щекой и ухом. Я, не оглядываясь, побежала вниз и теперь не дождусь вечера.
Воскресенье, около одиннадцати утра.
Анна Франк.
Понедельник, 17 апреля 1944 г.
Дорогая Китти,
Как ты думаешь: одобрили бы папа с мамой то, что их дочка, которой нет еще пятнадцати, целуется на диване с семнадцатилетним мальчиком? Думаю, что нет, и мне ничего не остается, как разобраться во всем самой. Мне так хорошо и спокойно сидеть, обнявшись с ним и мечтать. Так волнующе чувствовать его щеку, касающуюся моей щеки, и так прекрасно знать, что кто-то ждет тебя. Но вот вопрос — достаточно ли всего этого Петеру? Я не забыла его обещания, но … он мальчик!
Я знаю, что слишком взрослая для своего возраста. Мне еще нет пятнадцати, и моя независимость часто удивляет других. Я уверена, что Марго никогда бы не поцеловалась с мальчиком, если бы не была помолвлена с ним и не собиралась за него замуж. А у нас с Петером таких планов вовсе нет. Мама до встречи с папой не притронулась ни к одному мужчине. Что бы сказали мои подруги, например, Джекки, если бы узнали, что я сидела в объятиях Петера, тесно прижавшись к нему и положив голову на его плечо?
Ах, Анна, не стыдно тебе? С другой стороны, мы живем здесь тайно, запертые от всего мира, в постоянном страхе и заботах, особенно, в последнее время. Почему же мы должны подавлять в себе чувства, если мы любим друг друга? Разве поцелуй запрещен в таких обстоятельствах? Почему мы должны ждать, пока повзрослеем? И вообще, зачем все эти вопросы?
Я сама могу следить за собой, он же никогда не причинит мне горе или боль. Отчего же я не могу действовать по зову сердца ради счастья нас обоих?
Но думаю, Китти, что от тебя не ускользнули мои сомнения между честностью и сохранением тайны. Как ты считаешь, обязана ли я рассказать обо всем папе? Или никто третий не должен проникнуть в наш мир? Вдруг что-то тогда неизбежно потеряется, а спокойнее и увереннее я не стану? Надо поговорить об этом с ним.
О да, мне еще о многом надо с ним поговорить, одних поцелуев мне недостаточно. Открыть друг другу свои мысли — вот истинный знак доверия. И это доверие, несомненно, придаст нам силы!
Анна Франк.
Вчера утром снова переполох — все слышали явные звуки взлома. Очевидно, в этот раз жертвой стал кто-то из соседей. С нашей дверью, к счастью все в порядке!
Вторник, 18 апреля 1944 г.
Дорогая Китти,
У нас все хорошо. Вчера приходил слесарь — установить на дверь железные покрытия.
Папа только что с уверенностью сказал, что ждет перед 20 мая крупных военных операций — как со стороны России, так со стороны и Италии и Запада.
Но чем дольше мы здесь, тем невероятнее кажется освобождение.
Вчера мне, наконец, удалось поговорить с Петером на одну деликатную тему, я собиралась это сделать уже, по крайней мере, десять дней. Я без излишней стеснительности объяснила ему, как устроены девочки — до самых интимных подробностей. Вот смешно: он думал, что вход во влагалище на картинках просто не изображают. Он и не знал, что его, действительно, не видно, так как он находится между ног. Вечер закончился взаимным поцелуем, где-то около губ. Это было особенное, удивительное ощущение!
Может, мне надо взять с собой наверх тетрадку, куда я делаю выписки из прочитанного, чтобы, наконец, поговорить о чем-то серьезном. Каждый вечер только обниматься — это мало, надеюсь, и для него.
После никчемной зимы наступила прекрасная весна. Апрель и вовсе замечательный: не слишком жарко, не слишком холодно и лишь изредка дожди.
Каштан почти весь зеленый и даже начинает цвести.
В субботу Беп порадовала нас четырьмя букетами цветов: тремя из нарциссов и одним из гиацинтов — для меня. Господин Куглер по-прежнему неизменно приносит нам газеты.
Пока, Китти, мне надо заниматься алгеброй.
Анна Франк.
Среда, 19 апреля 1944 г.
Мое дорогое сокровище,
(Так называется фильм с Дорит Крейслер, Идой Вуст и Гаролдои Паулсеном!)
Нет ничего на свете прекраснее, чем смотреть в открытое окно, наблюдать за деревьями, птицами, чувствовать солнце на щеках. А если при этом тебя обнимает симпатичный мальчик, то чувствуешь себя спокойно и надежно. Так хорошо ощущать его руки, его самого рядом, и молчать. В этом не может быть ничего плохого — ведь я чувствую себя так чудесно и спокойно. О, пусть только никто не помешает нам, даже Муши!
Анна Франк.
Пятница, 21 апреля 1944 г.
Милая Китти,
Вчера пролежала весь день с воспалением горла в постели и ужасно скучала. Поэтому сегодня я на ногах: температуры нет, а боль в горле пройдет.
Вчера, как ты сама, вероятно, знаешь, фюреру исполнилось пятьдесят пять лет. А сегодня восемнадцать лет ее королевскому высочеству наследной принцессе Елизавете де Йорк. По Би-би-си передали, что ее еще не объявили совершеннолетней: у принцесс свои законы. Нам всем очень интересно, за какого принца выдадут эту красавицу и вообще — найдут ли для нее достойного жениха. Ее сестра Маргарет Роза, возможно, станет женой бельгийского принца Баудевайна!
А у нас здесь одна неприятность за другой. Не успели починить входную дверь, как ван Марен учинил очередную выходку. По всей вероятности, он украл картофельную муку и теперь пытается обвинить в этом Беп. Понятно, что в Убежище необычное волнение, Беп вне себя. Может, Куглеру удастся восстановить справедливость.
Сегодня утром приходил оценщик с улицы Бетховена. Он оценил сундук в 400 гульденов и еще другие вещи — все на наш взгляд слишком низко.
Я хочу написать в журнал «Принц» (под псевдонимом, конечно) с просьбой опубликовать мою сказку. Но она у меня получилась слишком длинной, поэтому не думаю, что это удастся.
До следующего раза, дорогая.
Анна Франк.
Вторник, 25 апреля 1944 г.
Милая Китти,
Уже десять дней, как Дюссель опять не разговаривает с ван Дааном по причине наших дополнительных мер предосторожности после кражи. Одна из них заключается в том, что по вечерам мы больше не можем сидеть в конторе. Петер с ван Дааном в пол десятого в последний раз обходят в дом, и после этого спускаться вниз запрещено. После восьми вечера и после восьми утра нельзя спускать воду в туалете. Окна мы открываем утром лишь тогда, когда зажигается свет в кабинете Куглера, а по вечерам они теперь закрыты наглухо. По этому поводу Дюссель не перестает ворчать. Он заявляет, что без еды еще может прожить, но никак без воздуха, и необходимо найти способ, чтобы все-таки открывать окна.
«Я непременно поговорю об этом с господином Куглером», — сказал он мне, на что я ответила, что такие вопросы тот разрешает не один, а со всеми вместе. В ответ доктор проворчал: «Здесь все устраивают без моего ведома, непременно поговорю об этом с твоим отцом».
По субботним вечерам и воскресеньям он тоже не может занимать кабинет Куглера, чтобы случайный шум не вызвал подозрений у директора «Кега», если тот придет на свою фирму. Однако Дюссель, не долго думая, нарушил запрет.
Ван Даан был в ярости, и папа взялся поговорить с Дюсселем. У того были, конечно, готовы отговорки, но в этот раз даже папа на них не попался. Папа теперь тоже почти не разговаривает с Дюсселем: тот его обидел. Как именно, я не знаю, и не знает никто, но похоже, что серьезно. На следующей неделе у этого ничтожного создания день рождения. Как же именинник будет, не открывая рта или с ворчанием, принимать подарки?
С господином Фолкскейлом дела плохи, у него уже десять дней температура сорок. Доктор признал его состояние безнадежным, очевидно, рак задел легкие. Бедняга, так хотелось бы поддержать его, но никто не может помочь ему кроме Бога!
Я написала милый рассказ: «Бларри, открыватель мира», который всем понравился.
Я до сих пор простужена и заразила маму и Марго. Как бы еще и Петер не заразился. Он потребовал от меня поцелуя и назвал меня своим Эльдорадо. Вот баловник! И такой милый!
Анна Франк.
Четверг, 27 апреля 1944 г.
Дорогая Китти,
Сегодня с утра у госпожи ван Даан плохое настроение, она только и знает, что жалуется, среди прочего, о своей простуде. Ментоловых таблеточек нет, а непрерывно сморкаться у нее уже нет сил. Кроме этого она сетует на то, что не светит солнце, что запаздывает высадка союзников, что мы не можем смотреть в окно… Мы ужасно над ней смеялись, и в конце концов, она засмеялась тоже — значит дела у нее не так уж плохи.
Рецепт нашего дежурного блюда картофельного блюда из-за отсутствия лука изменился. Очищенную картошку прокручивают через комбайн для сырых овощей, добавляют муку и соль, жир или его заменитель и жарят около двух с половиной часов. Едят с подпорченным клубничным вареньем.
Я сейчас читаю «Король Карл V». Автор, профессор Геттингенского университета, работал над книгой сорок лет. За пять дней я прочитала пятьдесят страниц, больше невозможно. В книге 588 страниц, любопытно, как быстро я с ними справлюсь, а ведь есть еще вторая часть! Но… очень интересно!
Что только не успеет сделать прилежная ученица за один день! Вот, например, я. Сначала перевела с голландского на английский текст о последней битве Нельсона. Потом учила продолжение о северной войне (1700–1721): Петр Первый, Карл XII, Август, Станислав Лецинский, Мазепа, ван Горц, Брандербург, Верхняя Померанция, Нижняя Померанция, Дания… И соответствующие даты. Потом я приплыла в Бразилию: прочитала о табачных плантациях, об изобилии кофе, о полутора миллионах населения Рио де Жанейро, о Парнамбуке и Сао Паоло и, конечно, Амазонке. А также о неграх, мулатах, метисах, белых, более чем 50 % безграмотных и о малярии. Время еще оставалось, поэтому я быстро просмотрела одну родословную: от Яна Старшего, Вильгельма Людовика, Эрнста Кашмира Первого, Хендрика Кашмира Первого до малышки Маргариты Франциски, рожденной в 1943 году в Оттаве. В двенадцать часов я уселась заниматься на чердаке: закутавшись в одеяло, читаю о священниках, пасторах, папах римских. Уф! И так до часа. В два часа бедный ребенок снова за книгами: зоология, широконосые и узконосые обезьяны. Китти, угадай — сколько пальцев у гиппопотама?
Затем Библия: Ноев ковчег, Сим, Хам, Яфет. И, наконец, Карл Пятый. С Петером читали «Генерал» Теккерея на английском. Зубрежка французских слов, а после сравнение Миссисипи с Миссури. На сегодня вполне достаточно, адью!
Анна Франк.
Пятница, 28 апреля 1944 г.
Дорогая Китти,
Никогда не забуду сон о Петере Шиффе в начале января. Всегда, когда я о нем вспоминаю (как и сегодня), то чувствую касание его щеки, и мне так хорошо. С моим настоящим Петером я это тоже испытывала, но не так сильно до… вчерашнего вечера, когда мы, как обычно, сидели обнявшись на диване. И тогда обычная Анна вдруг исчезла, и ее место заняла вторая Анна, не отчаянная и смешная, а лишь нежная и любящая.
Я сидела, прижавшись к нему, и мое сердце вдруг переполнилось. К глазам подступили слезы: слеза с левого глаза сразу упала на его куртку, а с правого задержалась на кончике носа и потом тоже оказалась на куртке. Заметил ли он это? Он не выдал себя ни единым движением, не произнес ни слова. А может, он испытал то же, что и я? Знает ли он, что с ним была вторая Анна? Все эти вопросы останутся без ответа. В пол девятого я встала и подошла к окну, там мы всегда прощаемся. Я дрожала и все еще была Анной номер два. Он подошел ко мне, я обняла его за шею, поцеловала в левую щеку и потянулась к правой. Но тут наши губы встретились, потом снова и снова! Мы оба были в смятении и хотели, чтобы этот момент длился вечно, ах!
Петеру так нужна ласка. Он впервые открыл для себя девочку и узнал, что даже самая насмешливая девочка тоже имеет сердце и полностью преображается, когда ты с ней наедине. Он первый раз в жизни познал дружбу и доверие, он еще ни с кем по-настоящему не дружил — ни с мальчиком, ни с девочкой.
Теперь мы нашли друг друга, раньше я совсем не знала его, и у меня тоже не было близкого человека.
Но меня не оставляет вопрос: хорошо ли все это? Правильно ли, что я так быстро поддаюсь, что во мне так много страсти, не меньше, чем в Петере? Могу я, как девочка, позволять себе такое? У меня лишь есть один ответ: «Я мечтаю об этом… уже давно, я так одинока, и теперь, наконец, нашла утешение!»
Утром мы такие, как всегда, да и днем чаще всего — тоже. Но вечером нас начинает неудержимо тянуть друг к другу, и мы можем думать лишь о счастье и блаженстве прошлых вечеров. Каждый раз после последнего поцелуя я боюсь взглянуть ему в глаза и хочу бежать, бежать, чтобы побыть одной в темноте. Но что я вижу, когда спускаюсь на четырнадцать ступенек ниже? Яркий свет, смешки, вопросы, и я должна вести себя, как ни в чем не бывало!
Мое сердце еще слишком переполнено, чтобы осмыслить вчерашнее потрясение. Нежная Анна приходит не часто, но и не позволяет быстро выставить себя за дверь. Петер затронул мои чувства так глубоко, как я еще никогда не испытывала — кроме того сна. Петер захватил меня всю, все перевернул во мне. Не естественно ли, что после такого хочется тишины и покоя, чтобы успокоиться и вернуться к самой себе?
О, Петер, что ты со мной сделал? Что ты хочешь от меня? Что будет с нами дальше?
О, как я понимаю сейчас Беп, только сейчас понимаю ее сомнения. Если в будущем он сделает мне предложение, что я отвечу? Анна, будь честной. Ты не выйдешь за него замуж, но и просто так его не отпустишь. У Петера слишком мало характера, воли, не достает силы и мужества. Он еще ребенок, в сущности, не старше меня, и он мечтает о покое и счастье. Неужели мне только четырнадцать, и я всего лишь глупая ученица? Так ли уж я неопытна во всем?
Нет, у меня больше опыта, чем у других: то, что я испытала, не знает в моем возрасте почти никто.
Я боюсь самой себя, боюсь, что слишком быстро уступлю своим желаниям.
Как же будет потом, с другими мальчиками? О, как это трудно: выбор между чувством и разумом. Всему свое время, но правильное ли время выбрала я?
Анна Франк.
Вторник, 2 мая 1944 г.
Дорогая Китти,
В субботу вечером я спросила Петера, согласен ли он с тем, чтобы я рассказала о нас папе, и после некоторых колебаний он ответил, что да. Я была рада: ведь это доказательство его искренних чувств. Я спустилась вниз и вскоре пошла с папой за водой. На лестнице я сказала ему: «Папа, ты, конечно, понимаешь, что когда мы с Петером вместе, то не сидим на расстоянии метра друг от друга. Не считаешь, что это плохо?». Папа ответил не сразу: «Нет, не считаю. Но мы живем здесь в закрытом пространстве, так что, Анна, будь осторожна». И прибавил еще что-то в этом роде, когда мы поднимались обратно. В воскресенье утром он подошел ко мне и сказал: «Анна, я хорошо обо всем подумал (тут я испугалась!) и решил, что Убежище — не самое лучшее место для вашей дружбы. Петер влюблен в тебя?».
«Вовсе нет», — ответила я.
«Видишь ли, я вас хорошо понимаю, но ты должна быть сдержанной. Не ходи наверх так часто и не слишком поощряй его. В таких делах мужчина всегда активен, а женщина должна держаться в рамках. На воле, когда ты свободна, все иначе: ты встречаешься с другими мальчиками и девочками, можешь пойти, куда хочешь, заняться спортом и так далее. А здесь вы всегда вместе, тебе некуда уйти, вы видите друг друга слишком часто, собственно, постоянно. Будь осторожна, Анна и не принимай ваши отношения слишком серьезно!»
«Я этого и так не делаю, папа. Но Петер — порядочный человек и очень милый мальчик!»
«Да, но у него слабый характер. Он легко поддается как хорошему, так и плохому влиянию. Надеюсь, что хорошее в нем победит, потому что таков он в сущности».
Мы еще поговорили и решили, что папе надо побеседовать с Петером.
В воскресенье днем он спросил меня на чердаке: «Ну, как, Анна, говорила с папой?». «Да, — ответила я, — сейчас расскажу. Папа относится, в общем, нормально, но считает, что мы здесь слишком близко друг другу, и это может легко привести к столкновениям».
— Но мы ведь договорились, что не будем ссориться, и я не собираюсь от этого отступать.
— Я тоже, Петер. Но папа не знает всей правды, он думает, что мы просто дружим. Как ты считаешь: имеем мы право?
— Считаю, что, да. А ты?
— И я. Я сказала папе, что доверяю тебе. Я, действительно, доверяю тебе полностью, не меньше, чем самому папе и думаю, что ты этого достоин. Ведь, правда?
— Надеюсь. (он смутился и покраснел)
— Я верю тебе, Петер, — продолжала я, — верю в твой хороший характер и что ты в жизни чего-то добьешься.
Мы поговорили еще на другие темы, и позже я сказала: «Знаешь, когда мы отсюда выйдем, я тебе совсем не буду нужна. Он весь вспыхнул: «Это неправда, Анна, нет! Как такое могло прийти тебе в голову?».
Тут нас позвали.
Потом папа поговорил с ним, и сегодня Петер рассказал мне об этом.
«Твой отец думает, что дружба легко может перейти во влюбленность, — сказал он, но я ответил, что на нас можно положиться».
Теперь папа хочет, чтобы я не так часто ходила по вечерам наверх. Но я с этим не согласна не только потому, что я хочу быть с Петером, но и потому, что уже сказала, что на него можно положиться. И самому Петеру я хочу доказать свое доверие, а это нельзя сделать, оставаясь — как раз из-за недоверия — внизу. Нет, все останется, как прежде!
Между тем драма «Дюссель» завершилась. Вчера за столом он в изысканных выражениях попросил прощения. Наверно, целый день учил эту речь наизусть.
Так что мир с ван Дааном восстановлен.
День рождения Дюсселя в воскресенье прошел спокойно.
Мы подарили ему бутылку хорошего вина 1919 года,
ван Дааны (решили побаловать именинника) — баночку пикулей и бритвенные лезвия,
Куглер — бутылку лимонада,
Мип — книгу, а Беп — цветок в горшке.
Дюссель раздал всем по яйцу.
Анна Франк.
Среда, 3 мая 1944 г.
Дорогая Китти,
Сначала о новостях недели. У политики как бы отпуск: ничего нового. Постепенно начинаю верить в высадку союзников. Не могут же они все переложить на русских, правда, и те в данный момент тоже бездействуют.
Господин Кляйман теперь снова каждое утро в конторе. Он достал для дивана Петера новую пружину. Теперь Петеру надо заняться обивкой, что ему, разумеется, неохота. Кляйман также раздобыл порошок против вшей для кошек.
Рассказывала ли я тебе, что Моффи пропал? С прошлого четверга, бесследно. Наверно, он уже в кошачьем раю, в то время как какой-то «друг животных» с аппетитом его поедает и собирается сделать шапку из его шкурки.
Петер очень расстроен.
Последние две недели мы обедаем по субботам в полдвенадцатого. А утром должны удовольствоваться блюдечком каши. Начиная с завтрашнего дня, такой режим вводится ежедневно, чтобы сэкономить продукты. Овощи по-прежнему достать трудно. Сегодня мы ели тушенный полусгнивший салат. Кроме салата и шпината ничего нет, а к ним подпорченная картошка — замечательная комбинация!
Уже больше двух месяцев у меня не было менструации, но, наконец, в воскресенье она снова пришла. Несмотря на все неудобства, я рада этому.
Наверно, ты представляешь себе, мы — один за другим — в отчаянии повторяем: «О, почему война продолжается, почему люди не могут жить в мире, почему уничтожают все вокруг?». Вопрос этот закономерен, но ясного ответа на него еще не дал никто. Да, почему в Англии сооружают все более гигантские самолеты и дома особой, легко восстанавливаемой конструкции? Почему каждый день на войну тратятся миллионы, а на здравоохранение, искусство и бедных людей — ни цента? Почему многие страдают от голода, тогда как в других частях света изобилие еды? Почему люди так безумны?
Я не верю, что в войне виноваты только высокие чины, правительства и капиталисты. О, нет, обычные люди тоже участвуют в ней добровольно, иначе народы уже давно восстали бы! Просто в людях живет стремление к жестокости, уничтожению, убийству. И пока со всем человечеством без исключения не произойдет гигантская метаморфоза, войны будут продолжаться, будет уничтожаться все выращенное, созданное и построенное, чтобы потом снова начать с начала!
Я часто ощущаю подавленность, но безнадежность — никогда. Наше затворничество иногда напоминает мне увлекательное и романтическое приключение. Например, бытовые проблемы дают мне повод для интересных записей в дневнике. Я уже точно решила, что моя жизнь не будет похожа на жизнь других девочек, а когда я повзрослею, то никогда не стану обычной домашней хозяйкой. Начало у меня особенное, и уже только поэтому я даже в самые опасные моменты могу смеяться над абсурдностью ситуации.
Я еще девочка и во мне многое не раскрыто. Но я молодая и сильная, переживаю необычное приключение и не намерена жаловаться дни напролет на отсутствие развлечений. Мне многое дано от природы: оптимизм, жизнерадостность, сильный характер. Каждый день я чувствую, что расту духовно, что приближается освобождение, что природа прекрасна, и что меня окружают хорошие люди. И что жизнь в Убежище интересна и увлекательна! Зачем же впадать в отчаяние?
Анна Франк.
Пятница, 5 мая 1944 г.
Дорогая Китти,
Папа мной недоволен. Он был уверен, что после нашего разговора я не буду каждый вечер ходить наверх. Ему не нравится наша «возня». Это слово я уже слышать не могу! Ведь у нас был хороший разговор, зачем же сейчас придавать всему другой смысл? Сегодня я снова поговорю с папой. Марго дала мне разумный совет и следуя ему, я собираюсь сказать ему примерно следующее. «Папа, ты, очевидно, ждешь от меня объяснений. Так вот, слушай. Ты разочарован во мне, ты ожидал от меня больше сдержанности и недоступности и хочешь, чтобы я вела себя так, как полагается четырнадцатилетней девочке. Но ты заблуждаешься!
С тех пор, как мы здесь — с июля 1942 года до недавнего времени — мне было очень нелегко. Если бы ты знал, как часто я плакала по вечерам, какое испытывала отчаяние и одиночество и как была несчастна, ты бы понял, почему мне хочется наверх, к Петеру! Ведь я не сразу научилась обходиться без маминой и чьей-то другой поддержки, нет: самостоятельность стоила мне многих слез и сил. Можешь смеяться и не верить, мне это безразлично. Я знаю, что твердо стою на ногах и не обязана отчитываться перед вами. Все это я говорю не потому, что что-то скрываю, но чтобы ты знал: я сама за себя ответственна!
Когда мне было трудно, то вы (да, ты тоже!) закрывали глаза и уши и совсем не помогали мне, а наоборот — делали замечания и наказывали быть скромнее. А я, если и вела себя вызывающе, то лишь затем, чтобы не чувствовать отчаяние. Я заглушала дерзостью внутренний голос. Полтора года я играла комедию, и все это время не жаловалась и не изменила своей роли, но сейчас конец борьбе. Я победила! Я стала независимой телом и духом, и мама мне больше не нужна. Я стала сильной, пройдя через трудности!
И теперь, после всех испытаний, я хочу идти своим путем — путем, который сама выбрала. Ты не должен смотреть на меня, как на четырнадцатилетнюю, на самом деле, жизнь сделала меня старше. Я никогда не пожалею о своих поступках, я буду и дальше поступать, как сама решу!
Ты не можешь помешать мне ни добрыми советами, ни запретами. Ты должен доверять мне до конца и оставить меня в покое!
Анна Франк.
Суббота, 6 мая 1944 г.
Дорогая Китти,
Вчера перед едой я вложила письмо в папин карман. Марго потом сказала, что прочитав его, он выглядел очень огорчено. (Я в это время мыла посуду наверху). Бедный Пим, я должна была предвидеть это. Ведь он такой восприимчивый! Я только что сказала Петеру, чтобы тот пока ничего не говорил и не спрашивал. Сам Пим молчит, долго ли это еще продлится?
А у нас все, как будто, неплохо. Немыслимо представить, до чего подскочили цены — об этом нам рассказывают Ян, Куглер и Кляйман. Полкило чая стоит 350 гульденов, полкило кофе — 80, полкило масла — 35, одно яйцо — 1 гульден и 45 центов. Болгарский табак продают по 14 гульденов за 100 грамм!
Все хоть немного занимаются спекуляцией, любой парнишка на улице предлагает что-то. Наш булочник раздобыл для нас штопку: 90 центов за крошечный моточек, молочник достает на черном рынке продовольственные талоны, гробовщик поставляет сыр. Ежедневно слышишь о взломах, грабежах, убийствах, причем полицейские и дружинники орудуют не менее ловко, чем профессиональные воры. Все голодны, а зарплаты не повышаются, вот и приходится идти на мошенничество. Полиция постоянно ищет детей: каждый день пропадают мальчики и девочки пятнадцати, шестнадцати, семнадцати лет и старше.
Я постараюсь закончить рассказ о фее Эллен. Может, смеха ради подарю его папе на день рождения со всеми авторскими правами.
До свидания, точнее, до следующего письма.
Анна Франк.
Воскресенье, 7 мая 1944 г.
Дорогая Китти,
Вчера вечером я долго говорила с папой. Я ревела ужасно, и папа тоже плакал. Знаешь, Китти, что он мне сказал?
«В своей жизни я получал немало писем, но это самое скверное! Ты, Анна, которую мы, твои родители, так любят и всегда, в любых обстоятельствах защищают и поддерживают, ты не хочешь нести перед нами никакой ответственности! Ты считаешь, что мы тебя предали и оставили. Это мнение для нас обидно и несправедливо! Может быть, ты не буквально имела это в виду, но именно так выразила на бумаге — жестоко и незаслуженно!».
О, я совершила ужасную ошибку, возможно, самую ужасную в моей жизни. Я выставила напоказ свои слезы и переживания, и чересчур зазналась, чтобы сохранить его уважение. Конечно, проблемы с мамой причинили мне много горя, но как я могла обвинить милого Пима, который всегда любил меня и поддерживал. Я поступила подло.
Что ж хорошо, что я упала со своей недоступной высоты, что моя гордость несколько пострадала — ведь я вообразила о себе слишком много! А ведь далеко не все поступки мадемуазель Анны достойно похвалы! Я заставила страдать того, кто так любит меня, и это низко, низко!
А больше всего мне стыдно за то, что папа меня полностью простил.
Сначала он хотел бросить мое письмо в камин, а сейчас так ласков со мной, как будто я ничего плохого не сделала. Нет, Анна, тебе еще надо многому учиться. Вот и займись этим вместо того, чтобы презирать и судить других!
Да, я много переживала, но не естественно ли это в моем возрасте? Я часто играла комедию, иной раз бессознательно. Я, действительно, чувствовала себя одинокой, но никогда не отчаивалась.
Мне должно быть глубоко стыдно, и я, в самом деле, стыжусь. Сделанного не исправишь, но повторения быть не должно. Я хочу все начать с начала, и верю в успех, потому что у меня есть Петер. С ним я все смогу! Я уже не одна, он любит меня, и я люблю его. И еще у меня есть книги, дневник и мои литературные сочинения. Я не безобразна и не глупа, жизнерадостна от природы и хочу стать хорошим человеком!
Да, Анна, ты сама чувствовала, что твое письмо было слишком жестким и преувеличенным, но именно этим ты гордилась. Я буду брать пример с папы и постараюсь стать лучше!
Анна Франк.
Понедельник, 8 мая 1944 г.
Дорогая Китти,
Рассказала ли я тебе уже историю нашей семьи? По-моему, нет, поэтому начну, не откладывая. Папа родился во Франкфурте-на-Майне в обеспеченной семье. Его отец Михаэль Франк был хозяином банка и владел миллионами, а мать, Алиса Штерн, унаследовала большое состояние. Михаэль Франк, совсем не богатый в юности, добился всего упорным трудом. А папа был настоящим сынком состоятельных родителей: его молодость была наполнена еженедельными приемами, праздниками, балами, роскошными обедами и красивыми девушками. Но после дедушкиной смерти, мировой войны и инфляции от огромного состояния ничего не осталось. Папу воспитали настоящим барином, и как смеялся он вчера, когда впервые за свои 55 лет выгребал ложкой остатки из сковородки.
Мама была тоже богата, хотя и не так, как папа. Поэтому мы не перестаем удивляться рассказам о великолепных приемах и балах, а также о ее помолвке с папой, на которую было приглашено 250 гостей.
Наверно, сейчас от нашего состояния ничего не осталось, но будь уверена, что у меня больше запросов, чем у мамы и Марго. Я хочу поехать на год в Париж и на год в Лондон для изучения языков и истории искусств. Не сравнить с планами Марго, которая собирается стать акушеркой в Палестине! Я мечтаю о красивых платьях и интересных людях, я хочу что-то увидеть и испытать в жизни, и, как я тебе уже говорила раньше, недостаток денег меня не остановит!
Сегодня утром Мип рассказала о помолвке ее двоюродной сестры в субботу.
И жених, и невеста довольно состоятельны. Мип раздразнила наш аппетит рассказом об угощении: суп с фрикадельками, сыр, булочки с мясом и сыром, салат с яйцами и ростбифом, ром-баба, вино, сигареты и еще всякая всячина — все, что душе угодно.
Мип выпила десять рюмок вина и выкурила три сигареты — вот вам и противница алкоголя! Если она так разошлась, то можно себе представить, сколько поглотил ее благоверный. В общем, оба они порядочно выпили. На празднике присутствовали также двое полицейских, которые сделали несколько фотоснимков. Мип записала их имена и адреса на тот случай, если потребуется помощь честных голландцев: она, как видишь, никогда не забывает о нас, затворниках.
Она так наглядно описала нам шикарную еду — нам, которые съедают на завтрак две ложечки каши и потом целый день мучаются голодом, заглушая его полусырым шпинатом (для витаминов!), гнилой картошкой, салатом и снова бесконечным шпинатом. Возможно, мы наберемся силы, подобно Попею, но пока это что-то не заметно.
Если бы Мип взяла нас собой на ту помолвку, то для других гостей от угощения ничего не осталось. И вели бы мы себя наверняка не очень прилично — расталкивали людей, сдвигали мебель… Как мы слушали Мип, буквально глядя ей в рот, как будто никогда не слышали о вкусной еде и богатых людях!
Мы, внучки известного миллионера. Странно все-таки устроен мир!
Анна Франк.
Вторник, 9 мая 1944 г.
Дорогая Китти,
Рассказ о фее Эллен закончен. Я переписала его на почтовую бумагу, сшила их и разукрасила красными чернилами. Выглядит хорошо, но не слишком ли маленький подарок для папы? Мама и Марго сочинили по поздравительному стишку.
Господин Куглер сегодня сообщил, что с понедельника госпожа Брукс собирается ежедневно в два часа приходить в контору — пить кофе. Ничего себе! Нам нельзя будет подниматься наверх за картошкой, пользоваться туалетом, и Беп не сможет приходить к нам есть. Мы должны будем вести себя тихо, как можно меньше двигаться и испытывать разные другие неудобства! Все стали выступать с предложениями: как бы отвадить гостью. Ван Даан придумал подсыпать ей в кофе слабительное. «Нет, — ответил Кляйман, — ведь тогда она и не сойдет с коробки!». [12] Общий смех. «С коробки? — спросила госпожа ван Даан, — что это означает?» Ей объяснили. «Значит, я могу всегда употреблять это выражение?», — простодушно спросила она.
«Представляешь, — хихикнула Беп, — что она в Бейенкорфе — спросит, где у них находится коробка».
Дюссель, кстати, посещает «коробку» ежедневно в пол первого. Сегодня я написала на куске розовой бумаги:
«Расписание пользования туалетом господина Дюсселя:
7:15 — 7:30 утра
13:00.
Остальные визиты по желанию!»
Я приклеила это объявление на дверь туалета, в то время как он там был.
Вполне могла бы приписать: «Нарушение сроков грозит запиранием двери!». Ведь наш туалет запирается как изнутри, так и снаружи.
Новый анекдот ван Даана:
После школьных уроков, посвященных библейскому сюжету об Адаме и Еве, тринадцатилетний мальчик спросил отца: «Папа, а как я, собственно, появился на свет?» «О, — ответил отец, — аист вытащил тебя из моря и положил в кровать твоей матери. При этом он так сильно укусил ее за ногу, что она из-за кровоточащей раны целую неделю не вставала с постели». Чтобы убедиться в правдивости рассказа, мальчик отправился к маме и спросил ее: «Скажи, мама, как ты сама появилась на свет, и как родился я?» Мать рассказала в точности то же, что отец. Но парнишка для достоверности задал вопрос и деду.
И снова услышал знакомую историю.
Вечером он записал в своем дневнике: «После тщательного исследования я пришел к выводу, что в нашей семье не было сексуальных отношений в течение трех поколений».
Мне еще надо заниматься, сейчас уже три часа.
Анна Франк.
P.S. Я уже упоминала нашу новую уборщицу. Добавлю, что она замужем, ей 60 лет, и она плохо слышит. Это очень кстати для восьми затворников, которым не всегда удается соблюдать тишину! О, Кит, какая чудесная погода, если бы я могла выйти на улицу!
Среда, 10 мая 1944 г.
Дорогая Китти,
Вчера вечером мы учили на чердаке французский, как вдруг я услышала шум воды. Не успела спросить у Петера, что это может означать, как он ринулся на мансарду, где находился «кошачий туалет». Поскольку тот оказался сырым, Муши пристроился рядом. Последовал шум борьбы, и Муши, благополучно закончивший свое деяние, помчался вниз. Лужица пришлась как раз на трещину в полу и стала капать сверху на нашу картошку. Пол на чердаке тоже не без трещин, так что протечка дошла до гостиной, угодив на стопку книг и кипу чулок. Я хохотала от души над забавнейшей картиной: испуганный Муши, забившийся под стул, Петер с ведром воды, тряпкой и хлоркой и суетившийся рядом ван Даан.
Песочный туалет привели в порядок, но известно, что кошачьи лужицы ужасно воняют. Это доказала вчерашняя картошка и опилки, которые папа принес с мансарды в ведре и сжег.
Бедный Муши! Ведь ему невдомек, что и торфа сейчас не достанешь.
Анна Франк.
Вторник, 9 мая 1944 г.
Дорогая Китти,
Вот еще смешная сценка.
Петеру надо подстричься, в роли парикмахера выступает, как всегда, его мама. В двадцать пять минут восьмого Петер удалился в свою комнату, а ровно в половину восьмого выглянул оттуда, облаченный лишь в трусы и спортивные туфли, и с мокрой головой.
«Ты скоро?» — спросил он свою мать.
«Не могу найти ножницы», — ответила она.
Петер тоже принялся за поиски, перевернув все в ее туалетном ящичке. Та ворчала: «Да не возись так!» Ответа я не расслышала, но он был, очевидно, дерзким, потому что Петер получил легкий шлепок по руке. Он ответил маме тем же, и она в ответ шлепнула его из-за всех сил. Тогда Петер отскочил в сторону, состроил рожу и крикнул: «Старуха, пора за работу!».
Госпожа ван Даан не двинулась с места, тогда Петер схватил ее за руки и так протащил через всю комнату. Госпожа плакала и смеялась одновременно, ругалась, брыкалась, но все бесполезно. У лестницы Петеру пришлось отпустить пленницу, которая тут же со стоном упала на стул. «Похищение матери», — пошутила я.
«Но он сделал мне больно!».
Ее запястья, действительно, были красными, и я слегка охладила их водой. Петер, ожидая мать на лестнице, снова проявил нетерпение и явился в комнату, размахивая ремнем, подобно дрессировщику. Но мать не собиралась идти с ним, она сидела за столом и искала носовой платок. «Сначала ты должен извиниться», — сказала она. «Что ж, ладно, приношу свои извинения, потому что мне надоело ждать». Госпожа ван Даан засмеялась против воли и пошла к двери, но вдруг остановилась и произнесла целую речь. (Мы с мамой и папой в это время мыли посуду.) «У нас дома такое бы не прошло, — сказала она, — я бы ему так наддала, что он слетел бы с лестницы. Он еще никогда так не хамил, хотя подзатыльники получал не раз. Я не доверяю современному воспитанию. Нынешние дети… Разве я смогла бы так напасть на свою мать? А вы, господин Франк, позволили бы себе такое с вашей матерью?» Госпожа ван Даан была чрезвычайно возбуждена, ходила из угла в угол и трещала без передышки, пока, наконец, не ушла наверх. Воистину, наконец. Но спустя пять минут она стремительно, с горящими щеками ворвалась в комнату, положила на место фартук и, ответив на мой вопрос, что готова со стрижкой и зашла лишь на минутку, понеслась вниз, вероятно, в объятия своего Путти. Вернулась около восьми вместе с супругом, они позвали Петера и устроили ему грандиозную взбучку. Мне удалось разобрать несколько слов: «Оболтус, невежа, бесстыдник, плохой пример, а вот Анна…, а вот Марго…».
Впрочем, завтра наверняка снова установится тишь, да гладь!
Анна Франк.
P.S. Во вторник и среду выступала наша любимая королева. Она собирается на отдых, чтобы потом с новыми силами вернуться в Голландию. Она говорила о своем возвращении, скорой победе, мужестве, геройстве и тяжких испытаниях.
Передали также выступление министра Гербранди. У него такой тоненький детский голосок, что мама невольно ахнула. И в итоге священник (проникновенным голосом) завершил вечер молитвой, обратившись к Господу с просьбой защитить евреев, узников лагерей и военнопленных.
Четверг, 11 мая 1944 г.
Дорогая Китти,
К сожалению, я забыла наверху шкатулку с мелочами и ручку, а поскольку до пол третьего у нас тихий час, я не пойду туда, чтобы кого-то случайно не разбудить и буду писать карандашом.
У меня в последнее время ужасно много дел, хоть тебе это, возможно, покажется странным. Я не справляюсь со всей своей работой! Рассказать тебе вкратце, что я еще должна сделать? Ну, так вот: до завтра дочитать первую часть биографии Галилео Галилея, так как книгу надо вернуть в библиотеку. Я начала читать вчера и сейчас уже на странице 220. Всего их 320, так что успею. На следующей неделе мне предстоит прочитать «Палестину на распутье» и вторую часть «Галилея». Вчера закончила биографию Карла Пятого, и теперь мне нужно составить несколько родословных и конспектов. Еще я должна просмотреть и выучить три страницы незнакомых слов, переписанных из разных книг. Моя коллекция кинозвезд заброшена и давно нуждается в наведении порядка. На это потребуется нескольких дней, а поскольку у профессора Анны масса других дел, то ей не до коллекции, которая в результате еще больше приходит в упадок.
Кроме нее требуют внимания Тезей, Эдип, Пелей, Орфей, Язон и Геракл: их подвиги и геройства перепутались в моей памяти, как нитки в клубке. Да, не забыть Мирона и Фидия, чтобы не нарушить историческую связь. В похожем состоянии семи- и девятидневная война — в голове у меня полный хаос. Что же это такое? Если я сейчас все забываю, каково будет в восемьдесят лет!
Да, еще библия, когда же я доберусь до рассказа о купающейся Сусанне? И я не до конца понимаю греха Содома и Гоморры. Ах, мне еще так много нужно учить. Лизелотту фон дер Пфальц я пока полностью забросила. Сама суди, Китти: я просто задыхаюсь! Ну а теперь о другом. Ты знаешь, мое заветное желание — стать журналисткой, а позже — знаменитой писательницей. Не знаю, выполню ли я эти высокие цели (звучит глупо), но пока тем у меня достаточно. В любом случае после войны издам книгу «Убежище». Удастся ли это, не знаю, но исходным материалом послужит мой дневник.
Еще я должна закончить «Жизнь Кади». Я уже решила, что после лечения в санатории Кади вернется домой и будет продолжать переписываться с Хансом. Это все происходит в 1941 году. Вскоре Кади узнает, что Ханс симпатизирует фашистам. Поскольку она глубоко переживает за евреев, к которым принадлежит и ее подруга Марианна, то она начинает сомневаться в Хансе. Они ссорятся и расстаются, но потом сходятся снова. Настоящий разрыв происходит, когда Ханс начинает встречаться с другой девочкой. Кади глубоко задета и теперь хочет одного — стать медсестрой и много работать. Она заканчивает образование и по настоянию отца и друзей поступает на работу в швейцарский санаторий для легочных больных. Свой первый отпуск она проводит на Коморских островах, где совершенно случайно встречает Ханса. Тот рассказывает, что два года назад женился на девушке, с которой встречался после Кади, но оказалось, что его жена подвержена депрессиям, и недавно покончила жизнь самоубийством. Уже задолго до этого Ханс понял, что любит только свою маленькую Кади, и вот сейчас он просит ее руки. Кади отказала: хотя она все еще любила его, ее гордость оказалась сильнее. Ханс уехал, и спустя годы Кади услышала, что он живет в Англии и часто хворает. Сама Кади в 27 лет вышла замуж за фермера Симона. Она нежно любила его, но не так сильно, как Ханса. У них родились трое детей: две дочери Лилиан и Юдифь и сын Ник. Она счастлива с Симоном, но не забывает Ханса. Однажды она видит его во сне и прощается с ним.
Это все не сентиментальная чепуха, а художественное изложение папиной биографии.
Анна Франк.
Суббота, 13 мая 1944 г.
Милая Китти,
Вчера был папин день рождения и девятнадцатая годовщина свадьбы папы и мамы. Уборщицы в конторе не было, а солнце еще никогда не светило в 1944 году так ярко, как в тот день. Наш каштан расцвел и весь покрылся листьями, он сейчас гораздо красивее, чем год назад. Папа получил в подарок от Кляймана биографию Линнея, от Куглера книгу на тему естествознания, от Дюсселя книжку «Амстердам на воде», а от ван Даанов огромную, разукрашенную лучшими декораторами коробку с тремя яйцами, бутылкой пива, йогуртом и зеленым галстуком. На фоне всего этого наша баночка патоки выглядела довольно жалкой. Мои розы пахли великолепно в отличие от гвоздик Беп и Мип. Папу балуют! От Симонса прибыло пятьдесят пирожных — великолепно! Папа угостил всех коврижкой, мужчин — пивом, а женщин йогуртом. Все было очень вкусно!
Анна Франк.
Вторник, 16 мая 1944 г.
Милая Китти,
Для разнообразия (уже давно я такого не писала) передам тебе небольшую дискуссию между ван Даанами.
Госпожа ван Даан: «Немцы наверняка укрепили атлантический вал и сделают все возможное, чтобы не уступить его англичанам. Все-таки у Германии еще много сил!»
Господин ван Даан: «Неужели?»
Госпожа: «Ах!»
Господин: «Немцы еще чего доброго победят, так они сильны».
Госпожа: «Что ж, это возможно, я вовсе не убеждена в обратном».
Господин: «Пожалуй, воздержусь от ответа».
Госпожа: «Все равно ответишь, ты просто не можешь молчать».
Господин: «Мои ответы, однако, очень коротки».
Госпожа: «Тем не менее, ты говоришь и настаиваешь на своем. А твои прогнозы далеко не всегда сбываются!»
Господин: «До сих пор я все предсказывал правильно».
Госпожа: «Неправда! Если бы это было так, то высадка союзников произошла в прошлом году, в Финляндии был бы установлен мир, война в Италии закончилась бы еще зимой, а русские взяли Львов… Нет, ты во всем ошибался!»
Господин (вставая): «А теперь довольно. Я тебе как-нибудь докажу, что я прав, чтобы ты, наконец, успокоилась. Я сыт по горло твоим нытьем, тебя надо ткнуть носом в твою собственную околесицу!» (Конец беседы).
Я хохотала ужасно, и мама тоже. Петер едва сдержался. Ах, глупые взрослые, вы поучились бы сначала сами, прежде чем делать замечания детям!
С пятницы мы теперь снова открываем окна по ночам.
Анна Франк.
Перечислю то, что важно для каждого члена семейства «Убежище»:
УЧЕНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ:
Господин ван Даан: ничему не учится, роется в словарях, любит читать детективы, книги по медицине, увлекательные и пустые романы о любви.
Госпожа ван Даан: учит английский на заочных курсах, охотно читает жизнеописания и иногда романы.
Господин Франк: учит английский (читая Диккенса!) и основы латинского. Никогда не читает романов, предпочитает серьезные познавательные книги.
Госпожа Франк: учит английский на заочных курсах, читает все кроме детективов.
Господин Дюссель: учит английский, испанский и голландский без видимых результатов, читает все и обо всем высказывает свое мнение.
Петер ван Даан: учит английский, французский (письменный), голландскую, английскую и немецкую стенографию, ведение деловой английской корреспонденции, государственное право, осваивает резьбу по дереву, иногда занимается математикой и географией, читает мало.
Марго Франк: учит английский, французский и латынь на заочных курсах, а также голландскую, английскую и немецкую стенографию, механику, стереометрию, физику, химию, алгебру, геометрию, английскую, французскую, немецкую и голландскую литературу, бухгалтерию, географию, современную историю, биологию, экономику, читает все, отдавая предпочтение книгам по религии и медицине.
Анна Франк: учит французский, английский, немецкий, голландскую стенографию, алгебру, историю, географию, историю искусств, биологию, историю религии, голландскую литературу, охотно читает биографии (как скучные, так и увлекательные), исторические книги, иногда романы и легкую литературу.
Пятница, 19 мая 1944 г.
Милая Китти,
Вчера мне было плохо: рвало (что со мной почти никогда не бывает), болели голова и живот — в общем, все к одному. Сегодня лучше, и очень хочется есть, но от темных бобов я все-таки воздержусь.
Между мной и Петером все хорошо. Бедный мальчик гораздо больше нуждается в тепле, чем я: он каждый раз краснеет после нашего прощального поцелуя и умоляет еще об одном. А, может, я ему просто заменяю Моффи? Если так, ну и пусть — он так счастлив, когда кто-то его любит. Теперь, когда я с таким трудом его завоевала, я смотрю на вещи как бы со стороны, но не думай, что любовь ослабела. Он очень добрый, но моя душа сейчас снова закрыта, и если он хочет сломать замок, то должен стать решительнее!
Анна Франк.
Суббота, 20 мая 1944 г.
Дорогая Китти,
Вчера вечером, спустившись с чердака вниз, я увидела, что красивая ваза с гвоздиками лежит на полу, мама на коленях вытирает тряпкой пол, а Марго собирает мои мокрые бумаги. «Что случилось?» — спросила я, полная самых мрачных предчувствий. Но ответа не требовалось, уже на расстоянии я видела, что нанесен непоправимый вред! Моя папка родословных, тетради, книги — все плавало. Я чуть не плакала и так разволновалась, что заговорила по-немецки.
Что именно я бормотала, не помню, но Марго потом воспроизвела моя слова: «Неслыханный вред, ужасный, невосполнимый…». Отец расхохотался, Марго с мамой — за ним, а мне оставалось лишь реветь над потерянной работой и моими замечательными конспектами. При ближайшем рассмотрении «неслыханный вред» оказался не таким уж страшным. Я отнесла промокшие листы на чердак, тщательно отделила их друг от друга и повесила сушить. Получилась забавное зрелище: даже я не могла не улыбнуться, видя висящих рядом Марию Медичи, Карла Пятого, Вильгельма Оранского и Марию Антуанетту. «Это осквернение расы», — пошутил господин ван Даан. Поручив Петеру следить за моими бумагами, я спустилась вниз «Какие книги пострадали?» — спросила я Марго, которая как раз возилась с моими учебниками.
«Алгебра», — ответила она.
Но, увы, и учебник алгебры оказался почти не поврежденным! Я хотела бы, чтобы он упал прямо в вазу — ни одну книгу в жизни я не ненавидела так, как эту. На первой ее странице стоят, по крайней мере, двадцать имен прошлых владелиц. Книжка потерлась, пожелтела, заполнена пометками, исправлениями…
Ей богу, как-нибудь, решусь и разорву это препротивную «Алгебру» на мелкие клочки!
Анна Франк.
Понедельник, 22 мая 1944 г.
Дорогая Китти,
20 мая папа проиграл пари госпоже ван Даан: пять баночек йогурта.
Высадка до сих пор не началась. Думаю, что весь Амстердам, вся Голландия и вообще все западное побережье Европы до самой Испании только и говорит, что о высадке, спорит, заключает пари и… надеется. Напряжение достигло предела. Далеко не все, в том числе благопорядочные голландцы, сохранили доверие к англичанам и не все считают английский блеф искусным приемом — о, нет, люди с нетерпением ждут действий — доблестных и решающих.
Никто сейчас не заглядывает дальше своего носа, никто не думает, что англичане должны защищать свою страну, все убеждены, что они обязаны освободить Нидерланды — и как можно скорее. Но разве англичане чем-то обязаны нам? Чем голландцы заслужили их бескорыстную помощь, на которую они с такой уверенностью рассчитывают? Нет, Голландия заблуждается — англичане, несмотря на свое хвастовство, оскандалились не меньше, чем другие маленькие и большие страны, которые сейчас оккупированы. Тем не менее, не стоит ждать от англичан извинений. Все годы, в течение которых Германия вооружалась, они проспали, впрочем, как и государства, граничащие с Германией. Политикой страуса ничего не добьешься — это увидела Англия и весь остальной мир, и сейчас они жестоко расплачиваются за свое легкомыслие.
Ни одна страна не пожертвует своими гражданами ради другой, и Англия — не исключение. Высадке, освобождению и независимости придет свой черед, но не одновременно на всех занятых территориях, и Англия должна сама выбрать благоприятный момент.
К нашему сожалению и возмущению, поступают новости о том, что отношение многих людей к евреям изменилось. Мы услышали, что антисемитизм проник в круги, где его никогда прежде не было. Это всех нас глубоко, очень глубоко опечалило. Причину ненависти к евреям можно понять, но как бы то ни было — это плохо. Христиане упрекают евреев в том, что те унижаются перед немцами и выдают им людей, которые их укрывали и поддерживали. В результате многие христиане по вине евреев подвергаются страшной участи. Это все правда. Но надо посмотреть на вопрос иначе: не каждый ли повел бы себя так же в этой ситуации? Смог кто-то — еврей или христианин — терпеть жестокие пытки и молчать? Всем известно, что это невозможно, зачем же требовать невозможного от евреев?
Распространяются слухи, что немецкие евреи, до войны эмигрировавшие в Голландию и сейчас депортированные в Польшу, уже не смогут вернуться в Нидерланды — ведь они находились здесь на положении беженцев, и когда Гитлера прогонят, должны возвратиться в Германию.
Когда слышишь такое, невольно задаешься вопросом: зачем мы вели эту длительную и тяжелую войну? Ведь постоянно слышишь, что мы — все вместе — сражаемся за свободу, права и справедливость! И вот уже сейчас начинается раскол, и в евреях видят людей второго сорта. О, как бесконечно грустно, что вновь находишь подтверждение старой пословице: «Если христианин совершил ошибку, то он сам должен ответить за нее. Если ошибку совершил еврей, то отвечают все евреи».
Честно говоря, я не могу смириться с тем, что голландцы — народ добрый, честный и справедливый — так судят о нас, самом угнетенном, несчастном и, наверно, самом достойном сострадания народе. Я надеюсь только, что эта ненависть к евреям временная, и голландцы откажутся от своих глубоко ошибочных взглядов! Иначе придется немногим оставшимся в живых голландским евреям покинуть страну. В том числе, и нам собрать свои пожитки и уйти с этой прекрасной земли, так благородно принявшей нас и потом так жестоко от нас отвернувшейся. Я люблю Голландию и все еще надеюсь, что она станет для меня, лишенной Родины, второй родной страной. Надеюсь до сих пор!
Анна Франк.
Четверг, 25 мая 1944 г.
Дорогая Китти,
Беп помолвлена! В общем, в этом нет ничего особенного, но никто из нас не рад за нее. Пусть Бертус человек добрый, положительный и спортивного сложения, но Беп не любит его. А для меня этого достаточно, чтобы посоветовать ей не выходить за него замуж.
Беп стремится к духовному росту, а Бертус тянет ее вниз. Он простой работяга без высоких интересов и амбиций, и я не верю, что Беп будет с ним счастлива. Понятно, почему она сомневалась и даже разорвала с ним месяц назад. Но почувствовала себя тогда еще несчастнее, написала примирительное письмо, и вот сейчас они помолвлены. Для этого есть немало причин.
Во-первых, болезнь отца. Во-вторых, то, что Беп самая старшая из сестер Фоскейл, и мать постоянно попрекает ее тем, что она еще не замужем. И Беп сама из-за этого беспокоится, ей ведь уже исполнилось двадцать четыре года.
Мама сказала, что лучше бы Беп просто встречалась со своим другом, без брака. А я сама не знаю. Мне жалко Беп, и я понимаю, как она одинока. Впрочем, пожениться они смогут только после войны: ведь Бертус работает «по-черному», и у них нет никакого приданного и вообще ни цента. Какая жалкая участь предстоит Беп, которой мы все от души желаем счастья. Я только надеюсь, что Бертус изменится под ее влиянием, или oна встретит другого мужчину, который будет ценить ее по-настоящему.
Тот же день.
Каждый день что-то происходит. Сегодня утром арестовали ван Хувена, он укрывал в своем доме двух евреев. Это большой удар для нас. Бедных евреев ждет жестокая участь, и ван Хувена, вероятно, тоже. Это ужасно. Похоже, что весь мир встал с ног на голову. Порядочных людей посылают в концентрационные лагеря, тюрьмы, обрекают на одиночное заключение, в то время как отбросы общества приходят к власти и командуют старыми и молодыми, бедными и богатыми. Постоянные аресты: один попадается на черной торговле, другой — на помощи евреям. Никто, кроме тех, кто на службе у фашистов, не знает, что будет завтра.
Арест ван Хувена тяжело сказался на нашей повседневной жизни. Беп не может сама таскать мешки картофеля, так что не остается ничего другого, как потуже затянуть пояс. Как все устроится, еще не знаю — ясно только, что легче не будет. Мама говорит, что нам придется совсем отказаться от завтрака, днем есть кашу и хлеб, вечером жареную картошку и, может, немного овощей и салата — на большее мы рассчитывать не можем. Придется поголодать, но все лучше, чем попасть к немцам.
Анна Франк.
Пятница, 26 мая 1944 г.
Дорогая Китти,
Наконец, наконец-то я могу спокойно устроиться за столом, перед слегка приоткрытым окном и обо всем написать тебе.
Мне так тяжело, как не было уже месяцы — даже после взлома я не чувствовала себя такой опустошенной, как сейчас. С одной стороны, ван Хувен, еврейский вопрос, постоянно обсуждаемый всем домом, задержка с наступлением, скудная еда, нервное напряжение, разочарование в Петере. С другой стороны, помолвка Беп, троица, цветы, день рождения Куглера, рассказы о тортах, кабаре, фильмах и концертах.
Это противоречие стало частью нашей жизни: один день мы смеемся над несуразицами подпольного существования, другой — и таких дней много — живем в страхе, напряжении, отчаянии, и это можно прочитать на наших лицах.
Особенно тяжело приходится Мип и Куглеру. Мип — из-за непосильного объема работы, а Куглеру — из-за огромной ответственности за восьмерых затворников: бывает, что он из-за постоянных забот и волнений просто не может говорить.
Беп и Кляйман, конечно, тоже заботятся о нас, и даже очень хорошо. Но иногда они могут позволить себе отвлечься от дел Убежища — на несколько часов, а иногда — на день-два. У них достаточно своих забот: у Кляймана слабое здоровье, а Беп все еще мучается из-за своей помолвки. И при этом они ведут обычную жизнь: с гостями, прогулками, визитами… Они могут хоть иногда отвлечься, забыть о страхах и волнениях — в отличие от нас. Уже два года мы живем в непрерывном и растущем напряжении, и как долго это еще продлится?
Канализация снова засорена, вода совсем не течет, разве что иногда по капелькам. Ходим в туалет с щеткой. Один день это еще можно выдержать, но что делать, если водопроводчику не удастся исправить неполадки? Городская водопроводная служба не сможет послать кого-то раньше вторника. Получили от Мип булочку с изюмом с надписью «Счастливой Троицы!».
Звучит, как насмешка на фоне нашего подавленного настроения. Мы все немало напуганы арестом ван Хувена и стараемся вести себя как можно тише, только и слышно, что «Тс-с-с!». Полиция ворвалась в дом ван Хувена, взломав дверь — значит, и с нами это может произойти. И если… нет, я не в силах писать, но не думать об этом не могу — кажется, что все свои прежде испытанные страхи я переживаю снова.
Сегодня в восемь вечера я пошла вниз в туалет, остальные слушали радио.
Я старалась не бояться, но вся дрожала. Все-таки, наверху я чувствую себя безопаснее, чем совсем одной в большом притихшем доме, со странными звуками сверху и гудением машин на улице. Стоит мне немного замешкаться внизу, как в голову приходят всякие ужасы.
Мип после разговора с папой стала спокойнее. Да, я же тебе еще об этом не рассказала. Как-то днем она, вся раскрасневшаяся, подошла к папе и прямо спросила его, подозреваем ли мы ее в антисемитизме. Папа был искренне потрясен и убедил Мип, что это совсем не так! Тем не менее, этот разговор оставил грустное впечатление. Мы должны как можно меньше обременять наших помощников своими проблемами. Они так много делают для нас, такие замечательные люди!
Я все чаще спрашиваю себя: не лучше ли было, если бы мы не укрылись в Убежище и сейчас уже погибли? Скольких бед мы бы избежали и прежде всего — не вовлекли бы в них других людей. И все-таки в нас живы воспоминания, мы любим жизнь и надеемся из-за всех сил. Ах, пусть уже бомбят, уничтожат нас и положат конец этому невыносимому нервному напряжению.
Анна Франк.
Среда, 31 мая 1944 г.
Дорогая Китти,
В субботу, воскресенье, понедельник и вторник было так жарко, что я просто не могла удержать авторучку в руке, чтобы написать тебе. В пятницу сломалась канализация, в субботу ее починили. Сегодня днем нас навестила госпожа Кляйман и рассказала много всего о Йоппи, среди прочего, что та и Джекки Марсен стали членами хоккейного клуба. В воскресенье заглянула Беп, чтобы узнать, не появлялись ли воры, и позавтракала с нами. В понедельник (второй день Троицы) роль стража порядка взял на себя господин Гиз. Во вторник мы, наконец, смогли открыть окна. Такая теплая, можно сказать, жаркая погода в Троицу случается редко. В Амстердаме жара переносится ужасно. Чтобы ты получила впечатление об этом, опишу тебе вкратце последние жаркие дни.
Суббота. «Какая прекрасная погода!» — воскликнули мы утром. Но днем, когда пришлось закрыть окна, мнение изменилось: «Однако, могло бы быть и посвежее».
Воскресенье. «Эту жару вынести невозможно. Масло тает, в доме нет ни одного прохладного уголка, хлеб высыхает, молоко скисает, окна открыть нельзя. Мы, несчастные изгнанники, задыхаемся здесь, в то время как другие празднуют Троицу». (Разумеется, монолог госпожи ван Даан).
Понедельник. «Мои ноги болят, у меня нет легкой одежды, я не в состоянии мыть посуду при таком пекле!» И в таком духе с утра до вечера. И в самом деле, было невыносимо.
Мне тоже в жару трудно, и я рада, что сегодня дует довольно сильный ветер, хотя солнце до сих пор светит вовсю.
Анна Франк.
Пятница, 2 июня 1944 г.
Дорогая Китти,
Если идешь на чердак, то необходимо захватить зонтик и, желательно, большой — чтобы не промокнуть в случае дождя! Пословица «Выше — суше, ближе к небу — тише» во время бомбежки и для затворников вроде нас неверна.
Хотя бы из-за котов. Муши усвоил привычку использовать газеты на чердаке в качестве личного туалета. Мы опасаемся, что кто-то из соседних домов его услышит, а главное боимся невыносимой и стойкой вонищи. К тому же новый Моффи со склада последовал примеру товарища. Только владельцы котов, пережившие похожую ситуацию, могут представить себе, какие запахи (кроме перца и пряностей) наполняют наш дом. Еще хочу поделиться своим открытием: как вести себя во время обстрелов. Помчаться к ближайшей деревянной лестнице и бегать по ней вверх и вниз, иногда мягко падая. Беготня и падения отвлекают и создают столько шума, что о выстрелах забываешь. Этот замечательный метод был с успехом опробован твоей корреспонденткой!
Анна Франк.
Понедельник, 5 июня 1944 г.
Дорогая Китти,
Напишу тебе о последних новостях Убежища. Во-первых, ссора между Дюсселем и Франками о распределении масла. Во-вторых, крепкая дружба между госпожой ван Даан и вышеупомянутым господином — флирт, смешки, поцелуйчики. У Дюсселя проснулся интерес к женщинам!
Ван Дааны не хотят печь коврижку ко дню рождения Куглера, потому что сами коврижек не едят. Такая мелочность!
Наверху хандра: госпожа простужена. Дюсселя застигли на употреблении дрожжевых таблеток, которыми он не поделился с нами. Пятая армия захватила Рим. Город не пострадал от бомб и не разорен: неплохая пропаганда для Гитлера!
Мало овощей и картофеля, гнилой хлеб.
Схарминка, наша новая кошка, не переносит перца. Она спит на ящике, который служит ее туалетом. А в качестве туалета использует ящик с упаковочным материалом. Отучить невозможно.
Плохая погода. Не прекращающиеся обстрелы Па-де-Кале и всего французского побережья.
Доллары продать невозможно, с золотом еще сложнее, и уже видно дно нашей черной кассы. На что мы будем жить в следующем месяце?
Анна Франк.
Вторник, 6 июня 1944 г.
Милая Китти,
«This is D-day» [13] — возвестило английское радио. И это так: сегодня началась высадка!
Еще по радио передали сообщения о тяжелых бомбардировках Кале, Булони, Гавра, Шербура и Па-де-Кале и о мерах безопасности для оккупированных территорий. Население в радиусе тридцати пяти километров от моря должно быть готово к обстрелам, по возможности англичане заранее сбросят памфлеты.
Согласно немецкому радио английские парашютисты приземлились на французском берегу. А по сообщению Би-би-си: «Английские десантные суда сражаются с немецкой морской пехотой». В девять часов за завтраком мы все решили, что это пробный десант, как два года назад в Дьеппе.
Но в десять часов английское радио сообщило на немецком, голландском, французском и других языках, что высадка действительно началась! Значит, в этот раз настоящая! В одиннадцать часов — английская передача на немецком языке: речь верховного главнокомандующего генерала Эйзенхауэра.
Английская передача на английском языке. «This is D-day». Генерал Эйзенхауэр сказал французскому народу: «Нам предстоит жестокая битва, но она закончится победой. 1944 год — год полной победы. Желаю успеха!».
Английское радио в час дня: 11.000 самолетов стоят наготове, совершают бесперебойные полеты для высадки войск и обстрела тылов. 4000 десантных и малых морских судов непрерывно доставляют на берег между Шербуром и Гавром войска и боеприпасы. Английские и американские войска уже участвуют в ожесточенных боях. Также передали выступления Гербранди, премьер-министра Бельгии, короля Норвегии, Де Голля от французов, английского короля и, разумеется, Черчилля.
P.S. Все в Убежище чрезвычайно взволнованы! Неужели, действительно, придет долгожданное освобождение, которого мы так давно ждем? Это кажется слишком прекрасным и сказочным, чтобы быть правдой! Станет ли этот 1944 год годом победы? Мы этого еще не знаем, но надежда помогает жить, придает силы и мужество. Мы должны быть готовы к предстоящим лишениям, страхам и горестям, выстоять их достойно, сжав кулаки, а не кричать от отчаяния.
Кричать имеют сейчас право Франция, Россия, Италия, да и Германия, но не мы!
О Китти, самое замечательное в наступлении, это надежда, что мы скоро увидим друзей. После того как ужасные немцы под страхом смерти заставляли нас скрываться, освобождение и встреча с друзьями стали основным нашим стремлением! Теперь главное — не евреи, а вся Голландия и вся Европа. Марго говорит, что может быть, в сентябре-октябре мы сможем пойти в школу.
Анна Франк.
P.S. Я буду держать тебя в курсе последних событий! Ночью и сегодня утром в тыл немцев с самолетов были спущены манекены и соломенные чучела, которые взорвались, коснувшись земли. Также спускается много парашютистов, они вымазаны черным, чтобы их ночью не заметили. Утром в шесть часов высадились первые десантники, а перед этим на побережье было сброшено пять миллионов килограмм бомб. Двадцать тысяч самолетов вступили в бой. Уже до высадки прибрежные батареи немцев были выведены из строя, образовался небольшой плацдарм. Все проходит замечательно, несмотря на плохую погоду.
Армия и народ объединены единой волей, единой надеждой.
Пятница, 9 июня 1944 г.
Дорогая Китти,
Десант проходит более, чем успешно! Союзники заняли Байн, деревню на французском побережье, и сейчас отвоевывают Кайен. Задача ясна: отрезать полуостров, на котором расположен Шербур. Каждый вечер военные обозреватели рассказывают об энтузиазме и мужестве солдат, о трудностях, невероятных подвигах, а также о раненых, которых уже перевезли в Англию — некоторые их них выступили по радио. Вопреки скверной погоде налеты продолжаются. Мы слышали по Би-би-си, что Черчилль сам хотел принять участие в высадке, и отказался от этого лишь под давлением Эйзенхаура и других генералов. Подумать только, какой он храбрый — ведь ему не меньше семидесяти!
Возбуждение немного улеглось, и все же мы надеемся на победу к концу года. Госпожу ван Даан с ее хандрой вынести невозможно, сейчас нытье о десанте сменилось жалобами на плохую погоду. Так и хочется посадить ее в ведро с холодной водой на чердаке!
Все обитатели Убежища за исключением ван Даана и Петера прочитали трилогию «Венгерская рапсодия». В этой книге рассказывается о судьбе композитора, виртуоза и гения Ференца Листа. Роман очень интересный но, по моему мнению, слишком много внимания уделяется женщинам. Лист был не только великим пианистом, но и — даже в свои семьдесят лет — величайшим соблазнителем своего времени. У него был роман с графиней Мари д’Агу, Каролиной Сайн-Витгенштейн, танцовщицей Лолой Монте, пианисткой Агнес Кингворс, пианисткой Софи Ментер, черкесской княгиней Ольгой Яниной, баронессой Ольгой Мейендорф, актрисой Лиллой (фамилию забыла) — и это еще далеко не полный список. Страницы книги, посвященные музыке и другим видам искусства, гораздо занимательнее. Героями книги являются также Шуман и Клара Вик, Гектор Берлиоз, Иоганн Брамс, Бетховен, Йоахим, Рихард Вагнер, Ханс фон Бюлов, Антон Рубенштейн, Фредерик Шопен, Виктор Гюго, Оноре де Бальзак, Гиллер, Гуммель, Черни, Россини, Керубини, Паганини, Мендельсон и еще многие другие.
Лист был, в общем, славным малым — великодушным, непритязательным, хотя и чрезмерно гордым. Он выше всего ставил искусство, обожал коньяк и женщин, не выносил слез, был истинным джентльменом, никому не мог отказать в услуге, презирал деньги, стоял за свободу вероисповедания и любил весь мир.
Анна Франк.
Вторник, 13 июня 1944 г.
Дорогая Китти,
Вот и прошел мой день рождения. Мне исполнилось пятнадцать. Я получила довольно много подарков: пять томов истории искусств Шпрингера, комплект белья, два пояса, носовой платок, две баночки йогурта, джем, две маленькие медовые коврижки, ботанический справочник от папы и мамы, браслет от Марго, душистый горошек от Дюсселя, леденцы от Мип, сладости и тетради от Беп и самое главное — книгу «Мария Терезия» и три ломтика настоящего сыра от Куглера. Петер преподнес чудесный букетик пионов; бедный мальчик из-за всех сил старался достать что-то особенное, но безуспешно.
Наступление по-прежнему проходит удачно, несмотря на ужасную погоду, бесконечные штормы, проливные дожди и высокий уровень моря.
Черчилль, Смэтс, Эйзенхауер и Арнольд посетили вчера французские деревни, освобожденные англичанами. Черчилль побывал также на торпедном катере, обстреливающем берег: похоже, что этому человеку неизвестен страх, чему можно позавидовать! Понять настроение голландцев, находясь в нашем укрытии, непросто. Конечно, все рады, что англичане после долгого бездействия, наконец, взялись за дело. Но многие глубоко заблуждаются, когда заявляют, что не желают английской оккупации. По их мнению, Англия должна воевать, сражаться и посылать на гибель своих солдат ради освобождения Нидерландов и других оккупированных территорий. А после этого немедленно удалиться в свою разоренную и обедневшую страну, выразив всем освобожденным государствам свои извинения и не предъявив прав на Индию. Только болван может так думать, и оказывается, таких болванов среди голландцев немало.
Ведь что бы произошло с Нидерландами и соседними странами, если бы Англия — что часто предполагалось — заключила бы с Германией мир? Голландия стала бы немецкой, и баста! Всех нидерландцев, которые свысока смотрят на англичан, обвиняют их в трусости, ругают английское «стариковское» правительство, надо хорошенько потрясти, как встряхивают подушки. Может, это поможет их окончательно запутавшимся мозгам!
Меня переполняют самые разные мысли, обвинения, обиды и желания! Я вовсе не так самоуверенна, как думают многие, я знаю свои бесчисленные ошибки и недостатки лучше, чем кто-либо, но с тем отличием, что хочу их исправить, хочу стать лучше, и это мне уже частично удалось!
Я часто спрашиваю себя: почему же до сих пор все считают меня чрезмерно упрямой и нескромной? Разве я так упряма? А может, как раз другие таковы?
Как ни странно это звучит, я не зачеркну последнее предложение: я совсем не считаю его безрассудным. Госпожа ван Даан и Дюссель — мои главные обвинители — не отличаются, как известно высокой интеллигентностью, и не побоюсь сказать, что они просто глупы! Недалекие люди, обычно, не могут пережить, что кто-то преуспевает лучше их, и лучший пример того два наши глупца — госпожа ван Даан и Дюссель. Госпожа считает меня неумной, потому. что сама тупее во много раз. Она обвиняет меня в нескромности, которой сама же и отличается; считает мои платья слишком короткими, в то время, когда ее собственные еще короче; приписывает мне упрямство, хотя сама многократно высказывает свое мнение о предметах, в которых совершенно не разбирается. То же самое можно сказать о Дюсселе. Но я не забываю свою любимую пословицу: «В каждом упреке есть доля правды» и признаю, что я, в самом деле, упряма.
В этом-то и сложность моего характера, что никто так часто не критикует и не ругает меня, как я сама. А если мама прибавляет к этому свои рекомендации, и количество проповедей становится непомерным, то я теряюсь, начинаю противоречить, дерзить и возвращаюсь к любимому Анниному заключению: «Никто меня не понимает!».
Я слишком часто повторяю эти слова, но разве они не верны? Мои самобичевания иногда достигают такой силы, что мне просто необходим человек, который понял бы мой внутренний мир, утешил меня, помог разобраться в собственных мыслях. Увы, можно долго искать, но найдешь ли?
Я знаю, что ты сейчас думаешь о Петере, не так ли, Кит? Петер любит меня не как возлюбленный, а как друг, и его привязанность растет с каждым днем. Но вот странно: что-то нас обоих останавливает, и я сама не могу в этом разобраться.
Иногда мне кажется, что я уже меньше привязана к нему, но это не так: ведь если я два дня не была наверху, то меня тянет туда с удвоенной силой.
Петер добрый и славный. Но я не могу отрицать, что во многом он меня разочаровывает. Например, его неверие, бесконечные разговоры о еде и еще многие черты. Тем не менее, я убеждена, что мы, как и договаривались, никогда не поссоримся. Петер миролюбив, покладист и терпим. Он терпеливо выслушивает от меня замечания, которые ни за что бы не потерпел от матери.
Петер упорный и аккуратный, но почему он не пускает меня в свою душу? У него гораздо более замкнутый характер, чем у меня, но я знаю из опыта, что даже самым закрытым натурам в какой то момент необходимо кому-то довериться. И я, и Петер выросли и повзрослели в Убежище, и сейчас мы часто беседуем о будущем, прошлом и настоящем, но как я уже сказала, чего-то главного мне недостает, а оно существует — я знаю!
Не из-за того ли, что я так долго сижу здесь в четырех стенах, для меня все больше значит природа? Ведь раньше меня мало интересовали небо, цветы, поющие птицы и свет луны. А сейчас иначе. Например, в Троицу, когда было так жарко, я с трудом заставляла себя не спать до пол двенадцатого, чтобы еще раз увидеть луну через открытое окно. И к сожалению, напрасно, потому что как раз из-за яркого лунного света открывать окно было слишком рискованно. Я раньше никогда не спускалась вниз, когда окна там были открыты. Но темные дождливые вечера, непогода, бегущие облака так влекли меня, что впервые за полтора года я решилась взглянуть ночи в лицо. И после того раза мне так хотелось повторения, что это желание оказалось сильнее страха перед ворами и крысами. Я часто в одиночестве спускаюсь в контору и из окна директорского кабинета или кухни смотрю наружу. Многие любят природу, охотно спят под открытым небом; заключенные или пациенты больниц ждут с нетерпением выхода на волю, когда они снова смогут наслаждаться природой без ограничений. Но не так много людей, которые подобно нам, с нашими стремлениями и тоской, лишены того, что одинаково доступно всем бедным и богатым.
Нет, это не пустая выдумка, что взгляд на небо, облака, луну и звезды успокаивает и вселяет надежду. Этот способ гораздо лучше валерьянки или брома, он помогает смириться с настоящим и мужественно переносить предстоящие удары!
Но увы, мне суждено смотреть наружу через запыленные и занавешенные окна, что уже не доставляет удовольствия. Природа — это единственное, что не переносит подделок!
Один из многих вопросов, которые занимают в последнее время: почему раньше, да и сейчас женщина в обществе, как правило, стоит на более низкой ступени по сравнению с мужчиной. Все признают несправедливость такого положения, но для меня это недостаточно, я бы хотела доискаться до его причины!
Возможно, раньше мужчины, физически более сильные, имели превосходство над женщинами: мужчина зарабатывал деньги, зачинал детей, и был хозяином.
Очень глупо со стороны женщин допустить все это, ведь чем дольше существуют правило, тем незыблемее оно становится. К счастью, благодаря школе, работе и прочему прогрессу у женщин раскрылись глаза. Во многих странах женщины получили равные права, и многие из них, а также мужчины осознали, какое несправедливое разделение мира существовало так долго, и теперь современные женщины борются за свои права и полную независимость!
Но это еще не все — женщину еще должны признать и оценить! До сих пор во всех частях света было принято чествовать мужчин, но почему женщины всегда оставались в стороне? Солдатам и героям войны отдавали почести, превозносили ученых, преклонялись мученикам, но какая часть всего человечества признает женщину, как активного члена общества?
В книге «Борцы за жизнь» есть рассуждения, очень впечатлившие меня: о том, что женщина за свою жизнь испытывают больше страданий и боли уже только при родах, чем любой герой войны. И какую награду получает она за пережитые мучения? Если она становится инвалидом после родов, то она теряет свою красоту, а детей у нее отнимают. Женщины борются и страдают за продолжение рода, и они намного отважнее и мужественнее солдат и борцов за свободу с их пустым красноречием.
Я вовсе не против материнства, ведь так задумано природой и поэтому должно быть правильно. Я лишь осуждаю мужчин и весь мировой порядок, при котором огромный, непростой и в то же время прекрасный женский вклад в общественное развитие никогда не ценился по-настоящему.
Я также полностью согласна с Паулем де Крайфом, автором вышеупомянутой книги в том, что даже самые цивилизованные народы рассматривают роды, как естественный и обычный процесс. Мужчинам легко говорить, ведь они не переживают тех же мук!
Я верю, что в течение следующего столетия прежнее отношение уступит место уважению к женщинам и восхищению перед тем, как они безропотно и достойно несут свой крест!
Анна Франк.
Пятница, 16 июня 1944 г.
Дорогая Китти,
Новая проблема: госпожа ван Даан впала в тоску: только и говорит, что о пуле в лоб, тюрьме, виселице и самоубийстве. Она ревнует Петера ко мне за то, что тот уделяет мне больше внимания, чем ей. Дуется на Дюсселя, игнорирующего ее заигрывания. Боится, что ее супруг спустит меховую шубку за табак, ссорится, ругается, плачет, обвиняет себя же, смеется и снова затевает ссору. С этим вечно хлюпающим существом договориться невозможно. Ее никто не воспринимает всерьез: она бесхарактерна, всегда жалуется, к тому же перестала следить за собой. И становится еще невыносимее, поскольку Петер дерзит, господин ван Даан раздражается, а мама иронизирует. Ну и обстановочка! Нет, выжить можно только, высмеивая все и не докучая другим!
Звучит эгоистично, но это единственное лекарство против жалости к самой себе.
Куглера посылают на четыре недели на земляные работы в Алкмар, он пытается освободиться посредством справки от врача и письма с фирмы. Кляйман скоро ляжет в больницу на операцию желудка. Вчера в одиннадцать часов во всем городе отключили личные телефоны.
Анна Франк.
Пятница, 23 июня 1944 г.
Дорогая Китти,
Никаких особенных событий. Англичане начали обширное наступление на Шербур, по мнению Пима и ван Даана, к 10 октября нас точно освободят.
Русские тоже участвуют в этой операции, вчера они начали наступление на Витебск, точно три года спустя после нападения Германии.
Настроение Беп по-прежнему ниже нуля. У нас кончается картошка, поэтому мы решили разделить остаток на восемь частей, и теперь каждый сможет сам распоряжаться своей долей. Мип возьмет в понедельник неделю отдыха. Врачи Кляймана не нашли на его рентгеновском фото никаких отклонений. Он сомневается: решиться на операцию или довериться судьбе и отказаться от лечения.
Анна Франк.
Вторник, 27 июня 1944 г.
Милая Китти,
Настроение приподнятое: дела на фронте развиваются, как нельзя лучше.
Сегодня захвачены Шербур, Витебск и Жлобин. Разумеется, много трофеев и пленных. Под Шербуром погибло пять генералов, двое взяты в плен. Теперь англичане могут доставлять на сушу все, что хотят: у них есть порт Котантен, взятый через три недели после начала высадки. Огромный успех!
Все три последние недели не было ни дня без дождя и сильного ветра, как у нас, так и во Франции, но это не помешало французам и американцам показать, и еще как показать свою силу! Фау-патроны (немецкое чудо-оружие) действуют вовсю, но наносят лишь небольшой урон Англии, зато вовсю превозносятся немецкими газетами. Представляю, как немцы трясутся от страха сейчас, когда большевистская опасность, действительно, приближается.
Всех немецких женщин и детей, не работающих на оборону, эвакуируют с прибрежной полосы в Гронинген, Фрисланд и Гелдерланд. Муссерт [14] заявил, что если наступление дойдет до нас, то он наденет военную форму. Не собирается ли этот толстяк воевать? Почему же он не сделал этого раньше — в России? Финляндия отказалась в свое время от заключения мира, и сейчас переговоры прекращены. Вот дураки, они еще пожалеют об этом!
Как ты думаешь, что будет с нами через месяц — 27 июля?
Анна Франк.
Пятница, 30 июня 1944 г.
Дорогая Китти,
Отвратительная погода, англичане сказали бы «Bad weather from one at a stretсh to the thirty June». Как тебе мой английский? Правда, неплохо? Чтобы это доказать, я читаю «Идеального мужа» со словарем. Дела на фронте развиваются блестяще: Бобруйск, Могилев и Орша отвоеваны, много пленных. Здесь все в норме. Нытье продолжается, а наши непоколебимые оптимисты ликуют. Ван Дааны колдуют с сахаром, Беп сменила прическу, а Мип ушла на неделю в отпуск. Это последние новости!
Мне пришлось пережить удаление зубного нерва, да еще на переднем зубе.
Боль ужасная, даже Дюссель удивился, что я выдержала. И подумать только: у госпожи ван Даан тоже разболелись зубы!
Анна Франк.
P.S. Новости из Базеля: Бернд [15] сыграл роль трактирщика в «Минне фон Барнхельм». «Пробы начинающего артиста» — сказала мама.
Четверг, 6 июля 1944 г.
Дорогая Китти,
Я пугаюсь, когда Петер говорит, что в будущем, возможно, станет преступником или спекулянтом. Конечно, он шутит, но по-моему, сам боится своего слабоволия. Все чаще слышу от Марго и Петера примерно следующее: «Мне бы твои сила, воля, энергия и целеустремленность… Я бы тогда…!»
Действительно ли это мое достоинство, что я не поддаюсь чужому влиянию?
Правильно ли, что исхожу лишь из собственных побуждений? Честно говоря, не могу себе представить, что кто-то признает: «Я слабый», и при этом слабым остается. Ведь если он это знает, почему не борется и не закаляет свой характер? А вот, что мне ответил Петер: «Потому что так удобнее». Такой ответ меня обескуражил. То есть как? Удобная жизнь обманщика и лентяя? Нет, не может быть, чтобы бездействие и деньги так прельщали. Я долго раздумывала о том, что правильно ответить Петеру, как заставить его поверить в себя и измениться к лучшему. Но не знаю, верен ли будет мой совет. Я так часто представляла себе, что кто-то мне полностью доверяется, но теперь, когда это произошло, понимаю, как трудно проникнуть в мысли другого и найти правильный ответ. Тем более, деньги и удобства — далекие и чуждые для меня понятия. Петер все больше ищет во мне поддержку, а этого не должно быть ни при каких обстоятельствах. В жизни не просто встать на собственные ноги, да еще достичь цели, особенно с таким характером, как у Петера.
Я все сомневаюсь и уже долгие дни ищу возражения против этого ужасного слова «удобно». Как доказать ему, что кажущийся простым и заманчивым путь влечет на дно, где нет ни друзей, ни помощи, и подняться откуда будет почти невозможно?
Мы все живем, сами не зная, почему и зачем, и хотим счастья, мы все разные, но в чем-то похожи. Мы, трое, выросли в интеллигентной среде, у нас была возможность учиться, и мы вполне можем стать счастливыми, но… должны сами этого добиться. Чтобы заслужить счастье, надо трудиться, быть честным и добросовестным, а не лентяйничать или спекулировать. Пассивность только кажется приятной, но лишь работа приносит удовлетворение.
Я не могу понять людей, которые не любят работать, но ведь Петер не такой, у него просто нет ясной цели перед глазами, и он считает себя слишком ничтожным и глупым. Бедный мальчик, он до сих пор не знает, что значит делать счастливыми других, и я не могу его этому научить. Он не верит в Бога, насмешливо высказывается об Иисусе Христе, богохульствует. И хоть я не фанатична в своей вере, мне каждый раз больно подтверждение того, как он одинок, убог и беден духом.
Неверующие могут быть довольны, потому что вера в высшее дана не каждому. Совсем не обязательно бояться божьей кары после смерти, адского огня — в существовании ада и рая вообще многие сомневаются. Но религия, не важно какая, удерживает человека не праведном пути — не из-за страха перед Господом, а ответственностью перед собственными совестью и нравственностью.
Какими добрыми и прекрасными стали бы все люди, если бы они каждый вечер, перед тем как заснуть, припоминали все события дня и оценили свое — хорошее или плохое — участие в них. Тогда невольно, с каждым днем, становишься немного лучше и со временем достигаешь чего-то значительного. Этот простой способ доступен всем, стоит небольших усилий, зато очень действенный. Каждый должен поверить в истину: «Силен тот, у кого чистая совесть!».
Суббота, 8 июля 1944 г.
Брукс приобрела на аукционе в Бефервайке клубнику. Она поступила в контору очень запыленная, вперемежку с песком, но зато в огромном количестве. Не меньше двадцати четырех ящиков для фирмы и для нас. Сегодня же вечером мы законсервируем шесть банок свежих ягод и сварим восемь банок джема. А завтра утром Мип будет готовить джем для конторы.
В пол первого, как только за последним рабочим захлопнулась входная дверь, папа, Петер и ван Даан бросились вниз по лестнице — за ящиками. Анна между тем набирала горячую воду из крана, а Марго уносила ведра. Все при деле! С каким-то странным ощущением я вошла в заполненную народом кухню конторы: там уже были Мип, Беп, Кляйман, Ян, папа, Петер — в общем, почти все обитатели Убежища и их помощники, и это среди белого дня! Шторы и окна открыты, каждый говорит в полный голос, хлопает дверями — у меня даже началась дрожь от волнения. «Собственно, скрываемся ли мы еще?» — спросила я себя. Наверно, такое же чувство я испытаю, когда в действительности окажусь на воле. Набрав полную кастрюлю, я быстро поднялась наверх, где в кухне у стола меня уже ждали. Мы принялись перебирать и чистить ягоды — если можно так сказать, поскольку больше исчезало во ртах, чем в ведре. Вскоре понадобилась новая порция клубники, Петер побежал за ней вниз, но тут два раза позвонили во входную дверь, и все работы приостановились. Петер вернулся, закрыв за собой нашу потайную дверь. Мы топтались на месте от нетерпения, но не могли пользоваться водопроводом и только смотрели на ягоды. Святое правило: «Посторонние в доме — не открывать краны» должно неукоснительно выполняться.
В час явился Ян и сообщил, что приходил почтальон. Петер ринулся вниз, но новый звонок заставил его вернуться. Я стала прислушиваться на лестнице: кто же пришел. В конце концов, мы с Петером подобно двум ворам, перегнулись через перила, пытаясь разобрать звуки снизу. Так как чужих голосов не доносилось, Петер осторожно спустился на несколько ступенек и позвал: «Беп!». Потом еще раз: «Беп!». Но шум снизу перекрывал его голос. Петер дошел до кухни, однако вскоре в панике вернулся: Кляйман предупредил его, что в конторе ревизор. Снова дверь на замок и томительное ожидание. Наконец, в половине второго появился Куглер. «Ах нет, и здесь то же самое. Сегодня на завтрак я ел клубнику, Ян объедается клубникой, Кляйман смакует клубнику, Мип варит клубничный джем, Беп перебирает ягоды. Хочу избавиться от этого красного проклятья, поднимаюсь к вам, и что вижу?… Клубнику!». Часть ягод закатали, но две банки открылись, и папа спешно приготовил из них джем. Днем еще четыре банки открылись: ван Даан плохо простерилизовал их. Теперь папа каждый вечер варит джем. Мы едим кашу с клубникой, кефир с клубникой, бутерброды с клубникой, клубнику на десерт… Две недели перед глазами сплошная клубника, пока не кончился запас, а все законсервированные ягоды уже давно стоят под замком.
«Слушай, Анна, — позвала Марго, — мы получили от госпожи ван Хуфен девять килограмм горошка». «Как любезно с ее стороны!» — отвечаю я. В самом деле, любезно, но сколько работы! «Утром в субботу все чистят горошек», — объявила мама за столом. И, действительно, в субботу во время завтрака на стол водрузили большую эмалированную кастрюлю, доверху наполненную стручками. Лущить горошек — скучнейшая работа, тонкую верхнюю кожицу очень трудно отделить, но мало кто знает, какая она вкусная, нежная и богатая витаминами! Однако эти три преимущества теряют свою силу перед тем обстоятельством, что порция очищенного горошка в три раза меньше его первоначального количества в стручках. Лущить горошек — работа, требующая точности и терпения, она подходит скрупулезным зубным врачам или знатокам трав и пряностей, но не девочке-подростку. Это было ужасно! В пол десятого мы начали, в пол одиннадцатого я сделала перерыв, в одиннадцать снова взялась за дело, но в пол двенадцатого уже вымоталась из сил. У меня буквально голова закружилась от вечной однообразной процедуры: надрезать уголочек, отделить кожицу, вытащить ниточку, выбросить стручок, и так далее, и так далее. Только вертятся перед глазами зеленое, зеленое, червячок, ниточка, гнилой стручок и снова сплошная зелень. От отчаяния болтаю всякий вздор, довожу всех до смеха и чувствую, как бесконечная тупость затягивает меня в бездну. Каждая очищенная горошина еще раз убеждает меня, что никогда, никогда я не стану только домашней хозяйкой!
В двенадцать мы, наконец, идем завтракать, чтобы в пол первого снова засесть за стручки. У меня начинается что-то вроде морской болезни и кажется, у остальных тоже. В четыре часа я ложусь спать еще во власти опротивевшего горошка.
Анна Франк.
Суббота 15 июля 1944 г.
Дорогая Китти,
Нам из библиотеки принесли книгу с интригующим названием «Что вы думаете о современной девушке?» Сегодня я и хочу поговорить на эту тему. Писательница беспощадно критикует «современную молодежь», и в то же время не отвергает ее совершенно и не считает никчемной. Наоборот, уверяет, что молодые, если захотят, смогут построить новый лучший мир, и что они на это способны, но заняты пустыми вещами, не замечая прекрасное вокруг.
При каждом новом абзаце мне все больше казалось, что он обращен именно ко мне, что писательница критикует меня. Вот я и хочу, наконец, выступить в собственную защиту. У меня есть одна особая черта, известная тем, кто хорошо меня знает: я могу смотреть на себя со стороны. Без предубеждений и поблажек я ежедневно сужу о том, что Анна сделала хорошо, а что плохо. Это самонаблюдение прочно вошло в привычку: стоит мне произнести слово, как я уже знаю, верно оно или ошибочно. Я очень часто порицаю саму себя и все больше убеждаюсь в справедливости папиных слов: «Каждый ребенок должен сам себя воспитывать». Родители могут лишь направить, дать хороший совет, но истинное формирование характера в твоих собственных руках. А ведь во мне немало жизненной силы, я молодая и свободная и могу много вынести! Когда я открыла это в себе, то очень обрадовалась: я поверила, что не склонюсь без борьбы перед жизненными трудностями, с которыми каждому приходится сталкиваться.
Но об этом я уже говорила достаточно, а сейчас хочу остановиться на главе: «Папа и мама меня не понимают». Родители всегда очень меня баловали, были добры и ласковы, защищали, в общем, делали все, что могут сделать хорошие родители. Но несмотря на это я долгое время чувствовала себя ужасно одинокой, заброшенной и непонятой. Папа все пытался усмирить мое своенравие, но безрезультатно. Я сама исправилась, учась на собственных ошибках.
Как же так случилось, что папа не смог поддержать меня, и его попытки — протянуть мне руку помощи — окончились провалом? Папа выбрал неправильный путь: он всегда говорил со мной, как с ребенком, переживающим детские трудности. Это кажется странным, потому что именно отец уделял мне всегда столько внимания, и никто как другой, сумел заставить меня поверить в собственные силы. Но одну вещь он не понял: как важно было для меня победить трудности. Я совсем не хотела слышать от него утешения типа «возрастные явления», «и у других девочек», «пройдет со временем», я хотела, чтобы со мной обращались не как с девчонкой, одной из многих, а как с Анной, личностью. Пим не смог этого понять. И еще: я не могу довериться тому, кто сам полностью не раскрылся передо мной, а поскольку про Пима я почти ничего не знаю, настоящая близость между нами невозможна. Пим занял позицию умудренного жизненным опытом отца, который тоже когда-то мечтал и сомневался, и сейчас сочувствует современной молодежи. Но по-настоящему понять меня он не смог, как не пытался. Это научило меня никому не доверять свои жизненные наблюдения и выводы, кроме дневника, и иногда — Марго. От папы я скрывала то, что волновало меня, никогда не делилась с ним своими идеалами и сознательно отдалилась от него.
Иначе нельзя было, я действовала, исходя из собственных чувств, возможно, эгоистично, но так мне было хорошо и спокойно. Мои покой и уверенность достигнуты с огромным трудом и еще так не прочны, что могли бы сломаться под напором критики, тогда как моя работа над собой еще не закончена. А ею я не пожертвовала бы даже для Пима, я не только не пустила его в свою внутреннюю жизнь, но и из-за своей раздражительности отдалилась от него все больше. Вот этот вопрос меня очень мучает: почему я так злюсь на Пима? Я его сейчас просто не выношу, его ласки кажутся мне неискренними, и мне хочется, чтобы он оставил меня в покое, пока я не стану достаточно уверенной! До сих пор я не могу простить себе того жестокого письма, которое я в запальчивости написала ему. Ах, как трудно быть сильной во всем!
Но это не самое большое мое разочарование. Гораздо больше, чем о папе, я мучаюсь мыслями о Петере. Я прекрасно знаю, что сама завоевала его, а не он меня, я создала из него идеальную картину скромного, милого и ранимого мальчика, так нуждающегося в любви и дружбе. И мне самой необходимо было выговориться перед кем-то! Я искала друга, который поддержал бы меня, я проделала большую работу, в результате чего Петер медленно, но верно приблизился ко мне. После того, как я позволила ему выразить свои дружеские чувства, наши отношения само собой стали более интимными, но сейчас я осознала, что этого нельзя было допустить. Мы говорили на разные запретные темы, но молчали о том, что лежало у меня на сердце. Я до сих пор не могу понять Петера: или он такой поверхностный, или его сдерживает застенчивость?
Но как бы то ни было, я совершила ошибку: позволив ему интимности, я закрыла путь для развития нашей дружбы. Он жаждет любви и с каждым днем привязывается ко мне все больше — я слишком хорошо это вижу! Он счастлив каждый раз, оставаясь со мной наедине, для меня же эти встречи означают новые и напрасные попытки коснуться волнующих меня вопросов. Петер и не сознает до конца, что я почти насильно притянула его к себе, и теперь цепляется за меня, а я пока не вижу возможности снова отдалить его. С тех пор, я поняла, что он не сможет стать для мне настоящим другом, я стараюсь помочь ему вырваться из его ограниченного мира и почувствовать свою молодость.
«… Потому что на самом деле одиночество в молодости острее, чем в старости». Эту фразу я прочитала в какой-то книжке и нахожу ее очень верной.
Разве взрослым в Убежище труднее, чем детям? Нет, как раз наоборот.
Люди постарше составили уже суждение обо всем и не колеблются в решениях. А нам, молодым, вдвойне тяжелее отстаивать свое мнение в то время, когда рушатся идеалы, люди проявляют свою подлую сущность, и нет больше твердой веры в правду, справедливость и Бога.
И если кто-то все же утверждает, что взрослым в Убежище тяжелее, то он не имеет представления о том, какое огромное количество трудностей наваливается здесь на нас, молодых. У нас еще слишком мало опыта для их решения проблем, и если мы после долгих поисков все же находим выход, то часто на поверку он оказывается ошибочным. Сложность нашего времени в том, что стоит только возникнуть идеалам, новым прекрасным надеждам, как жестокая действительность уничтожает их. Удивительно, что я еще сохранила какие-то ожидания, хотя они и кажутся абсурдными и неисполнимыми. Но я сберегла их несмотря ни на что, потому что по-прежнему верю в человеческую доброту. Я не могу строить свою жизнь на безнадежности, горе и хаосе. Я вижу, как мир постепенно превращается в пустыню, и настойчиво слышу приближающийся гром, несущий смерть, я ощущаю страдания миллионов людей, и все же, когда я смотрю на небо, то снова наполняюсь уверенностью, что хорошее победит, жестокость исчезнет и мир восстановится.
А пока я не откажусь от своих идеалов: ведь могут прийти времена, когда их можно будет осуществить!
Анна.
Пятница 21 июля 1944 г.
Дорогая Китти,
Теперь и я полна надежд: наконец-то у нас, действительно, хорошие новости! Прекрасные новости! Самые лучшие! На Гитлера совершено покушение — и не еврейскими коммунистами или английскими капиталистами, а немецким генералом, графом по происхождению и к тому же еще молодым. «Божье проведение» спасло жизнь фюрера, отделавшегося, к сожалению, несколькими царапинами и ожогами. Несколько офицеров и генералов из его окружения убито или ранено. Главного виновника расстреляли.
Происшедшее — лучшее доказательство того, что множество офицеров и генералов по горло сыты войной и хотят отправить Гитлера ко всем чертям, а потом установить военную диктатуру, заключить мир с союзниками и лет через двадцать снова начать войну. Возможно, провидение намеренно отсрочило уничтожение Гитлера, поскольку для союзников так удобнее и выгоднее: «чистокровные» немцы сами поубивают друг друга, а русские и англичане смогут скорее восстановить свои города. Но всему этому черед еще не пришел, я слишком спешу с радостными выводами. И все же, заметь: то, что я пишу — чистая правда. Так что в порядке исключения, я не строю в этот раз несбыточных идеалов.
Далее Гитлер проявил величайшую любезность, объявив своему верному и преданному народу, что с сегодняшнего дня все военные поступают в подчинение Гестапо, и каждый солдат, узнавший, что его командир принимал участие в том позорном и низменном покушении, может собственноручно пристрелить его!
Хорошенькое получается дело! Представь себе: Пит Вайс устал и еле тащится в строю, за что командир прикрикивает на него. А Пит в ответ поднимает свой автомат и заявляет: «Ты покушался на фюрера, вот за это и поплатишься!». Раздается выстрел, и высокомерный командир, осмелившийся приструнить Пита, перешел в вечную жизнь (или в вечную смерть). В итоге господа офицеры наложат в штаны от страха перед солдатами, оказавшись фактически в их власти. Ясны тебе мои фантазии, или я совсем расшалилась?
Ничего не могу поделать, мне слишком весело от мысли, что уже в октябре я, вероятно, сяду за парту! Ах, да, я же обещала тебе не загадывать вперед. Не сердись, пожалуйста, ведь на зря меня называют клубком противоречий!
Анна.
Вторник 1 августа 1944 г.
Дорогая Китти,
«Клубок противоречий!» Так кончается предыдущее письмо и начинается сегодняшнее. «Клубок противоречий» — можешь ли ты объяснить мне, что это такое? Какое именно противоречие? Это слово, как и многие другие, имеет два значения: внешнее и внутреннее. Первое означает: не соглашаться с мнением других, настаивать на своем, оставлять за собой последнее слово, в общем, все мои общеизвестные и малоприятные черты. Что же касается второго значения, то об этом никто ничего не знает, это моя тайна.
Я и раньше говорила тебе, что моя душа как бы раздвоена. Одна половина состоит из необузданной веселости, насмешек, жизнерадостности и главное — легкому ко всему отношению. И еще я позволяю себе флирт, поцелуи и недвусмысленные шутки. Именно эта моя сторона бросается в глаза и скрывает другую, которая намного красивее, чище и глубже. Та хорошая сторона закрыта для всех, вот почему лишь немногие люди относятся ко мне с симпатией. Все привыкли, что в течение нескольких часов я развлекаю других подобно клоуну, после чего надоедаю им, и обо мне забывают на месяц. Это напоминает мелодраму: глубоко мыслящие люди смотрят ее, чтобы отдохнуть, на мгновение отвлечься, а потом забыть — что ж, занятно, но ничего особенного. Странно, что я тебе такое рассказываю, но почему бы и нет, ведь это правда. Моя легкая поверхностная половина всегда затмевают другую, и поэтому все видят именно ее. Ты не представляешь себе, как часто я пыталась оттеснить и убрать с дороги ту Анну, которая составляет лишь половину Анны всей, но ничего не выходит, и я уже не знаю, как это сделать.
Я очень боюсь, что все, кто знает мою внешнюю сторону, откроют вдруг другую, которая лучше и прекраснее. Боюсь, что они будут надсмехаться надо мной, сочтут меня забавной и сентиментальной и уж никак не возьмут всерьез.
К тому, что меня не принимают серьезно, я уже привыкла, точнее «легкая» Анна привыкла и не очень переживает, но «глубокая» Анна для этого слишком ранима.
Когда я, наконец, с трудом вытаскиваю «лучшую» Анну на божий свет, то она сжимается подобно стыдливой мимозе, и если ей надо заговорить, предоставляет слово Анне номер один и незаметно исчезает.
В обществе других эта серьезная Анна еще никогда, ни единого раза не показывалась, но в одиночестве она почти всегда задает тон. Я в точности представляю, какой хотела бы быть, и какова моя душа, но, к сожалению, знаю это только я одна. Именно поэтому другие убеждены в моем счастливом характере, а я, на самом деле, нахожу счастье в своем внутреннем мире. Изнутри меня направляет «чистая» Анна, а внешне все видят во мне развеселую и необузданную козочку.
Как я уже не раз повторяла — я не высказываю вслух того, что чувствую, вот почему за мной установилась репутация всезнайки, кокетки, обольстительницы и любительницы глупых любовных романов. Веселая Анна смеется, дерзит, равнодушно пожимает плечами и делает вид, что ей все безразлично. Но совсем иначе, и даже как раз наоборот воспринимает все серьезная Анна. Сказать по правде, меня ужасно огорчает то, что я затрачиваю огромные старания, чтобы стать другой, но это лишь напоминает неравный бой с превосходящими меня вражескими силами.
И я беспрерывно упрекаю себя: «Вот видишь, чего ты снова добилась: о тебе думают плохо, смотрят с обидой и упреком, никому ты не мила. А все это потому, что ты не послушалась совета своего лучшего «я». Ах, я бы и сама хотела ее послушать, но ничего из этого не выходит! Если я тихая и серьезная, то все думают, что я готовлю новую комедию, и мне приходится отшучиваться. Ну, а родителей моя внезапная серьезность наводит на мысль, что я заболела! Они пичкают меня таблетками против головной боли и успокаивающими травками, щупают пульс и лоб, чтобы проверить, нет ли температуры, осведомляются, как работает желудок, и в итоге заявляют, что у меня хандра. Тогда я не выдерживаю и начинаю огрызаться, а потом мне становится ужасно грустно. И я снова принимаю легкомысленный вид, скрывая все, что у меня на душе, и ищу способ, чтобы стать такой, какой я хотела бы и могла бы быть, если бы… не было на свете других людей.
Анна Франк.
На этом кончается дневник Анны.
Послесловие.
Утром 4 августа 1944 года между десятью и половиной одиннадцатого утра перед домом на Принсенграхт 263 остановился автомобиль. Оттуда вышел немецкий офицер Карл Йозеф Зилбербауер, одетый в военную форму, и трое вооруженных голландских сотрудников Зеленой полиции в штатском. Без сомнения, кто-то выдал укрывавшихся в доме людей. Все они были арестованы, в том числе их покровители Виктор Куглер и Йоханес Кляйман. Полицейские захватили также все найденные ими деньги и ценности.
Сразу после ареста Куглер и Кляйман были доставлены в центр предварительного заключения, затем помещены в амстердамскую тюрьму, а 11 сентября 1944 года без суда доставлены в лагерь для заключенных а Амерсфорте.
Кляймана отпустили 18 сентября 1944 года из-за плохого состояния здоровья. Он умер в 1959 году в Амстердаме.
Куглер бежал из лагеря 28 марта 1945 года во время переправы в Германию. В 1955 году он эмигрировал в Канаду, где умер в Торонто в 1981 году. Элизабет (Беп) Вейк-Фоскейл умерла в 1983 году. Мип Гиз до сих пор живет в Амстердаме.
Обитателей Убежища поместили после ареста в амстердамскую тюрьму, а четыре дня спустя доставили в пересадочный лагерь для евреев в Вестерборке.
3 сентября 1944 года, последним транспортом на восток их депортировали в польский Освенцим.
Эдит Франк умерла 6 января 1945 года в женском лагере Освенцим-Биркенау от голода и истощения.
Герман ван Пелс (ван Даан) согласно сведениям нидерландской организации Красного Креста был удушен в газовой камере в день прибытия в лагерь — 6 сентября 1944 года. По воспоминаниям Отто Франка он погиб позже — в октябре или ноябре 1944 года — незадолго до того, как навсегда погасли печи газовых камер.
Августа ван Пелс была сначала перевезена из Освенцима в Берген-Бельзен, затем в Бухенвальд, и 9 апреля 1945 года — в Терезинштадт. Возможно, это не было ее последним трагическим скитанием. Место и дата ее смерти не известны.
Марго и Анна были депортированы в конце октября 1944 года в Берген-Бельзен. Страшные антисанитарные условия лагеря привели к эпидемии тифа, от которого погибли тысячи заключенных, в том числе сестры Франк.
Первой умерла Марго, а спустя несколько дней — Анна. Дата их смерти приходится на конец февраля — начало марта 1945 года. Тела обеих девочек, вероятно, захоронены в общей могиле Берген-Белзена. 12 апреля 1945 года этот лагерь был освобожден английскими войсками.
Петер ван Пелс (ван Даан) был депортирован 16 января 1945 года из Освенцима в австрийский Маутхаузен, где умер 5 мая 1945 года, всего за три дня до освобождения лагеря.
Фриц Пфеффер (Альберт Дюссель) умер 20 декабря 1944 года в концлагере Нойенгамме.
Отто Франк, единственный из Убежища, пережил ужас концлагерей. После освобождения Освенцима русскими войсками он был перевезен в Одессу, а затем в Марсель. 3 июня 1945 года он вернулся в Амстердам, где жил и работал до 1953 года, после чего эмигрировал в Швейцарию. Он женился вторично на Эльфриде Гейрингер, так же как и он пережившей Освенцим и потерявшей в лагерях мужа и сына. До своей смерти 19 августа 1980 года Отто Франк жил в швейцарском городе Базеле, посвятив себя полностью изданию дневника дочери и сохранению памяти о ней.
Из книги Мип Гиз «Воспоминания об Анне Франк»
Мип (настоящее имя: Гермина Сантроуз) родилась 15 февраля 1909 года в Вене. В числе других детей, ослабленных и истощенных во время первой мировой войны, она была отправлена в Голландию для укрепления здоровья. Так сложилось, что девочка осталась жить в приемной голландской семье, хотя всегда поддерживала связь со своими австрийскими родными. Имя «Гермина» вскоре было заменено распространенным в то время нидерландским именем Мип.
В 1933 году Мип начала работать на фирме «Опекта», возглавляемой Отто Франком. Она и ее муж Ян Гиз, стали близкими друзьями семьи Франков, впоследствии оказавшими им неоценимую помощь и поддержку в годы оккупации.
…
Это был обычный летний день, пятница 4 августа 1944 года. Придя на работу, я тут же поднялась в Убежище, чтобы взять список покупок. Наши затворники, уже много месяцев изолированные от внешнего мира, были рады каждому посетителю и с нетерпением ждали новостей извне. Анна, как обычно, забросала меня вопросами, и непременно хотела о чем-то поговорить со мной наедине. Я пообещала ей зайти днем, после того как сделаю покупки. А в тот момент я спешила обратно в контору. Беп и Кляйман уже были там.
Около одиннадцати я вдруг увидела в проеме двери мужчину в штатском. Я и не заметила, как и когда он появился. Мужчина направил на нас револьвер и шагнул внутрь. «Оставаться на своих местах, — сказал он по-голландски, — не двигаться!». И прошел в кабинет Куглера. Мы оцепенели от ужаса. Кляйман прошептал мне: «Мип, это случилось». Беп дрожала всем телом. Кляйман между тем не отрывал глаз от входной двери. Но посетитель с револьвером, по-видимому, явился один. Как только он покинул контору, я быстро вытащила из сумки нелегальные продуктовые талоны, деньги и бутерброды Яна. Приближался перерыв, и Ян мог явиться с минуты на минуту. В тот же момент послышались его шаги. Я немедленно вылетела за дверь и, не дав ему войти внутрь, сунула в его руку сверток. «Ян, беда», — прошептала я. Тот все понял и скрылся.
С отчаянно колотившимся сердцем я вернулась к своему столу, где должна была оставаться по приказу вооруженного мужчины. Беп была сама не своя от страха, и Кляйман это заметил. Он вытащил из кармана кошелек, протянул ей и сказал: «Отнеси его в аптеку на Лелиграхт. Ее хозяин — мой друг, ты можешь воспользоваться его телефоном. Позвони моей жене, расскажи ей, что здесь произошло, и сюда не возвращайся». Беп кивнула и поспешила покинуть контору, бросив на нас последний испуганный взгляд.
Кляйман строго и серьезно взглянул на меня: «Мип, ты тоже можешь уйти». «Нет, не могу», — ответила я. Это была правда. Я, действительно, не могла.
Мы с Кляйманом ждали еще приблизительно три четверти часа, пока не появился мужчина — но не тот, что приходил раньше. Он приказал Кляйману последовать за ним в кабинет Куглера. Я осталась на своем месте, не имея представления о том, что происходит в доме. Но мне и думать об этом было страшно.
Спустя полчаса, а может, час дверь открылась, и вошел Кляйман, сопровождаемый полицейским. Тот приказал по-немецки: «Отдайте ключ молодой даме», после чего снова удалился в кабинет. Кляйман подошел ко мне и протянул ключ со словами: «Мип, уходи немедленно». Я покачала головой. Кляйман взглянул мне прямо в глаза: «Не упрямься. Спаси то, что еще можно спасти, а нам ты уже не поможешь». Я поняла, что он имеет в виду. Как я должна была поступить? Кляйман сжал мою руку и вернулся в комнату Куглера, а я так и не двинулась с места. Я подумала, что полицейские отнесутся ко мне снисходительно из-за моего австрийского происхождения. К тому же они, вероятно, считают, что к Убежищу я не имею никакого отношения.
Спустя несколько минут в комнату вошел первый голландский посетитель, и даже не взглянув на меня, позвонил куда-то по телефону и попросил прислать машину. Дверь он оставил открытой, поэтому я ясно слышала голос немца, потом Куглера, что-то ему отвечавшего, и снова — немца. Я вдруг поняла, что мне в его выговоре кажется знакомым: неподражаемый венский акцент. Точно так же говорили в моей семье, с которой я рассталась много лет назад.
Когда полицейский вернулся в контору, я поняла, что его настрой изменился: он больше не верил в мою непричастность. Очевидно, что-то навело его на мысль, что я знала о скрывавшихся людях. «А теперь твоя очередь», — грубо сказал он и вырвал из моих рук ключ, полученный от Кляймана. Я встала и прямо взглянула на него: «Вы из Вены, как и я». Он замер, явно пораженный, его лицо выдавало смятение. «Паспорт!» — наконец рявкнул он. Я протянула ему документ, который он внимательно осмотрел. В моем паспорте было указано, что я родилась в Вене и состою в браке с нидерландским подданным. Тут полицейский заметил голландца, все еще говорившего по телефону. «Убирайся!» — крикнул он, и тот, прервав разговор на полуслове, бросил трубку и скрылся. Австриец захлопнул дверь, и мы остались одни. Яростно размахивая моим паспортом, согнувшись почти пополам, он направился ко мне: казалось, что гнев заставляет его пригибаться к земле: «И не стыдно тебе потворствовать грязным евреям?» — прокричал он. Затем, осыпав меня всевозможными ругательствами, заключил, что я буду наказана по заслугам. Он был вне себя. Я по-прежнему стояла неподвижно, не отвечая ни словом, ни жестом. Он продолжал мерить комнату шагами, потом вдруг остановился и спросил: «Что же мне, черт побери, с тобой делать?».
В тот момент я подумала, что мое положение не совсем безнадежное. У меня было чувство, словно я выросла на несколько сантиметров. Офицер изучал меня взглядом и, казалось, думал: «Вот, друг против друга стоят два человека, родившиеся в одной и той же стране, одном и том же городе. Один карает евреев, другой помогает им». Взгляд австрийца стал спокойнее и даже человечнее. После долгого молчания он, наконец, сказал: «Из личной симпатии… ладно, оставайся здесь. Но не смей бежать, иначе мы схватим твоего мужа».
Я понимала, что сейчас должна со всем соглашаться, но не сдержавшись, ответила: «Не смейте трогать моего мужа! Он ни к чему не причастен». Офицер надменно взглянул на меня: «Как бы не так! Вы все одна шайка». Он направился к двери, но перед тем, как выйти на улицу, оглянулся. «Я еще вернусь проверить, на месте ли ты». Об этом он мог не беспокоиться: я и не собиралась уходить. Однако австриец повторил: «Не смей бежать. Малейшее непослушание, и угодишь в тюрьму». И захлопнул за собой дверь.
Я не знала, куда он пошел, и по-прежнему не имела ни малейшего понятия о том, что происходит в доме. Я была в полном смятении, мне казалось, что я провалилась в бездонный колодец. Мне ничего не оставалось делать, как сидеть и ждать.
Тут я услышала, как наши друзья из Убежища спускаются по лестнице. По звуку шагов казалось, что они идут подобно побитым собакам.
Я как будто окаменела, мне казалось, что время остановилось. В какой-то момент ко мне подошли два работника склада и выразили сожаление о том, что ничего не знали об Убежище. Ван Марен прибавил, что австриец отдал ему ключ, отобранный у меня. Не знаю, сколько еще прошло времени. Вдруг я услышала быстрые шаги по лестнице. В комнату влетела Беп, за ней — Ян. Я поняла, что уже пять часов, конец рабочего дня. Ян сказал ван Марену: «Как только уйдет последний рабочий, закрой за ним дверь и возвращайся».
Позже, когда мы остались в конторе вчетвером, Ян обратился к ван Марену, Беп и мне: «А теперь посмотрим, что там, наверху». Дверь в Убежище была заперта на замок, но к счастью, в конторе хранился запасной ключ. И вот мы наверху. Там все было перевернуто вверх дном: сдвинута мебель, содержимое шкафов и ящиков выброшено на пол. В спальне господина и госпожи Франк в ворохе бумаг на полу мне бросилась в глаза тетрадка в оранжевом переплете. Это был дневник Анны. Я вспомнила, как она радовалась, когда родители подарили ей эту тетрадь на день рождения, и как важно было для нее все, что она писала. Я стала разбирать бумаги и увидела несколько кассовых книг и отдельных листков, которые Анна использовала для своих записей, когда первая тетрадка кончилась.
Беп дрожала от страха и явно хотела поскорее уйти. Я сказала ей: «Помоги мне все это собрать». Я сама ужасно боялась, что австриец вернется и застигнет нас за присвоением «еврейского имущества». Ян между тем захватил несколько библиотечных книг и испанских учебников доктора Дюсселя. Он торопил нас. Ван Марен, стоящий у двери, тоже нервничал. Мы поспешно пошли к выходу, но по дороге на двери ванной я увидела висящий халатик Анны. Хотя мои руки были заняты, я захватила и его, сама не знаю, почему.
И вот мы с Беп стоим в конторе с кипой бумаг. «Ты старшая, — сказала Беп, — решай, что делать со всем этим». Я открыла нижний ящик стола и вложила в него все тетрадки и листы. «Я буду хранить их до тех пор, пока Анна не вернется».
Дома я услышала от Яна о том, что произошло после того, как он узнал о приходе полиции. Вот его рассказ:
«Я поспешил обратно в свою контору. Обычно дорога занимает у меня семь минут, но в этот раз через четыре минуты я уже был на месте. Я хотел как можно скорее спрятать нелегальные талоны. Положив их в ящик стола, я стал думать, что делать дальше. Хотя я хорошо понимал, что разумнее всего ничего не предпринимать и лишь ждать, я не мог сидеть спокойно. Я решил рассказать обо всем брату Кляймана и пошел на часовую фабрику, где тот работал. Он был потрясен случившимся, и несколько секунд мы лишь горестно и беспомощно смотрели друг на друга. Потом пошли на Принсенграхт и притаились в подъезде напротив конторы. Вскоре перед домом 263 остановилась машина Зеленой полиции. Дверь открылась, оттуда вышли наши друзья с небольшими узелками в руках и сели машину. Мы были слишком далеко, чтобы разглядеть выражения их лиц, я только заметил, что Куглер и Кляйман тоже были там. Арестованных сопровождали двое вооруженных мужчин в штатском. Они зашли в машину последними, и она тут же тронулась, свернула на другую сторону канала и проехала совсем близко от нас. После этого мы ушли, посчитав опасным зайти в тот момент в контору».
Мы с Яном хорошо понимали, что ожидает наших друзей, и какая опасность грозит нам самим, но не стали говорить об этом.
На следующий день Ян пошел к жене Дюсселя, чтобы сообщить ей об аресте. «Она держалась мужественно, — рассказал он потом, — и очень удивилась, что ее муж все это время скрывался в центре Амстердама».
На следующий день я пошла, как обычно, на работу, хотя все еще находилась в состоянии шока. Теперь я чувствовала себя ответственной за фирму: я работала здесь с 1933 года и хорошо знала положение дел. В тот день как раз присутствовало много наших посредников, которым я должна была дать советы и указания. Все были поражены известиями о судьбе семей Франк и ван Пелс. Один из посредников подошел ко мне и сказал: «Госпожа Гиз, я вдруг подумал вот о чем. Война почти закончилась, немцы устали, хотят домой и, разумеется, стремятся захватить с собой как можно больше денег. Что, если вам пойти к тому австрийскому нацисту? Он оставил вас на свободе, значит, наверно, не откажется вас выслушать. Спросите его, за какой выкуп он согласен отпустить арестованных. Вы единственная, кто может попробовать его уговорить». Пока посредник говорил, я вдруг вспомнила, что он член нацистской партии. Но несмотря на это я была уверена в его порядочности. Господин Франк знал о его партийной принадлежности еще до своего ухода в Убежище, и как-то сказал о нем: «На этого человека, как мне кажется, можно положиться. По-моему, он по своей истинной сущности не фашист и вступил в партию, поддавшись влиянию друзей. Может, он просто искал выхода из одиночества, ведь у него нет семьи». Все это я вспомнила во время разговора с посредником и кивнула в ответ: «Хорошо, я пойду». Мой собеседник продолжал: «Мы все так любим господина Франка. Я уверен, что каждый даст денег, сколько может, и мы наберем нужную сумму».
Я тут же подошла к телефону и стала звонить австрийцу в отделение гестапо в южной части Амстердама, где он работал. Услышав его голос, я спросила, могу ли говорить с ним по-немецки. «Речь идет об очень важных вещах», — прибавила я. «Хорошо», — ответил он и назначил мне встречу в понедельник в девять утра.
Ровно в это время я стояла у ворот гестапо. Всюду сновали немцы в военной форме, над домом развивался флаг с черной свастикой. Все знали: стоит переступить порог этого здания, и назад пути нет. Тем не менее, я вошла внутрь, и спросила у солдата, стоявшего на вахте, как найти австрийца. Получив разъяснения, я через коридор прошла в огромный зал. Всюду за столами сидели машинистки, в ушах стоял звон от клавиш пишущих машинок. Я сразу увидела австрийца, сидевшего ко мне лицом. Его звали Карл Зилбербауер. Приблизившись к его столу, я остановилась в нерешительности. Я не ожидала, что при нашем разговоре будут присутствовать посторонние, и не хотела открывать перед ними свои намерения. Я молча посмотрела в глаза австрийца и потерла указательным пальцем о средний: этот жест означал деньги. Тот сказал: «Сейчас я ничего не могу для тебя сделать. Приходи завтра в девять утра. И с преувеличенным вниманием склонился над бумагами, дав понять, что больше не произнесет ни слова.
На следующее утро я снова пришла. В этот раз Зилбербауер был в конторе один. Я решила идти напролом и выпалила: «За какую сумму вы согласны отпустить арестованных людей на свободу?». Австриец ответил: «Очень сожалею, но ничем не могу помочь, даже если бы захотел. Я лишь исполняю приказы и даже не имею права говорить с тобой». Не знаю, как у меня хватило смелости, но я сказала: «Я вам не верю».
Он не рассердился, лишь пожал плечами и взглянул на меня, покачивая головой. «Зайди к моему начальнику». И назвал номер комнаты.
Стараясь унять дрожь, я поднялась по лестнице, постучала и, не дождавшись ответа, распахнула дверь. Я увидела множество нацистских офицеров, сидящих вокруг круглого стола, в середине которого стоял приемник. Я услышала английскую речь, и сразу узнала Би-би-си.
На меня обратилось множество взбешенных взглядов, ведь я застигла их врасплох: вражеский голос мог стоить им жизни. Теперь я была полностью в их власти. Решив, что мне нечего терять, я спросила: «Кто здесь главный?».
Один из офицеров поднялся и с искаженным лицом направился ко мне. Сейчас… Но нет, обошлось. Он только схватил меня за плечо и, яростно прошептав «свинья», выставил за дверь.
Вне себя от страха я помчалась обратно в кабинет Зилбербауера. Тот вопросительно взглянул на меня, и я в ответ покачала головой. «Поняла? — спросил он, — а теперь убирайся!». Я хотела было снова заговорить с ним, но поняла, что это бесполезно, и пошла к выходу через коридор, полный гестаповцев. Неужели я выйду из отсюда свободной? Лишь на улице я осознала, какой опасности избежала.
Некоторые сотрудники конторы просили меня дать почитать им записки Анны. Но я всегда отвечала одно и то же: «Нет, не могу. Это дневник девочки, ее тайна. И я отдам его только ей самой».
Меня не оставляли мысли, что в Убежище на полу лежат еще листки Анниных дневников, которые мы не успели захватить с собой. Но я боялась подниматься туда, потому что Зилбербауер уже несколько раз приходил с проверкой. При этом он всегда приоткрывал дверь конторы, бросал на меня взгляд и произносил: «Так, ты на месте». Я ничего не отвечала, и он тут же исчезал.
Я боялась подниматься в Убежище и по другим причинам: я бы не вынесла вида пустых комнат.
Но через три дня должны были прийти рабочие, чтобы увезти «еврейское имущество», которое сначала будет доставлено на склад, а затем — в Германию. Я обратилась к ван Марену: «Предложи свою помощь при погрузке вещей. Если увидишь исписанные листки бумаги на полу, незаметно собери их и отдай мне».
Грузчики приехали на следующий день. Ван Марен выполнил мою просьбу и отдал мне стопку бумаг. Я положила их в ящик, где хранила другие записи.
Как только грузовик отъехал, в конторе воцарилась тишина. Вдруг я увидела Муши, кота Петера. Он подошел ко мне и потерся головой о мою ногу. «Пойдем в кухню, — сказала я, — попьешь молока. Ты останешься здесь, мы с Беп будем заботиться о тебе».
…
После ареста Кляймана и Куглера я оказалась единственной из оставшихся сотрудников, кто мог возглавить фирму. Но для этого мне необходимо было разрешение на пользование банковским счетом Опекты. Я пошла в банк и рассказала директору о сложившейся ситуации. Тот дал разрешение без колебаний.
Несмотря на ужасные события, жизнь нашей конторы потекла своим чередом. Мы по-прежнему получали и исполняли заказы по изготовлению джемов, вкусовых приправ и колбас.
Отец Беп, господин Фоскейл, умер от рака после долгих и мучительных страданий. Должна признаться, что почувствовала облегчение, узнав об этом.
25 августа был освобожден Париж, 3 сентября — Брюссель, а днем позже — Антверпен. Со дня на день ждали освобождения и мы.
3 сентября Би-би-си сообщило, что англичане достигли Бреды. Чувство радости и надежды охватило нидерландцев. Начиная с 5 сентября, который позже назовут безумным вторником, немецкие войска начали постепенно покидать город. Это уже не были молодые, здоровые и самоуверенные солдаты в новеньких шинелях, вступившие в столицу в мае 1940 года. Они уходили униженными и жалкими, унося с собой, тем не менее, немало награбленных вещей и ценностей. А с ними, нагруженные мешками, уходили их приспешники — голландские нацисты. Никто не имел понятия, куда они направляются, и кажется, они сами не знали об этом.
Старательно спрятанные красно-бело-синие флаги с оранжевыми вымпелами вновь взвились на крышах. Люди собирались на улицах, невзирая на запрет собраний. Дети держали в руках бумажные флажки, импровизирующие английский флаг, чтобы приветствовать ими освободителей.
Но шли дни, и ничего не происходило. Присутствие немцев снова стало ощутимым, как будто отступления и вовсе не было. Сообщение о том, что англичане освободили юг Голландии, оказалось ложным. Энтузиазм пятого сентября постепенно сошел на убыль, но все знали, что ждать уже недолго.
17 сентября королева Вильгельмина призвала работников железных дорог начать забастовку с целью помешать передвижению немецкого транспорта. Она произнесла проникновенную речь, но все же попросила рабочих быть осторожными. Это не были пустые слова: участие в стачках каралось расстрелом. Причиной обращения королевы стало, очевидно, новое и увы — снова ложное — сообщение о вступлении англичан и американцев в город Арнем. И все же поезда встали! Машинистов искали, но не нашли — они ушли в подполье. Немцы были в бешенстве.
Однажды утром, в разгар описанных мной событий, я столкнулась на работе с проблемой, которую сама не могла решить. Как всегда в подобных случаях, я позвонила брату Кляймана. «Обратись лучше к нему самому», — неожиданно ответил он. Я была поражена подобной циничностью. «Это же невозможно, он в лагере, в Амерсфорте!» «Вовсе нет, он направляется к вам, в контору. Выйди за дверь, увидишь сама». Я не верила ему. Как можно так шутить! Но тот настаивал: «Иди на улицу, Мип! Это правда».
Уронив телефон, я бросилась к выходу. Беп, решив, что я сошла с ума, побежала за мной. С бьющимся сердцем я огляделась вокруг и, действительно, увидела Кляймана. Он как раз пересекал мост между Блумграхт и Принсенграхт и махал мне рукой. Мы с Беп бросились к нему. Я что-то кричала, не помню — что, хотя по натуре я человек спокойный, Беп тоже была вне себя. Смеясь и плача, мы стали обнимать Кляймана, и втроем пошли в контору. Радость захлестывала нас, мы беспрестанно говорили, перебивая друг друга.
Я все еще не верила собственным глазам. Вернувшись из концлагеря, Кляйман выглядел хорошо, лучше, чем когда-либо. Он, конечно, похудел, но глаза его светились, и на щеках лежал румянец. Я сказала ему об этом, и он ответил, смеясь: «Лагерная еда была, конечно, ужасной. Каждый день сырая морковка и свекла и лишь иногда жидкий суп. Но ты не поверишь: кажется, благодаря этим сырым овощам я избавился от своей желудочной язвы!».
Я была так рада, так бесконечно счастлива, что он вернулся! Я спросила нерешительно: «А остальные? Известно ли что-нибудь о них?» Кляйман покачал головой: «Нет, к сожалению, я ни о ком ничего не знаю».
Это чудесное возвращение дало мне надежду, что и остальные вернутся целыми и невредимыми. Кляймана отпустили из-за его плохого здоровья благодаря стараниям организации Красного Креста.
Снова мучительно потянулись дни. Кончился сентябрь, но ничего не менялось. Немцы никуда не уходили, только становились более мстительными и жестокими. Мы уже не верили, что война когда-нибудь кончится.
…
В марте и апреле все еще стояли зимние холода. Все говорили и думали только о еде. Поскольку у нас не было радио, один наш друг пообещал прийти к нам, как только услышит что-то важное. Но самым важным для нас сейчас была еда. Когда мы навещали этого друга, то даже не слушали радио, а переписывали из его поваренной книги рецепты блюд, которые будем готовить после победы. Почему-то больше всего я мечтала о чашке дымящегося какао.
Ежедневно сотни голландцев умирали от голода. Мы с Кляйманом заставляли себя приходить в контору, а вечером — все с теми же мыслями о еде — плелись домой. Дома меня ждали Ян и наш кот Берри. Но как я могла из двух картофелин приготовить обед для двух взрослых людей и кота? Весна постепенно набирала силу и приносила все больше тепла и света. Но голод мучил с каждым днем все больше. Конечно, я продолжала вести конторские дела, но все мои мысли были о том, где бы достать съестное. И так было со всеми.
В мае установилась прекрасная погода: светило солнце, и появились цветы на деревьях. Это составляло странный контраст с истощенными, бледными и грустными амстердамцами.
В пятницу 4 мая, после однообразного рабочего дня я вернулась домой и сразу пошла на кухню, чтобы отварить нескольких картофелин и морковок. Я поставила кастрюлю с водой на огонь, и мне казалось, что вода не закипала целую вечность. Неожиданно появился Ян, крепко обнял меня и сказал: «Мип, у меня потрясающая новость. Немцы капитулировали, война закончилась!».
Я почувствовала слабость в ногах, я не смела верить… Но взглянув в сияющие глаза Яна, поняла, что это правда. В праздничном настроении мы уселись за стол и съели жалкий обед, показавшийся нам пищей богов. Потом заговорили о том, что будет дальше. Война кончилась, но немцы еще были в городе. Наверняка, они в бешенстве, поэтому пока надо быть предельно осторожными. Мы, конечно, заговорили о наших друзьях, заключенных в лагерях — в надежде, что они живы и вернутся к нам.
Пробило восемь часов — комендантский час, когда мы услышали стук в окно. Это был наш друг, который обещал сообщить об окончании войны. «Пошли на улицу, — закричал он, — запретов нет, мы свободны!».
Город был полон народу и сиял огнями. Каждый держал в руке свечку, ветку, клочок бумаги — все, что могло гореть. Люди танцевали, смеялись, обнимали друг друга.
Этой ночью я не могла сомкнуть глаз. Вдруг я услышала птичье воркование и, выглянув в окно, увидела в соседнем саду несколько голубей. Я вспомнила, что во время войны птиц в Амстердаме совсем не было, даже воробьев. А домашних голубей немцы держать запрещали. Значит, их прятали во время оккупации, а теперь, наконец, выпустили. Над крышами Амстердама снова будут летать птицы, такие же свободные, как мы.
На город с самолетов буквально дождем сыпались продовольственные пакеты: банки маргарина и масла, печенье, сосиски, сало, шоколад, сыр и яичный порошок. Самолеты пролетали над городом совсем низко, но они уже не вызывали ни страха, ни паники, как раньше. Люди без боязни залезали на крыши и размахивали флагами, а то и просто простыней или полотенцем.
В субботу утром, по дороге на работу мне показалось, что все амстердамцы вышли на улицу. И это невзирая на опасность — ведь захватчики еще были в городе! И действительно, немцы пришли в ярость: на Соборной площади стали стрелять в толпу и убили несколько человек. Но даже это не остановило людей, обезумевших от радости: мы знали, что победа уже пришла.
Вернувшись с работы, я предложила Яну пойти в центр, чтобы присоединиться к толпе. Но тот покачал головой: «Нет, не пойду. Я не могу веселиться. Слишком много произошло за эти пять лет. Сколько людей отправлено в лагеря, и сколько уже не вернется. Конечно, я рад, что все закончилось, но мне не до праздника».
7 мая мы услышали, что в город вошли канадские войска. Мы тут же помчались встречать наших освободителей, но прождав три часа, увидели лишь три маленьких танка. Зато на следующий день канадцы заполнили весь город. Это был настоящий военный парад, и хотя солдаты выглядели довольно грязно, голландские девушки бросались им на шею и целовали в обе щеки. Канадцы раздавали горожанам настоящие сигареты.
Королева Вильгельмина вернулась на родину после пяти лет, проведенных в Англии. Этой маленькой энергичной женщине, которую Черчилль назвал «самым храбрым мужчиной Англии», было тогда шестьдесят четыре года. Она мужественно выстояла войну, как и весь голландский народ.
Праздник продолжался несколько дней, всюду слышался то голландский, то английский гимн, на улицах играла музыка, люди танцевали. Откуда-то появились передвижные органчики, играли на флейтах и старых аккордеонах.
Люди, прятавшиеся во время войны, выходили из своих убежищ — истощенные, бледные и напуганные, щурясь с непривычки на солнечный свет.
Очень скоро мы узнали, что Виктор Куглер жив: ему удалось бежать из лагеря, и всю голодную зиму он скрывался в собственном доме, опекаемый женой.
Вскоре он сам появился в конторе, и вот его рассказ:
«Сначала меня поместили в лагерь Амерсфорта, где находились в основном политические заключенные, торговцы черного рынка и христиане, укрывавшие евреев. Потом меня перевозили из одного лагеря в другой, последний находился на границе с Германией. Условия были относительно сносными. Нам разрешали носить собственную одежду и принимать передачи от местных жителей. Сотрудники Красного Креста регулярно наведывались с проверкой, часто приходил священник.
Но однажды зимой, рано утром всех заключенных вызвали на сбор, а потом куда-то погнали. Я шел сзади, рядом с немецкими солдатами. Они выглядели мрачно и устало, война явно надоела им. Я подумал: почему бы не заговорить с ними на немецком и не спросить, куда мы направляемся. Они ответили: «В Германию, пешком. Целым лагерем». Я подумал: «Живым оттуда уже не вернуться» и стал постепенно замедлять шаг.
Неожиданно, когда мы проходили мимо кукурузного поля, началась воздушная бомбардировка. Немцы закричали: «Ложись!» Как только бомбежка кончилась, последовал приказ: «Вставай в строй! Дальше, марш!». Но я остался лежать, затаив дыхание, заваленный листьями кукурузы. И — о чудо — они, забыв обо мне, пошли дальше.
Я подождал немного и пополз по полю в обратном направлении. Потом, решив, что опасность миновала, встал и пошел и вскоре добрался до деревни. Лагерная одежда выдавала во мне беглеца, и мне ничего не оставалось, как действовать в открытую. Я увидел магазин поддержанных велосипедов и, набравшись смелости, вошел внутрь. Я рассказал продавцу, что бежал из концлагеря и попросил его: «Пожалуйста, одолжите мне велосипед, чтобы добраться до дома».
«Хорошо, — ответил тот, — только верните его, когда закончится война». Так я вернулся домой, и жена всю голодную зиму заботилась обо мне».
Спустя несколько недель в витринах магазинах стали появляться товары: меховые шубки, красивые платья. Однако они предназначались не для продажи, а только для витрин. Другие магазины выставляли муляжи молочных бутылок, упаковки масла и сыра.
Я узнала, что союзники организуют реабилитационные лагеря для голландских детей, где те могли бы набраться сил и поправить здоровье.
Каждый день Ян заходил в организацию по поиску людей, потерявшихся во время войны, и задавал одни и те же вопросы: «Знаете ли вы что-то о семье Франков: Отто, Эдит, Марго, Анне? Или о семье ван Пелс?». И наконец услышал: «Нам известно, что Отто Франк жив и скоро вернется.
Ян помчался домой так быстро, как только мог. Это было 3 июня 1945 года. Он влетел в гостиную, схватил меня за руки и закричал: «Мип, господин Франк вернется!». У меня перехватило дыхание. Всегда, в глубине сердца я знала, что он выживет, и все остальные — тоже. В тот момент кто-то прошел мимо нашего окна. Меня охватило непонятное волнение, и я открыла входную дверь. Передо мной стоял Отто Франк, собственной персоной!
Мы молча смотрели друг на друга. Мне так много хотелось сказать ему, но я не могла подобрать нужных слов. Он похудел, но я всегда знала его худощавым. В руках он держал узелок. Мои глаза наполнились слезами. Вдруг мне стало страшно, что сейчас он расскажет что-то ужасное о судьбах других. Сама я не решалась об этом спросить.
Наконец Франк сказал: «Мип, Эдит уже никогда не вернется». Мне показалось, что к моей шее приставили нож, но я постаралась скрыть эмоции. Я взяла его за руку: «Зайдите в дом». Он продолжал: «Но я надеюсь, что Марго и Анна живы». «Да, будем надеяться, — ответила я, — а сейчас мы так рады видеть вас у себя!». Но Франк, казалось, не решался переступить порог. «Мип, я пришел к вам, потому что вы единственные близкие мне люди в этом городе». Я взяла узелок из его рук: «Мы дадим вам отдельную комнату и живите у нас, сколько захотите». Я приготовила для него спальню и поставила на стол самое лучшее, что было в доме.
Во время ужина Франк рассказал, что до освобождения находился в Освенциме, где последний раз видел Эдит, Марго и Анну. По прибытии в лагерь мужчин и женщин сразу разделили. В январе лагерь освободили русские, которые помогли ему добраться до Одессы, откуда он кораблем прибыл в Марсель, а потом — поездом в Амстердам.
Первые несколько недель после прихода русских Франк — до крайности исхудавший и ослабевший — оставался под врачебным присмотром на территории лагеря. Как только силы немного вернулись к нему, он попытался что-то узнать о судьбе своей семьи. Его постигло первое страшное горе: он услышал, что Эдит умерла 6 января 1945 года. О дочерях ничего достоверного известно не было, но Франк предполагал, что Анна, Марго и госпожа ван Пелс были депортированы в Берген-Белзен. След доктора Пфеффера Франк потерял еще в голландском пересыльном лагере Вестерборке. Господина ван Пелса он видел собственными глазами среди приговоренных к газовой камере. Петер оставался в Освенциме. В ноябре 1944 года он часто навещал господина Франка в больничном бараке, куда тот поступил, находясь на грани истощения. Франк знал, что немцы, отступая в Германию, нередко захватывают с собой группы заключенных, и умолял Петера сделать все, чтобы тоже оказаться на больничной койке. Но, очевидно, тому это не удалось, и он как раз попал в такую группу. Господин Франк видел Петера в последний раз бредущим по снегу в сопровождении немецких солдат.
Все это он рассказывал своим тихим спокойным голосом.
Отто Франк остался жить у нас. Он сразу занял на фирме свое место — директора. Я знала, как важна для него работа, отвлекающая от тяжелых воспоминаний и тревог. Между тем он обратился во всевозможные организации по поиску депортированных евреев. Может, что-то известно о Марго и Анне? Он не терял надежды на возвращение девочек. Берген-Белзен был трудовым лагерем, а не лагерем смертников. Конечно, его не обошли ни голод, ни болезни, но заключенных не посылали в газовые камеры. Марго и Анна прибыли туда последним транспортом, значит, находились в лагере не так долго, они были молоды, здоровы. Как и господин Франк, я всем сердцем надеялась, что девочки живы!
Франк разузнал адреса голландцев, вернувшихся из Берген-Белзена, и послал им письма. Так многие находили своих близких. Мы ждали известий каждый день. Когда я слышала шаги по лестнице, меня охватывала безумная надежда, что это Анна и Марго! 12 июня был день рождения Анны, ей исполнилось шестнадцать лет. Может, именно в этот день придет счастливая весточка? Но новостей по-прежнему не было.
А люди возвращались из лагерей. Пришел хозяин овощного магазина. Он ходил с трудом, оказалось, что отморозил ноги. Мы встретились, как старые друзья.
Магазины еще стояли пустые, все приобреталось по талонам. Наша фирма продавала в основном заменители продуктов, но их брали охотно.
Однажды утром в конторе мы с господином Франком просматривали почту. Я слышала, что он открыл какое-то письмо, и после этого наступила тишина. Я вся напряглась. И тут раздался ровный тихий голос: «Мип». Франк держал в руках листок бумаги. «Мип, я получил письмо от медсестры из Роттердама. Анны и Марго больше нет в живых». Меня охватило безысходное горе. Но тут я вспомнила о дневнике и вытащила из ящика стола тетради и листки, до которых никто не дотрагивался с тех пор, как мы нашли их в Убежище. Я протянула их господину Франку: «Вот, что осталось от вашей дочери Анны». Тот взял бумаги и исчез в своем кабинете. Спустя некоторое время он позвонил мне и сказал: «Мип, сегодня я никого не принимаю». «не беспокойтесь», — ответила я.
Когда господин Франк поселился у нас, он сказал: «Мип, обращайся ко мне теперь по имени, ведь мы — одна семья». Я согласилась, однако прибавила: «Дома я буду звать вас Отто, но на работе по-прежнему — господин Франк».
К сожалению, наши отношения с квартирной хозяйкой ухудшились, и мы решили искать новое жилье. Неподалеку от нас жила сестра Яна. Одна комната в ее квартире пустовала, и она предложила нам поселиться у нее. Мы с радостью согласились: найти жилье в Амстердаме было в то время непросто. Свободную комнату выделили Отто, мы с Яном поселились в комнате его сестры, а она сама спала теперь в гостиной.
Магазины по-прежнему пустовали, продавалось лишь самое необходимое. Я все же старалась из скудных однообразных продуктов ежедневно готовить что-то вкусное. Мы чувствовали себя усталыми, опустошенными, но пытались держаться. Мы мало говорили о прошлом, но знали и чувствовали, что общие воспоминания навсегда объединили нас.
Отто нашел старых друзей, к которым перед переездом в Убежище отвез часть своей мебели и вещей. Теперь мы могли все это забрать, и вот в нашей скромной квартире появился огромный французский маятник, антикварный шкаф и секретер. «Как бы радовалась Эдит, — сказал Отто, — если бы узнала, что эти семейные реликвии вернулись к нам».
«Красный Крест», наконец, опубликовал списки вернувшихся пленников концлагерей. В живых осталось только пять процентов! Из тех, кто сумел спрятаться, выжила по крайней мере треть. Мы узнали, что Фриц Пфеффер погиб в лагере Нойенгамме, и что Августа ван Пелс умерла в Бухенвальде или в Терезинштадте. Петер чудом пережил переход из Освенцима в Маутхаузен, но умер в лагере всего за три дня до его освобождения американцами.
От очевидцев мы услышали, что в Освенциме Анну и Марго разлучили с матерью. Девочек отправили в Берген-Белзен, где в начале 1945 года они заразились тифом. Марго скончалась в феврале или марте. Анна умерла несколько дней спустя.
Каждый вечер после ужина Отто уходил в свою комнату, где переводил фрагменты из дневника Анны на немецкий язык для своей матери, живущей в Базеле. Иногда он заходил к нам и восклицал, качая головой: «Мип, ты не представляешь, что Анна написала! Могли мы подумать, что у нее такой острый взгляд, что она так наблюдательна?». Но когда Отто предлагал почитать что-то вслух, я отказывалась. Я не могла себя заставить услышать живой голос моей младшей подружки, мне казалось, что у меня не выдержат нервы.
…
15 мая 1946 года Беп Фоскейл вышла замуж и уволилась с работы. Беп выросла в большой семье и всегда хотела иметь много детей. К своей огромной радости она почти сразу забеременела.
Мой возраст приближался к сорока, и думать о детях было уже поздно. На мои неосуществленные мечты о материнстве оказали влияние военные и предвоенные годы. В это страшное время я была рада, что у нас нет детей. После войны мы о детях никогда уже не говорили.
…
В декабре 1946 года мы решили, что пора искать другую квартиру: нельзя было дольше стеснять сестру Яна. Один наш давний друг, вдовец, господин ван Каспель жил в большом доме. Его девятилетняя дочка воспитывалась в интернате, и приезжала только по воскресеньям и праздникам. Ван Каспель предложил нам разделить дом с ним, и мы согласились. Разумеется, Отто Франк переехал с нами. «Я не хотел бы жить один, Мип, — сказал он, — с вами я всегда могу говорить о своих близких». В действительности Отто не часто говорил о погибших родных, но это редкие разговоры были чрезвычайно важны для него.
«…»
Каждое воскресенье господин Франк встречался с друзьями и знакомыми, которые, как и он, вернулись из концлагерей. На этих вечерах беседовали о многом: кто в каких лагерях побывал, каким транспортом был доставлен, кто выжил из родных. Но никто не делился личными переживаниями. Существовал негласный порог откровенности, через который никогда не переступали. Однажды Отто рассказал о дневнике Анны, и несколько присутствующих выразили желание его почитать. После некоторых сомнений Франк дал им фрагменты, которые переводил для своей матери и которые уже столько раз предлагал мне. Прочитав эти отрывками, один из друзей Франка попросил дать ему весь дневник, на что Отто, хотя не сразу, но согласился. Потом тот друг стал убеждать Франка, позволить почитать дневник историку Яну Ромейну. Франк долго отказывался, но в конце концов дал себя уговорить. Ромейн опубликовал большую статью о дневнике в газете «Пароль» и попросил у Франка разрешения издать записки Анны. Отто решительно отказался, но Ромейн не упокаивался. Он, а также друг, тоже прочитавший дневник, считали, что Франк обязан предоставить его голландцам, как мемуары необыкновенно талантливой юной девочки и уникальный военный документ.
Франк, вначале убежденный, что дневник имеют право читать лишь близкие ему и Анне люди, постепенно все больше прислушивался к их аргументам и, наконец, дал согласие. В 1947 году была издана сокращенная и обработанная версия дневника под названием «Убежище». Но даже тогда ни я, ни Ян не могли заставить себя прочитать его.
Первоначально книга была встречена с равнодушием: люди предпочитали поскорей забыть тяжелые военные годы и настороженно относились к свидетельствам о них. Но книга была переиздана и постепенно находила все более широкого читателя.
…
Жизнь постепенно входила в свою колею. Снабжение продуктами налаживалось, с улиц убрали мусор, заработал общественный транспорт.
Как-то быстро исчезли единство и солидарность, объединявшие людей во время войны: теперь каждый вновь принадлежал к своей партии, церкви и группе. Война изменила людей меньше, чем я ожидала.
Во время оккупации пустующие квартиры евреев на юге Амстердама были заселены другими людьми. Район, который раньше все называли еврейским, фактически перестал быть таковым. Да и весь Амстердам постепенно становился обычным современным городом, жители которого имели мало общего друг с другом.
«Опекта» теперь продавала натуральные продукты и заняла прочное место на рынке, что являлось в немалой степени заслугой ее директора, господина Франка. Но в последнее время он стал отходить от дел фирмы. Публикация дневников Анны требовала от него много времени и внимания. К тому же он получал огромное количество писем от читателей — как детей, так и взрослых — и отвечал на каждое.
…
Домашние заботы отнимали у меня немало времени и сил. Я делала покупки, готовила, стирала и гладила для себя и трех мужчин: Яна, Отто, господина ван Каспеля, а также для его дочки, приезжающей на выходные домой. Кроме того на мне лежали уборка дома и починка одежды.
Теплым летним днем 1947 года я в последний раз пришла в контору на Принсенграхт и распрощалась со всеми сотрудниками. Я уволилась: сочетать домашние дела с работой мне было не по силам. Я уже давно не была юной девушкой, которая когда-то, полная надежд, впервые вступила за порог «Опекты». Все в Амстердаме менялась, и я тоже.
Второе издание дневника Анны было полностью распродано, и готовилось третье. Теперь господина Франка уговаривали дать разрешение перевести дневник на другие языки, чтобы опубликовать его в разных странах мира. И вновь, преодолев колебания, он согласился: его воодушевила идея, что записки Анны будут доступны еще более широкой публике.
Франк продолжал уговаривать меня прочитать дневник. И хотя я по-прежнему упорно отказывалась, он не оставлял меня в покое. «Мип, ты должна обязательно прочесть! Ты и не представляешь, что прокручивалось в Анниной смышленой головке…».
Наконец я согласилась: «Хорошо, я почитаю, но при этом я должна быть совсем одна». Как-то утром, когда все ушли на работу, я взяла в руки второе издание книги, пошла в свою комнату и закрыла за собой дверь. Дрожа от волнения, открыла первую страницу и, не отрываясь, на одном дыхании прочитала весь дневник. До последней строки я изумлялась, с какой точностью, наблюдательностью и юмором моя юная подружка описывала известные и неизвестные мне повседневные события жизни в Убежище. Мне казалось, что она сейчас говорит со мной, что я слышу ее голос, полный жизнелюбия, любопытства и энергии. И я еще сильнее ощутила тяжесть потери.
В 1948 году Ян выиграл небольшую сумму в лотерее, которую мы потратили на отдых в Швейцарии. Отто Франк поехал с нами и впервые за много лет увиделся со своей матерью.
В 1949 году произошло невероятное событие: на сороковом году жизни я забеременела, и 13 июля 1950 года появился на свет наш сын Пауль.
Осенью 1952 году господин Франк, прожив с нами семь лет, эмигрировал в Швейцарию, чтобы быть ближе к матери. В ноябре 1953 года он вторично женился. Его супруга, так же как и он, пережила Освенцим и потеряла в лагерях мужа и сына. Это была необыкновенная сильная и сердечная женщина. Франк прожил с ней в полной гармонии до своей смерти в 1980 году.
В 1948 году амстердамская полиция начала процедуру по розыску предателя, выдавшего наших друзей из Убежища. Согласно полицейским отчетам такой человек существовал, но его имени не знал никто. Было известно лишь, что за каждого еврея он получил награду в семь с половиной гульденов. Поскольку господин Франк отказался участвовать в расследовании, оно было прекращено, но в 1963 году начато снова. Дневник к тому времени приобрел мировую известность, и со всех сторон поступали требования о том, что предатель, по вине которого погибли невинные люди, должен быть найден и наказан. Меня тоже допрашивали. Я не поверила своим ушам, когда следователь сказал по телефону: «Госпожа Гиз — вы одна из подозреваемых, потому что вы родились в Вене».
Следователь пришел к нам домой, чтобы побеседовать со мной и Яном. Было холодно, и мы уселись у камина. Посетитель начал с незначительных вопросов. В какой момент огонь в камине стал затихать, и Ян вышел во двор, чтобы принести дров. Как только он закрыл за собой дверь, следователь наклонился ко мне и тихо произнес: «Я не хочу говорить здесь с вами о том, что вашему мужу не следует знать. Приходите завтра в отделение. Одна». Я изумленно взглянула на него, и тот, помявшись, прибавил: «Когда мы допрашивали господина ван Марена, тот сообщил, что у вас были слишком дружественные… так сказать, интимные отношения с одним гестаповским офицером. И что вас также связывала особая дружба с господином Кляйманом». Кровь бросилась мне в лицо. Я без колебаний ответила: «На подобную клевету я не считаю нужным отвечать. Пожалуйста, передайте моему мужу все, что вы только что сказали мне.
Мы оба не произнесли ни слова, пока не вернулся Ян. Следователь обратился к нему: «Мы узнали от ван Марена, что ваша супруга поддерживала слишком близкую дружбу с офицером Гестапо, а также со своим коллегой Кляйманом. Известно ли вам что-то об этом?». Ян взглянул на меня и ответил: «Интересно, Мип, когда ты могла найти время для таких ‘дружб’?». Утром мы вместе выходили на работу, всегда встречались во время обеденного перерыва, а вечером были вместе дома…». Следователь прервал его: «Этого достаточно». Потом он спросил нас, не подозреваем ли мы ван Марена, на что я ответила, что убеждена в его непричастности. Следователь возразил, что по мнению других именно ван Марен был доносчиком, да и в Аннином дневнике он описан, как человек, недостойный доверия. Но я повторила, что не считаю ван Марена предателем.
Несколько недель спустя следователь снова позвонил мне. «Я поеду в Вену к господину Зилбербауеру, офицеру Зеленой полиции. Может, он что-то знает. Я также спрошу его, почему он отпустил вас на волю, а не отправил в лагерь». «Хорошо, — ответила я, — мне самой интересно услышать, как он это объяснит». Вернувшись, следователь передал мне ответы австрийца. Оказывается, тот не арестовал меня, потому что я произвела на него хорошее впечатление. А имя предателя он забыл: доносов в то время было множество, и как запомнить все имена?
Зилбербауер служил в венской полиции. В течение первого послевоенного года его не допускали к работе за нацистское прошлое, а потом восстановили во всех правах.
Следователь спросил меня, почему я так упорно защищаю ван Марена: его подозревали многие, к тому же именно он оговорил меня. Я рассказала то, что знала от одного из представителей нашей фирмы. Ван Марен в течение всей войны тоже скрывал одного человека у себя в доме: собственного сына. Поэтому я была уверена, что несмотря на некоторые отталкивающие черты, он не мог стать доносчиком.
Были разные версии о предателе. Возможно, грабители, не раз бывавшие в доме, что-то заметили. А может, вечерний патруль, соседи, просто прохожие? Никаких конкретных сведений и доказательств полиции найти не удалось, и никто не был арестован.
…
Дневник Анны, переведенный на английский язык, был издан в Америке, где завоевал большую известность. Вскоре появились переводы и на другие языки.
В Голландии был поставлен спектакль по дневнику. На премьеру 27 ноября 1956 года были приглашены я, Ян, Беп с мужем и Кляйман с женой. Куглер не мог прийти, так как за год до того эмигрировал в Канаду. Странное чувство не покидало меня во время представления. Мне все казалось, что вот сейчас на сцену вместо актеров выйдет сама Анна и другие жители Убежища.
Потом по дневнику сняли фильм, на его премьере 16 апреля 1959 года присутствовали королева Юлиана и наследная принцесса Биатрикс. Нас всех, конечно, тоже пригласили, и меня с Беп представили самой королеве. Насколько я знаю, Отто Франк не разу не видел ни фильма, ни спектакля. Я его очень хорошо понимаю.
…
Не проходит дня, чтобы я не вспоминала наших друзей из Убежища и не горевала об их трагической судьбе. Но один день году для нас особенный: 4 августа. В этот день мы никогда не выходим из дома. Я обычно стою у окна, а Ян сидит спиной к окну, и мы почти не разговариваем друг с другом. Только к вечеру мы снова возвращаемся к нашей повседневной жизни.
Карол Анн Лей. Последние дни Анны Франк
Карол Анн Лей родилась в Англии в 1969 году. Над биографией Анны Франк она работала десять лет. Книга написана на основе документальных и архивных материалов, интервью с родственниками и друзьями семьи Франк и другими очевидцами. В биографии описывается вся жизнь Анны от ее рождения в Франкфурте-на-Майне до гибели в концлагере Берген-Белзен. Рассказывается также о судьбах подруг и знакомых Анны, имена которых упомянуты в ее дневнике.
Здесь дается перевод части книги, описывающей последние месяцы жизни обитателей Убежища — после их ареста.
Последние дни Анны Франк.
«…»
Ясным утром 8 августа 1944 года на одном из перронов амстердамского центрального железнодорожного вокзала было многолюдно. Там среди других ждали поезда и сестры Дженни и Ленни Бриллеслейпер, арестованные из-за участия в движении сопротивления. Их разлучили с мужьями и детьми и теперь вместе с родителями и братом отправляли в голландский концентрационный лагерь Вестерборк. Рассматривая других пассажиров, Дженни обратила внимание на одну семью: заботливый отец, растерянная и нервная мать и две девочки-подростка, спортивного вида, с рюкзаками. День был необыкновенно теплый и солнечный, город покрывала золотая дымка, но все люди на платформе, на лицах которых читалось безмолвное отчаяние, казалось, не замечали этого.
Позже Отто Франк напишет в своих воспоминаниях: «После нескольких дней предварительного заключения нас направили в концлагерь. К нашему величайшему горю двое наших покровителей — Кляйман и Куглер — также были арестованы, и мы не знали, какая их ждет участь».
Подъехал поезд, ничем не отличающийся от поездов мирного времени. Как только все заняли свои места, двери вагона заперли на замок. Но семья Франк отнеслась к этому равнодушно. Отто: «Мы были вместе, и нам даже дали еду на дорогу. Мы знали, куда едем, и в то же время казалось, будто мы отправляемся на прогулку. Настроение было приподнятым, во всяком случае, если сравнивать со следующим переездом…Ведь возможно, что русские уже в центре Польши! Так или иначе, но мы надеялись на лучшее. Анна, не отрывая глаз, смотрела в окно».
К вечеру поезд подошел к месту назначения.
Лагерь Вестерборк находился в центре провинции Дренте, недалеко от немецкой границы. Его расположение было малоблагоприятным: на песчаной местности, в удалении от населенных пунктов. Первоначально этот лагерь, построенный в 1939 году по инициативе нидерландского правительства, предназначался для приема евреев, бежавших из Германии. После начала оккупации 750 проживающих там беженцев срочно эвакуировали в глубь страны.
Но когда немцы переоборудовали лагерь в пересыльный пункт для отправки на восток, первые жители Вестерборка были насильно возвращены туда почти в полном составе.
Из воспоминаний одного заключенного, Нильса Прессера: «Песчаная почва создавала особый микроклимат: при малейшем ветре песок проникал всюду, а после дождя все вязло в грязи. Летом досаждали мух — их укусы были опасны, особенно для младенцев. Лагерь был огражден колючей проволокой. Каждый из 107 бараков предназначался для 300 заключенных. В бараках были электрические лампочки, но чаще всего они не действовали. На ночь мужчины и женщины расходились по своим баракам, но днем могли, как правило, общаться беспрепятственно».
Вестерборк представлял из себя своего рода городок с фабричными помещениями, школой для детей от шести до четырнадцати лет, домом для престарелых, детским домом, огромной кухней-столовой, церковью, гаражом, телефонной станцией и тюрьмой. Здесь же были кузнечные, столярные, переплетные, мебельные мастерские, парикмахерские. Принимали врачи, ветеринары, дантисты, в больнице было родильное отделение. Функционировали даже гимнастический зал и театр. Рядом с лагерем находилась ферма, поставляющая ему сельскохозяйственные продукты. В магазинах Вестерборка кроме продуктов питания можно было купить предметы личной гигиены.
Повседневная лагерная жизнь — страхи и переживания, радости и надежды — все это определялось одним: транспортом на восток. Заключенные всеми силами стремились остаться в Вестерборке как можно дольше. Прессер: «Чтобы избежать депортации, люди шли на все: отдавали последние деньги, драгоценности, еду, а девушки предлагали себя охранникам. Настроение в лагере полностью зависело от расписания поездов. На восток они отходили обычно по вторникам, и к вечеру оставшиеся могли вздохнуть с облегчением — атмосфера вновь становилась уютной и спокойной. А к концу недели узников снова охватывали тревога и паника, достигавшие к понедельнику своего апогея.
Тогда все пытались что-то узнать о транспорте следующего дня, кого-то уговорить, подкупить…».
По прибытии в Вестерборк в августе 1944 года семьи Франк, ван Пелс и господин Пфеффер должны были пройти установленную процедуру регистрации, неизменную со дня основания концлагеря. На вокзале новых заключенных встречали охранники и доставляли их в центральный регистрационный пункт. Всевозможные сведения о прибывших заполнялись на различных карточках и формулярах. Вера Кон, ведущая опрос Франков, сохранила о них ясные воспоминания: «Господин Франк, его жена и две дочери, еще одна супружеская пара с сыном и зубной врач — все они скрывались в Амстердаме по тайному адресу. Франк — мужчина приятной наружности, вежливый и корректный. Он стоял передо мной, не опуская глаз, и спокойно отвечал на вопросы. Анна была рядом с ним. Ее лицо по принятым меркам нельзя было назвать красивым, но необыкновенно живые ясные глаза притягивали внимание. Ей было пятнадцать лет. Все члены семьи держались с достоинством и не проявляли страха или паники».
Муж Веры также находился в Вестерброке. Он работал в отделе распределения новоприбывших. Ознакомившись с делом Франков, он понял, что у них нет никаких шансов на спасение.
Семьи Франков, ван Пелсов и доктора Пфеффера, как незаконно скрывавшихся евреев, поместили в барак «s», что означало «штрафной» (strafbarak). Мужчин обрили наголо, а женщин коротко остригли. У них отняли все их вещи, в том числе, одежду и обувь, вместо них выдали лагерную форму: синие комбинезоны и деревянные башмаки. Им даже не дали мыла, а их паек был еще беднее, чем у других пленников.
В лагере семья Франк познакомилась и подружилась с другими заключенными. Вспоминает Лена де Йонг: «Мой муж быстро сошелся с Отто Франком, они часто вели серьезные разговоры на самые разные темы. Я сблизилась с его женой, к которой однако не решалась обращаться по имени, и звала ее госпожа Франк, в то время, как ее мужа запросто называла Отто. Эдит Франк была особенной женщиной. Она постоянно беспокоилась о своих дочках. С ними я, конечно, тоже общалась. Анна была таким милым ребенком! Девочки еще так многого ждали от жизни… Франки все еще пребывали в потрясении от случившегося с ними. Они были почти уверены, что их не обнаружат в их тайном укрытии в Амстердаме. Это была дружная семья, их всегда видели вместе».
Дни проходили одинаково: в пять утра перекличка, потом рабочий день. Заключенные штрафного барака направлялись обычно на разборку аккумуляторов разбитых самолетов: их детали потом использовали заново. Во время работы разрешалось разговаривать друг, а сам труд был изнурительным и грязным. Люди беспрерывно кашляли из-за пыли и повышенной влажности. Надсмотрщики находились начеку и требовали, чтобы узники работали быстрее. На обед давали лишь кусок черствого хлеба и несколько ложек водянистого супа.
Дженни и Ленни Бриллеслейпер работали в том же помещении, что и семья Франк. Ленни вспоминает: «В Вестерборке мы ежедневно занимались разборкой батареек. Как штрафников нас старались изолировать от других заключенных. По дороге в цех я часто беседовала с Эдит Франк. Мы много говорили о еврейском искусстве, которое она хорошо знала и ценила. Открытость и сердечность этой милой интеллигентной женщины необыкновенно тронули меня… Обе девочки были очень привязаны к матери. В своем дневнике Анна утверждает, что мама ее не понимала, но это же обычные мысли для ребенка переходного возраста. В лагере для них было важно одно: оставаться вместе».
Рашель ван Амеронген-Франкфордер также жила в штрафном бараке, но выполняла по лагерным понятиям менее тяжелую и вредную работу: мыла туалеты и выдавала одежду заключенным. Отто Франк обратился к Рашель с просьбой как-то посодействовать, чтобы Анну — из-за слабого здоровья — определили к ней в помощницы. Рашель вспоминает: «Господин Франк был очень любезным и обходительным. По его наружности и манерам угадывалось аристократическое происхождение. Анна пришла вместе с ним. «Я все могу, я очень ловкая», — сказала она. Такая славная девочка! К сожалению, я ничего не могла для них сделать и посоветовала обратиться к руководству лагеря. Мыть туалеты — работа, конечно, не менее тяжелая, чем разборка аккумуляторов, но пленные отдавали ей предпочтение, считая ее менее вредной».
Людям, встречавшим Анну в Вестерборке, казалось — как ни абсурдно это звучит — что она счастлива. Вспоминает Роза де Винтер: «Я видела Анну Франк ежедневно, она и Петер ван Пелс всегда были вместе. Анна сияла, и казалось, что этот свет распространялся на Петера. В начале мне бросились в глаза лишь ее бледность и болезненность, но потом я ощутила ее силу и обаяние. Она казалась такой яркой и особенной что моя дочь Джуди, Аннина ровесница, не решалась с ней заговорить. От нее как бы исходила теплая волна. Она была так свободна в своих движениях, манере говорить, что я невольно сказала себе: она счастлива. Счастье в Вестерборке — этому трудно поверить».
Рассказывает Ева Шлосс, семья которой подобно Франкам скрывалась по тайному адресу и была предана и арестована: «Нам совсем не было страшно в Вестерборке, он не казался настоящим концлагерем. Ужасен был арест, допросы, побои, но оказавшись на месте, мы ощутили своего рода свободу. Мы могли находиться на свежем воздухе, общаться с людьми, чего были лишены многие месяцы. Мы не сомневались, что выживем. Наверно такая уверенность — свойство человеческой натуры…».
Роза де Винтер восхищалась Отто Франком: «Отец Анны был молчалив, спокоен и уже одним этим помогал своим близким. Когда Анна заболела, он каждый вечер часами сидел у ее постели, рассказывая разные истории. И сама Анна была такой же. Когда она поправилась, то взяла на себя заботу о больном двенадцатилетнем мальчике Давиде. Они много говорили о вере и Боге: Давид происходил из семьи ортодоксальных евреев».
Однако Отто Франк был настроен менее оптимистично, чем казалось окружающим: «Днем в лагере мы работали, но по вечерам были свободны. Как мы радовались за детей, которые после месяцев заточения могли свободно разговаривать с другими людьми! В то же время нас, взрослых, ни на минуту не покидал страх депортации в польские лагеря уничтожения».
Роза де Винтер: «Для Эдит пребывание в Вестерборке было особенно тяжелым, она почти всегда молчала. Марго тоже была немногословна, но Эдит, казалось, пребывала в шоке. Каждый вечер она стирала нижнее белье. В грязной воде, без мыла — но все стирала и стирала…»
В начале сентября комендант лагеря Геммекер дал руководству Вестерборка задание составить список из тысячи человек для последней депортации на восток. В лагере началась страшная паника. Никто не знал, включено его имя в список или нет. Лишь за день до отъезда в штрафном бараке были зачитаны имена несчастных, среди них были Фриц Пфеффер, Герман, Августа и Петер ванн Пелс, Отто, Эдит, Марго и Анна Франк.
Рассказывает Роза де Винтер: «2 сентября нам объявили что завтра, рано утром — отъезд. Ночью мы собрали свои жалкие пожитки. У кого-то было немного чернил. Мы воспользовались им, чтобы на одеялах, которые везли с собой, нацарапать наши имена. На детских одеялах мы написали также адреса, где должны были — в случае, если потеряем другу друга — встретиться после войны. Я несколько раз повторила своей дочери Джуди адрес ее тетки в Зутпене. Семья Франк условилась о встрече в Швейцарии у родственников Отто».
Это был последний девяносто третий транспорт из Вестерборка. Предстояло перевезти 1019 узников: 498 женщин, 442 мужчин и 79 детей. 3 сентября 1944 года отъезжающим приказали подойти к перрону, на котором уже находилась вооруженная охрана. Царила смертельная тишина. Каждый заключенный нес с собой хлебный паек, выданный на дорогу. Людей выстроили в ряды. Тех, кто не мог идти сам, несли на носилках. Посадка продвигалась медленно: перрон был низкий, и даже здоровым людям забраться в поезд стоило труда.
Вспоминает Ева Шлосс: «Я насчитала 35 грузовых вагонов для нас и несколько второго класса — для сопровождающих. Грузовые вагоны были совершенно закупорены, но кое-где просвечивали щели, откуда тянулись руки, запертых в поезде людей. Они напоминали утопающих, отчаянно цепляющихся за жизнь. Сияло солнце, пели птицы, и тут же осуществлялось массовое убийство — немыслимо! В одиннадцать часов прозвенел звонок, и поезд тронулся. На его торце крупными буквами был указан маршрут: «Вестерборк-Освецим, Освецим-Вестерборк».
Но никто из пассажиров не знал места назначения.
На полу переполненных вагонов — в каждом перевозилось по 75 человек — лежало немного соломы и стояло ведро, служащее туалетом. Некоторые вагоны были страшно сырыми, в других же было невыносимо душно и темно: свет и воздух проникали лишь через лишь небольшую четырехугольную дырку в потолке.
Тяжелую вонь ощутили сразу, едва войдя в вагон, позже она стала нестерпимой. Многие заболевали дизентерией и умирали в пути.
В одном из вагонов, оттесненные к стене, ехали семьи Франк, ван Пелс, де Винтер, господин Пфеффер, Лена де Йонг и сестры Ленни и Дженни Бриллеслейпер. Еще до переезда через границу Голландии произошел страшный инцидент. Рассказывает Лена де Йонг: «Поезд вдруг остановился. Оказалось, что шесть пленных прорубили дыру в полу вагона и пытались бежать через нее. И это — на полном ходу! Один из них погиб, остальные пятеро выжили, но один мужчина потерял руку, а молодая девушка лишилась обеих. Раненых оставили на попечение местных голландцев, и это спасло их. Они живы до сих пор.
Остальных загнали обратно в вагон».
Когда поезд останавливался, охранники выдавали заключенным немного хлеба и вареной свеклы. Воды не хватало, всех мучила жажда.
Роза де Винтер: «Поезд стоял не на станциях, а между ними, где не было никаких указателей. Поэтому мы не могли понять, где находимся, а спрашивать боялись. Иногда стояли часами. Солдаты ходили по вагонам и требовали отдать им все ценное. Тем, кому удалось захватить с собой монеты или драгоценности, спрятав их за подкладку одежды, пришлось расстаться с ними. Другие предпочитали выбросить украшения и деньги в окно, чем отдать их в руки захватчиков. Бросали и скомканные записочки, адресованные родным и близким.
Эти весточки, подобранные простыми людьми, в том числе, немцами на территории Германии, нередко попадали потом к адресатам».
Ева Шлосс: «Это было страшно, невообразимо. Духота становилась особенно тяжелой, когда поезд стоял, что часто длилось часами. Солнце палило нещадно, крошечные окошечки едва пропускали свежий воздух. Вагоны были переполнены так, что всем сидеть одновременно не удавалось, поэтому садились по очереди. Ведро, служащее туалетом, опорожнялось на остановках, и часто стояло полным до краев».
По ночам почти никто не смыкал глаз. Скрип колес, страх, нестерпимый запах мешали заснуть. Люди рыдали, кричали, ссорились, некоторые теряли сознание. Вспоминает Лена де Йонг: «Госпожа Франк тайком захватила из Вестерборка лагерный комбинезон, и сидя у окна при свете карманного фонарика, пыталась снять с него красную нашивку с номером. Наверно, это был ее способ отвлечься, и ей казалось, что избавившись от нашивки, она как бы теряет клеймо заключенной. Девочки Франк, как и другие дети, старались быть ближе к родителям. Все устали смертельно».
Отто Франк писал в своих воспоминаниях: «В этот страшный трехдневный переезд я видел свою семью в последний раз. Мы старались сохранять мужество…».
Наконец поздно вечером поезд достиг конечного пункта. Послышался лай собак, вдалеке мерцал туманный свет. Двери, запертые в течение трех дней, открылись: «Евреи, выходитесь! Живо, живо, поторапливайтесь!»
Рассказывает Роза де Винтер: «Вокзал был освещен яркими прожекторами, направленными на наш поезд. По перрону с преувеличенным усердием сновали фашистские наемники из военнопленных: им было поручено выгнать новоприбывших пленников из поезда. Подгоняя людей приказами и угрозами, наемники выбрасывали из вагонов чемоданы и сумки и складывали их штабелями. Тут же бросали трупы людей, умерших в дороге». Послышался резкий крик: «Женщины налево, мужчины направо!». Мужчин, среди которых были Отто Франк, Герман ванн Пелс, Петер ван Пелс и Фритц Пфеффер, отогнали на другой конец вокзала, а женщин выстроили в пять рядов.
Ева Шлосс: «Первые несколько минут на платформе мы испытали облегчение: наконец свежий воздух и возможность подвигаться! Но тут мы увидели доктора Менгеле, известного под кличкой ‘ангел смерти’. Особый интерес он испытывал к близнецам и инвалидам с рождения. Один из его опытов состоял в том, чтобы умертвить одного близнеца и изучить эффект этой смерти на другом. За время своей службы в Освенциме с мая 1943 года он провел свои страшные эксперименты над 1500 близнецами. Должна признаться, что это был красивый мужчина: высокий, одетый с иголочки. Он стоял, окруженный офицерами СС и их прислужниками, направлявшими на нас оружие. И тут мы заметили табличку «Освенцим». О Боже, как описать, что мы почувствовали в тот момент? Мы распрощались с нашими мужчинами — к счастью, нам дали на это немного времени. Я проводила взглядом своего отца, не зная, суждено ли нам когда-то увидеться».
Вспоминает Отто Франк: «Я никогда не забуду момента, когда мы с Петером в последний раз видели его отца, которого среди других погнали к газовым камерам. Два часа спустя мимо нас проехали грузовики с их одеждой». Герман ван Пелс был одним из пятисот заключенных девяносто третьего транспорта, умерщвленных сразу по прибытии в Освенцим. Удушены были не только старые и больные, но и все дети моложе пятнадцати лет.
Ева Шлосс: «Мама дала мне большую шляпу и длинное пальто, которые спасли меня от газовой камеры: это несоразмерная одежда помешала Менгеле разгадать мой возраст».
Во время отбора решалось, кто будет допущен в лагерь. Формировались две колонны. Едва заметным движением глаз Менгеле распределял людей налево или направо. А громкоговорители неустанно повторяли: «Идти до лагеря целый час. Для больных и детей в конце платформы стоят наготове грузовые машины». Это была так называемая естественная селекция: грузовики отбывали прямо в газовые камеры. Женщинам, отобранным для лагеря, дали приказ отправляться и маршировать быстрым шагом. Вот они достигли ворот с известной всему миру надписью: «Arbeit macht frei» («Работа делает свободным») и вступили на территорию Биркенау, так называемого Освенцима-2, находившегося в трех километрах от основного лагеря. Вокруг забора из железных прутьев, по которым был пущен ток, виднелись бесчисленные неподвижные силуэты охранников.
Новоприбывших женщин погнали в так называемую баню, где они должны были мыться под ледяным душем, их одежду подвергли дезинфекции. Потом в «парикмахерской» им сбрили волосы с подмышек и на лобке. Волосы на голове тоже сбривали или коротко стригли. Пленницам выдали «новую» одежду: грубые тяжелые башмаки и платье — просто мешок с большим крестом на спине, означавшим: «новенький». Потом женщины обходили ряд служащих лагеря, чтобы сообщить свои персональные данные и получить лагерный номер, который вместе с фамилией был вытатуирован на руке.
Одна из заключенных позже рассказала: «Самым страшным в этой процедуре был момент, когда сбрили мои волосы. Лысая и голая, я стояла перед ними, совершенно незащищенная. Казалось, у меня отняли личность и достоинство, теперь я превратилась в ничто».
А у Евы Шлосс были другие мысли: «Вся эта длительная канитель с бритьем и номерами — как бы унизительна она не была — вселила надежду: значит нас не убьют!.. Между тем наемники из самих же заключенных были безжалостнее фашистов. Они спрашивали нас, успели ли мы распрощаться с отцами, братьями, сестрами…: «Их отправили в газовые камеры! Видите дым?».
Эдит, Марго и Анна Франк, Роза и Джуди де Винтер были направлены в барак 29. Впрочем, все бараки были одинаковыми: длинное узкое помещение 44.2 х 8.5 метра с примитивным умывальником и парашей. Нары из необработанного дерева в несколько ярусов, расположенные так близко друг другу, что на них можно было только лежать, сидеть нельзя. Матрасы были из соломы, и на пятерых заключенных полагалось всего два одеяла. Часто испражнения больных и обессиленных пленниц просачивались с верхних нар на нижние. Ева Шлосс: «Нам даже не досталось места на койках, и мы вынуждены были спать на полу, залитым нечистотами. Так, не покидая барака, нам предстояло провести три недели так называемого карантина, чтобы не занести в лагерь какие-то болезни. После «карантина» нам заново вытатуировали номера: оказывается, в первый раз ошиблись в числах».
Заключенных Освенцима-Биркенау будили пронзительными свистками в пол четвертого утра, после чего следовал безумный бег в туалет, расположенный на границе территории. Завтрак состоял из коричневого пойла непонятного происхождения. Правда, некоторым удавалось что-то «организовать», что на лагерном жаргоне означало «обменять». Осенью Анне удалось «организовать» теплые штанишки. Роза де Винтер: «У нас не было другой одежды кроме лагерных балахонов: под ними мы ничего не носили. Но когда наступили холода, Анна вдруг пришла в барак в длинных трусах до колен. Она выглядела в них смешно и трогательно».
Во время перекличек женщин выстраивали в ряды по пять. Старосты блока пересчитывали заключенных и докладывали начальству. Утренняя перекличка длилась сорок пять минут, вечерняя — час, но могла растянуться и до пяти часов. Рассказывает Ева Шлосс: «Часто мы стояли часами на невыносимом холоде, всегда рядами по пять. Двигаться было строго запрещено. Между рядами непрерывно сновали женщины из СС и их прислужницы из пленниц, они били плетками тех, кто уже был не в силах держаться на ногах. Нас старательно пересчитывали. Если было расхождение с числом предыдущего дня, то процедура повторялась. А расхождение было почти всегда: ведь люди умирали. Впрочем, и при самом счете нередки были ошибки. На этих перекличках мы проводили большую часть дня. Бог знает, откуда брались у нас силы и мужество».
Ронни Голдштей-ван Клееф, прибывшая из Вестерборка тем же транспортом, что и семья Франк, рассказывает: «Я часто стояла на перекличке рядом с Анной, и мы делили с ней кружку «кофе». Марго стояла с другой стороны от Анны или перед ней — как случится при построении в колонны. Каждый ряд состоял из пяти женщин. Анна была молчалива и погружена в себя. Казалось, она так и не опомнилась от удара судьбы, бросившего ее в это страшное место».
После переклички тела умерших за предыдущий день кидали в грузовики и увозили, а живых гнали на работу. Анна и заключенные из ее блока должны были раскапывать поле, лежащее в получасе ходьбы от лагеря — труд совершенно бесполезный и бессмысленный. Тем не менее, вездесущие надсмотрщики сновали и там и ударами плеток заставляли копать быстрее. В пол первого дня приносили суп: зеленоватую жидкость с несколькими кусочками овощей. Некоторые пленницы были уверены, что нацисты добавляли в него средства, вызывающие дизентерию и останавливающие менструацию. Полчаса женщинам разрешали посидеть, потом они работали еще шесть часов, после чего возвращались в лагерь.
Роза де Винтер: «Нам всегда хотелось пить, особенно, во время переклички. Если шел дождь или снег, то мы высовывали язык в надежде, что на него попадут несколько капель. Многие из-за этого схватывали простуду, но жажда была страшнее болезней. Один раз я так мучалась от жажды, что мне казалось: не выдержу, умру. И вдруг передо мной возникла Анна с кружкой «кофе». До сих пор не понимаю, откуда она ее взяла».
Ужин состоял из кусочка хлеба с капелькой маргарина.
Роза: «Анна была младшей в блоке, но именно ей мы поручили распределять хлеб». Она исполняла это задание тщательно и честно — так, что никто не оставался в обиде». В девять бил отбой, и следующие шесть часов заключенные пытались спать, насколько это было возможно в тех страшных условиях. Барак Эдит, Анны и Марго выделялся высокой смертностью.
Ленни де Йонг: «Некоторые заключенные из их блока — даже сильные и выносливые на вид — сходили с ума и бросались на провода, по которым был пропущен ток». Газовая камера работала безостановочно. В еврейский праздник — день Примирения — в нее отправили целый барак, в котором было много больных.
Один раз по дороге с работы, проходя мимо газовых камер, группа Анны наткнулась на несколько венгерских детей, ожидавших под проливным дождем своей очереди.
Вспоминает Роза де Винтер: «Анна толкнула меня: «Посмотри только на их глаза…». Она плакала. А вообще у большинства из нас уже давно не было слез».
Цыганское отделение лагеря было поначалу довольно привилегированным. Семьи не разлучали, и для детей даже открыли школу. Но в сентябре 1944 года немцы решили уничтожить всех цыган. Роза: «Мы видели, как их загоняют в грузовики, но казалось, не осознавали, что происходит. Ежедневное столкновение со горем и смертью словно ожесточило наши души. Но Анна страдала вместе с обреченными. Как она плакала, когда мимо нас проехал грузовик с цыганскими девочками, совершенно голыми!».
Роза очень привязалась к Анне. «От нее исходила какое-то внутреннее обаяние. Наверно, благодаря ему ей порой перепадало что-то лишнее. Когда Джуди заболела и ужасно страдала от жажды, Анна «организовала» для нее чашку теплого «кофе»… Она часто ухаживала за больной матерью. Эдит была совершенно беспомощна, и Анна делала для нее все, что могла: живо, бодро и даже — в этих условиях — с особой грацией».
Заключенные поддерживали других и искали поддержку у товарищей по несчастью. Так возникали группы. В одной из них были Эдит, Анна, Марго, Роза, Джуди и несколько немецких евреек. Госпожу ван Пелс они потеряли из виду с момента прибытия в лагерь.
Рассказывает бывшая пленница: «Они всегда были вместе — мать и две дочки. Непонимание и ссоры, описанные в дневнике — все это исчезло в тех страшных обстоятельствах. Эдит Франк всегда думала о девочках, старалась достать для них что-то съестное. Она неизменно сопровождала их в туалет. И постоянно переживала за детей. Но что было в ее силах?».
Из рассказа другой заключенной: «Что-то происходило с нашими чувствами и достоинством. Помню жуткую сцену: несколько истощенных голых женщин дерутся из-за куска заплесневелого хлеба. Когда я первый раз увидела телегу с грудой трупов, то оцепенела от ужаса. Второй раз подумала: «Ах, опять». А третий раз и вовсе не обратила внимания… Эдит, Анну и Марго я всегда видела втроем. Конечно, я тогда понятия не имела о дневнике и не знала, какая Анна особенная».
7 октября самых молодых и сильных женщин из блока Эдит, Анны и Марго отобрали для работы на оружейной фабрике. Каждая мечтала попасть туда: ведь это был шанс выжить! Джуди де Винтер оказалась одной из счастливиц. Она вспоминает: «Помню мой последний разговор с Марго и ее матерью. Анна находилась в санитарном блоке, потому что у нее была чесотка, иначе ее, наверно, тоже взяли бы на фабрику. Госпожа Франк сказала: «Конечно, мы останемся вместе с ней», и Марго кивком подтвердила это. Больше я их никогда не видела».
Возбудители чесотки — клещи, проникающие под кожу и вызывающие появление зудящих и гноящихся ран. Анну, подхватившую эту болезнь, поместили в так называемый чесоточный барак. Марго из солидарности пошла туда вместе с ней. Лена де Йонг вспоминает, что Эдит была в отчаянии: «Она не съедала свой хлеб, а искала возможность передать его девочкам. Она пыталась вырыть дыру под стенкой санитарного блока, что в рыхлой земле было не так трудно. Но у Эдит не хватало сил и для этого, и тогда взялась за дело я. Она стояла рядом, то и дело спрашивая: «Ну как, получается?». Дыра удалась, через нее мы могли переговариваться с девочками и передавать им еду.
Марго тоже заразилась чесоткой: это было неизбежно. В санитарном блоке тогда находились также Ронни Гольдштейн и Фрида Броммет. Фридина мать вспоминает, как она и Эдит воровали для больных девочек суп: «Нужда научила нас ловко и незаметно черпать дополнительные порции при разноске. А вообще, как только выдавалась свободная минутка, мы отправлялись на поиски еды. Подобно матерям-тигрицам мы рыскали по лагерю, и все, что удавалось найти, отдавали нашими детям.
Ронни Гольдштейн: «Если я слышала у стены голоса госпожи Броммет или госпожи Франк, то знала, что они принесли нам что-то поесть. Болезнь у меня протекала относительно легко, поэтому именно я подходила к стене, брала передачу, и мы делили ее на всех. Женщины приносили хлеб, кусочки мяса или баночку сардин, украденные со склада. Так что в больничном блоке мы питались относительно неплохо».
Однажды Ронни нашла в матрасе платиновые часы, спрятанные, очевидно, другой заключенной — умершей или вернувшейся в свой барак. Ронни отдала находку Эдит и госпоже Броммет, которым удалось обменять их на целую буханку хлеба, сыр и колбасу.
Для Марго и Анны все передачи — даже крошечные — были чрезвычайно важны: их болезнь протекала тяжело, и они были сильно истощены. «Девочки Франк в чесоточном блоке, — вспоминает Ронни Гольдштейн, — почти не общались с другими. Только при дележе еды они немного оживлялись. Они болели тяжело: их тела сплошь покрывали сыпь и язвочки. Мазь — единственное наше лекарство — помогала мало. Девочки мучались от зуда и были очень удручены. Чтобы немного подбодрить их, я часто им пела».
Одежду у больных чесоткой отнимали из санитарных соображений. Обнаженные, обессиленные, они лежали на полу, наблюдая, как за окном растет гора трупов.
****
Между тем Отто Франк, Петер ван Пелс и Фритц Пфеффер пытались выжить в мужском бараке Освенцима. Их товарищ Самюэль де Лима вспоминает: «Некоторые из нас находили в себе мужество надеяться и бороться за свою жизнь, тогда как другие впадали в депрессию или буквально сходили с ума от голода. Отто как-то сказал: «Нам надо держаться от этих людей подальше, ведь от этих бесконечных разговоров о еде потеряешь рассудок…». Именно этого — лишиться разума — мы боялись больше всего. Мы старались отвлечься от постоянных голодных мыслей: говорили о Бетховене, Шуберте, операх и даже пели». Отто и Самюэль стали хорошими друзьями и находили друге в друге поддержку.
Рассказывает Самюэль: «Отто как-то сказал мне: «Почему бы тебе не называть меня папа Франк, ведь по возрасту ты годишься мне в сыновья? » Я не понял его и ответил: «Зачем же? У меня есть отец, он сейчас живет по подпольному адресу в Амстердаме». «Я знаю, но сделай это, пожалуйста, для меня». С тех пор я называл его папой.»
29 октября в барак нагрянула комиссия — очередная селекция. Отто, Самюэля и Петера оставили в Освенциме, а доктора Пффефера депортировали сначала в Заксенхаузен, а затем в немецкий концлагерь Нойенгамме, где он умер 20 декабря 1944 года. О последних днях его жизни ничего не известно.
****
30 октября 1944 года объявили селекцию и в женском отделении Освенцима-Биркенау. Русские тогда уже были приблизительно в ста километрах от лагеря.
Рассказывает Ленни Бриллеслейпер. Нас палками выгнали из барака, но не послали на работу, а собрали на площади для общей переклички и заставили раздеться догола. Так мы простояли день, ночь и еще один день. Иногда разрешали лишь чуточку размяться и время от времени кидали нам сухие куски хлеба. Потом плетками погнали в большой зал, где было, по крайней мере, тепло. Этот зал, где и собирались провести отбор, был залит нестерпимо ярким светом. Офицер, в руках которого находилась наша судьба, был никем иным, как самим Йозефом Менгеле. «Я бы узнала его из тысячи, — вспоминает Ленни.»
Высокий блондин с красивым интеллигентным лицом. Нас взвешивали и осматривали, после чего Менгеле указывал рукой налево или направо: как мы думали — жизнь или смерть». Многие женщины прибегали ко лжи, как последнему средству спасения: они убавляли себе годы. Так поступила и Роза. «Мне 29! — закричала она Менделе, — и у меня ни разу в жизни не было поноса!». Но палач указал пальцем направо — группу старых и больных. Там же вскоре оказалась и Эдит.
Вот на очереди девочки Франк. Роза и Эдит сжались от ужаса. Роза, как сейчас, видит их перед собой: «Пятнадцать и восемнадцать лет, голые, худющие, под безжалостными взглядами фашистских офицеров. Анна смотрела прямо перед собой, она подтолкнула Марго, чтобы та выпрямилась». Тощие, истощенные подростки со следами недавней болезни. Но они были молоды.
«Налево!» — приказал Менгеле.
Воздух пронзил страшный крик Эдит: «Дети, о дети!»
Женщины, оставшиеся в Освенциме, забились в больничный барак, словно надеясь найти там спасение от безжалостной судьбы. Роза де Винтер: «Мы лежали вперемежку — исхудавшие, совершенно обессиленные. Эдит сжимала мою руку. Вдруг открылась дверь, и вошла женщина с фонарем. Направив его на нас, она выбрала двадцать пять человек, которые выглядели чуть лучше других. Мы с Эдит оказались среди них. «Скорее, скорее, — торопила нас женщина, в которой я узнала старосту греческого барака, — на перекличку, в другой блок». Потом, оглядываясь, мы видели, как оставшихся увозили в газовые камеры».
****
Анна и Марго находились среди 634 женщин, отобранных для отправки в другой концлагерь. Им выдали старую одежду и обувь, одеяло, четвертушку хлеба, двести грамм колбасы и капельку маргарина. Потом всех загнали в поезд. Никто из заключенных не знал, куда они едут. Четыре дня они провели в набитом до предела, жутко холодном вагоне. Пищу им больше не давали. Поезд доставил пленниц на станцию, лежащую на расстоянии километра от лагеря Берген-Белзен.
Их повели в новое отделение лагеря, срочное строительство которого началось в сентябре 1944 года. Но бараки еще не было достроены, и узницам предстояло жить в палатках.
Ленни Бриллеслейпер рассказывает о дороге от станции к лагерю: «Мы — живые скелеты в лохмотьях — шли по чудесной местности. Ландшафт напоминал Голландию, и осень стояла во всем своем великолепии. Вдруг кто-то из нас падал…Необыкновенная природа — и смерть. Это был чудовищный контраст. А вдоль дороги стояли местные жители и смотрели на нас. Вот мы прошли через ворота, и оглядевшись по сторонам, не увидели газовых камер. Все вздохнули с огромным облегчением! Но бараков мы тоже не увидели — только палатки, а ведь на дворе стояла глубокая осень. Нам всем выдали немного еды и по одеялу».
Ленни и Дженни познакомились с семьей Франков еще в Вестерборке, откуда они вместе были переправлены в Освенцим. Но там их пути разошлись. А вскоре после прибытия в Берген-Белзен они неожиданно встретили Анну и Марго. Ленни: «Мы заметили на холмике кран воды и тут же поспешили туда, чтобы хоть немного помыться. Вдруг мы увидели двух девочек, бежавших к нам навстречу и что-то кричащих по-голландски. Они бросились к нам на шею — это оказались сестры Франк: наголо обритые, исхудавшие, почти прозрачные. Мы тут же спросили их о матери. Анна расплакалась, а Марго тихо ответила: «Селектирована», что означало «газовая камера». Мы быстро помылись на холодном воздухе и натянули на себя ту же одежду: другой не было. Потом спустились в палатку».
Вспоминает Дженни Бриллеслейпер: «В палатке было грязно, а запах напомнил мне клетки хищников амстердамского зоопарка. Мы пришли слишком поздно, поэтому нам достались худшие места — на верхних нарах. Там было нестерпимо жарко, наверно, от огромного скопления людей. Вскоре пошел дождь, вода просачивалась на нас сквозь дыры. Мы с сестрой забились вместе под наши одеяла, так же как и Анна с Марго. Они напоминали умирающих птичек, на них больно было смотреть…». Из рассказа другой заключенной: «Пол и нары покрывал лишь тонкий слой соломы, света не было. Не было и туалета, а попасть в общую лагерную уборную удавалось редко: ее всегда окружала толпа».
7 ноября разразилась непогода: сильный ветер, дождь. Порывы ветра сломали непрочные основы палаток. Каким-то чудом всем женщинам удалось выбраться из-под них. Ленни Бриллеслейпер: «Под ураганом и проливным дождем мы стояли в своих лохмотьях, пока охранники не загнали нас на кухню. На следующий день нас перевели в сарай, забитый старым тряпьем. Анна спросила: «Почему они хотят сделать из нас зверей?». На что кто-то ответил: «Потому что они сами — дикие звери». А потом мы заговорили о том, как будем жить после войны… Эти разговоры были редким лучиком света в нашем немыслимом существовании. Ах, мы не знали, что самое страшное еще впереди!».
В конце концов замерзших и обессиленных женщин поместили в недостроенный барак. Кран был один на всю территорию с несколькими тысячами заключенных. Земля вокруг скоро превратилась в открытый общественный туалет, поскольку у многих не хватало сил дойти до лагерной уборной. Антисанитария была страшная. Тела умерших часто неделями лежали рядом с бараками, а в лагерь все прибывали новые заключенные.
Нары Анны и Марго и сестер Бриллеслейпер находились рядом. Лени вспоминает: «Воля девочек еще не была сломлена. Анна сочиняли разные истории, и Марго — тоже. Забавные шуточные рассказы. Мы рассказывали по очереди, и в основном речь шла о еде. Один раз мы фантазировали, как пойдем в американский ресторан, и Анна вдруг расплакалась: ей стало страшно от мысли, что она никогда не вернется домой. Мы составляли меню из разных вкусностей. Еще говорили о том, что будем делать после освобождения. Анна часто повторяла, что ей еще предстоит много учиться».
Предполагалось, что женщины Берген-Белзена будут работать за территорией лагеря, но из-за слабого здоровья их ежедневно посылали в так называемый «обувной» барак, забитый старыми башмаками. Обязанности заключенных состояли в том, чтобы отделить подошву от верхней части туфель. На это хватало сил лишь немногим, к тому же руки быстро покрывались гнойными ранками. Заражение крови стало частым явлением. Ленни и Анна были одними из первых, кто отказался от этого непосильного труда. Ленни: «Моей сестре и Марго кое-как удавалось работать, и они делили с нами дополнительный паек, который за это получали: кусочек хлеба и немного водянистого супа. Мы же с Анной «организовывали» еду, то есть воровали или выпрашивали на кухне. Тех, кто на этом попадался, избивали, но нам везло. Это было более выгодное занятие, чем работа. Но мы никогда не крали у своих, а только у нацистов».
****
Анна и Марго были уверены, что их мать погибла в газовой камере, но Эдит была жива и в страшных нечеловеческих условиях Освенцима продолжала бороться за свою жизнь. Роза де Винтер стала ее верной подругой, женщины старались держаться вместе. Они даже радовались, когда их вдвоем поместили в «чесоточный» барак. Роза вспоминала потом, что они забились под одно одеяло, но не могли сомкнуть глаз. На следующее утро их и некоторых других пленниц выгнали на перекличку, что они сочли за новое издевательство. Но это оказалось спасением: скоро они увидели, что всех женщин из «чесоточного» блока отправляют грузовиками на смерть. Так называемые чистки длились неделями, после чего газовые камеры Освенцима по приказу рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера были демонтированы и разрушены. Не иначе, как к лагерю подступали союзники…
Эдит и Розу поместили в инвалидный барак, предназначенный для женщин, которые не могли работать. Пленницы страдали от голода, а еще больше от жажды. И с отчаяния глотали снег. Снегом они и мылись — на ледяном холоде, чтобы хоть немного уменьшить муки, причиняемые вшами. В один день Роза была вынуждена отвести свою подругу в санитарный блок. Эдит отказывалась: боялась регулярных селекций среди больных, она не хотела умирать. Но ее била лихорадка, температура поднялась до 41 градуса, а в так называемой больнице было по крайней мере тепло. И все же жить Эдит оставалось недолго. Роза де Винтер: «Она так исхудала, что напоминала собственную тень. Я прилегла к ней на нары, стараясь хоть немного ее приободрить. Но она едва сознавала, что происходит. Эдит не съедала свой хлеб, а прятала под матрас, уверяя, что бережет его для своего мужа. Может, она была слишком слаба, чтобы есть?».
Эдит умерла 6 января 1945 года — от чего, точно не известно: тифа, дизентерии или просто — от голода.
****
В конце ноября в Берген-Белзен прибыла Августа ван Пелс. Анна и Марго не видели ее два месяца, прошедшие со дня депортации из Вестерборка. Госпожа ван Пелс примкнула к их группе, которая кроме Ленни и Дженни Бриллеслейпер включала в себя сестер Дину и Ханну Даниэлс и совсем юную девочку Соню — по воспоминаниям очевидцев, талантливую и мечтательную. Все они были из Голландии и заботились друг о друге. Ленни: «Когда приносили еду, нужно было не упустить свою долю, иначе все расхватывали другие заключенные. В этом отношении в Освенциме было больше порядка, здесь же царил хаос. Еду мы всегда делили поровну. Следили за тем, чтобы наши подруги не забывали мыться, но и не слишком усердствовали: ведь кран с холодной водой находился на улице. Но как мы не старались поддерживать друг друга, все постепенно теряли силы и волю: мы не жили, а существовали».
В декабре 1944 года заключенные Берген-Белзена попытались отпраздновать Рождество. Ленни: «За несколько дней мы начали откладывать хлеб и кофейный суррогат из нашего жалкого рациона, а к празднику нам даже выдали немного сыра. Я спела в другом бараке несколько песенок, за что мне дали кислой капусты. Анне удалось достать где-то головку чеснока, а сестрам Даниэлс — морковку и свеклу». Все это мы поставили на наш рождественский стол, тайком разожгли камин и поджарили на нем картофельную кожуру. Анна сказала: «Мы отмечаем не только Рождество, но и Хануку». Мы пели еврейские песенки и плакали. Потом стали рассказывать истории. Марго вспомнила, что их отец был мастером сочинять. «Жив ли он?» — спросила она в слезах. Анна ответила: «Конечно, жив!». Потом мы легли спать и еще долго плакали под одеялами».
Одна из бывших пленниц: «Можно ли рассказать о Рождестве 1944 года в Берген-Белзене, которое отмечали четыре тысячи умирающих? Женщины, сжавшиеся от холода, скрюченные, истощенные дети пытались хоть как-то отметить праздник. Ах, если бы даже нашлась рука, способная описать все ужасы нашего существования, то ни один глаз не смог бы прочитать эти строки, и ни одно сердце не выдержало их…».
****
В конце ноября 1944 года в Освенциме оставалось 32.000 заключенных, среди которых был и Отто Франк. Непосильная работа, грубое отношение надсмотрщиков, скудная пища подорвали его здоровье и силу духа. «Тогда я, действительно, сломался, не только физически, но и духовно. Однажды утром я не смог встать с нар. Но мои товарищи настояли на том, чтобы я собрал все силы и поднялся. «Иначе, — утверждали они, — это верный конец». Они позвали голландского врача, и тот отправил меня в больничный барак. «Я постараюсь уговорить немецкого доктора оставить тебя там подольше», — сказал он. И в самом деле — уговорил, и этим спас мою жизнь.
Петер ван Пелс работал в почтовом отделении Освенцима и получал дополнительный паек. Он навещал Отто в санитарном блоке, и Франк убеждал его попытаться тоже туда попасть, в крайнем случае, затаиться где-нибудь — но во чтобы то ни стало избежать депортации. Но Петер отказался — боялся наказания. Кроме того, никто не знал, кто подвергается большей опасности: оставшиеся или депортированные заключенные. Ведь возможно, нацисты начнут уничтожать оставшихся перед приходом освободителей.
16 января группа заключенных, среди которых был Петер, покинула Освенцим. Так начался их последний скорбный путь, по которому шли десятки тысяч других пленников из Дахау, Заксенхаузена, Равенсбрюка и Бухенвальда. Люди шли, оставляя за собой неисчислимое количество трупов. Петеру удалось добраться живым до австрийского Маутхаузена, где он умер 5 мая 1945 года за три дня до освобождения лагеря.
27 января Освенцим был освобожден русскими войсками. Отто вспоминает солдат в меховых полушубках: «Это были хорошие люди. То, что они коммунисты, нас мало волновало: мы видели в них прежде всего наших освободителей! Русские дали нам еду, хотя у них самих было немного, и позаботились о больных». Отто выделили отдельную койку в бараке, где находились также и женщины из Биркенау. Среди них была Ева Шлосс: «Я обратила внимание на сильно исхудавшего мужчину среднего возраста. Его голова напоминала скорее череп, но глаза были живыми и пронзительными. Мне казалось, что я его уже где-то видела». Вдруг он улыбнулся: «Я Отто Франк, — сказал он, — а ты — Ева, верно ведь, подружка Анны?». Отто подошел ближе, слегка обнял меня, а потом крепко сжал мои руки: «Скажи, знаешь ли ты что-то об Эдит, Анне и Марго?». Но я ничего не могла ему рассказать: я уже давно потеряла их след.
Здоровье Отто постепенно восстанавливалось. 25 февраля он написал письмо матери в Швейцарию.
Дорогая мама,
Надеюсь, что до вас дойдут эти строки. Меня освободили русские солдаты, и я прибываю в хорошем здравии. Об Эдит и детях мне ничего не известно, скорей всего, они были депортированы в Германию. Всем сердцем я надеюсь, что они живы, и что мы скоро встретимся. Надеюсь, с вами все благополучно. Пожалуйста, сообщите моим друзьям в Голландию и братьям Эдит в Америку, что я свободен и здоров. Надеюсь, получить от вас весточку.
Нежно целую,
Ваш сын Отто.
****
В начале 1945 года в Берген-Белзен прибыла новая партия заключенных. Среди них была и Рут Бонихади, которой удалось поговорить с Анной через колючую проволоку: «Мы болтали подобно обычным девочкам нашего возраста: об одежде, о мальчиках… Как будто и вовсе не было войны. Но конечно, говорили и о пропавших семьях, скудности пищи. Анна показалась мне слишком взрослой для своих лет. Но это относится ко всем нам: ведь столько пришлось испытать. У меня и в мыслях тогда не было, что Анна — писательница…».
Вспоминает Ленни Бриллеслейпер: «Чтобы освободить место для новой партии заключенных, нас перевели в другую часть лагеря. Анна была очень возбуждена, она хотела как можно скорее узнать что-то о новоприбывших: «Идемте сейчас же туда, они все из Голландии, может, встретим знакомых!». На несколько минут из грустной и углубленной в себя девочки она превратилась в ту Анну, которую мы позже узнали по ее дневнику: живую, полную энергии… Но этот подъем длился недолго. Она в самом деле встретила несколько знакомых, и узнала от них, что ее старая школьная подруга Лиз уже давно находится в Берген-Белзене. Она разыскала ее, и Лиз отдала Анне что-то из еды. Та хотела разделить ее со всеми нами, но мы отказались: это был подарок только для нее и Марго».
****
Ханнели (Лиз) Гослар, ее отец, двухлетняя сестенкя Габи, домработница и бабушка с дедушкой со стороны матери были арестованы в Амстердаме 20 июня 1943 года и помещены в нидерландский концлагерь Вестерборк. Мать Лиз скончалась незадолго до этого при родах третьего ребенка, родившегося мертвым. Дед умер в Вестерборк в ноябре 1943 года, а три месяца спустя Лиз с отцом, бабушкой и сестрой оказалась в Берген-Белзене. Они содержались в лучших условиях, чем сестры Франк и другие женщины из их группы.
Когда в лагерь прибывали новые заключенные, Лиз старалась узнать, нет ли среди них знакомых. Она случайно встретила Августу ван Пелс, которая рассказала ей, что в лагере находится Анна Франк, и обещала позвать ее к забору. Лиз Гослар: «Я услышала голос Анны, она звала меня, а потом увидела ее саму: замерзшую, наголо обритую, худую, как скелет. Она рассказала, что они вовсе не эмигрировали в Швейцарию, а скрывались в Амстердаме, и что ее матери уже нет в живых, и отца, наверно, тоже. Да, Анна думала, что ее отца убили, а ведь это было не так! Она обожала его, и если бы знала, что он жив, то это, возможно, дало бы ей силы выжить самой…». Девочки не могли наговориться о том, что им пришлось пережить в последние годы. Анна пожаловалась на голод, и Лиз, в барак которой поступали посылки от «Красного Креста», пообещала ей помочь.
Следующим вечером они снова встретились, и Лиз перебросила через забор пакет с шерстяной кофтой, печеньем, сахаром и баночкой сардин. Вдруг она услышала отчаянный крик Анны: другая пленница схватила передачу и убежала. Через день Лиз наконец удалось передать подруге посылку. Больше они уже никогда не виделись.
Матери одной из одноклассниц Марго также случилось встретить Анну в Берген-Белзене: «Я увидела ее через колючую проволоку, отделявшую от нас другой лагерный район. Условия там были гораздо хуже наших: ведь мы получали пакеты от «Красного Креста», а у них не было ничего. Я крикнула: «Анна, не уходи!», бросилась в свой барак, собрала все, что мне попалось под руку, и вернулась обратно к забору. Но я была слишком слаба, чтобы перекинуть через него посылку. Тут я увидела знакомого заключенного, господина Брила — мужчину высокого и еще довольно сильного. Я сказала ему: «У меня здесь старое платье, мыло и кусок хлеба. Не могли бы вы передать все это той девочке?» Он засомневался — ведь за такие действия грозило наказание — но, как только увидел Анну, кивнул мне и сделал то, о чем я просила».
Однажды в Берген-Белзен поступила группа совсем маленьких детей. Их содержали в относительно сносных условиях, поскольку не могли точно определить: евреи они или нет. Ленни, Дженни, Анна и Марго часто навещали малышей, рассказывали им сказки, пели песенки. Потом Ленни и Дженни добровольно пошли работать санитарками в барак для смертельно больных. Их пути с Анной и Марго тогда разошлись: слабое здоровье не позволило девочкам Франк присоединиться к ним. Сестры Бриллеслейпер увиделись со своими подругами, когда те уже были тяжело больны.
Ленни: «Марго совсем ослабела от дизентерии и уже не вставала. Анна ухаживала за ней, как могла, а мы пытались «организовать» что-то из еды. Потом их перевели в санитарный блок. Мы хотели отговорить их: ведь находиться там во время эпидемии тифа означало верный конец. Но в «больнице» было по крайней мере тепло. Анна сказала: «Главное, что мы вместе, а там пусть будет, как будет». Марго молчала: у нее была высокая температура, и она мечтательно улыбалась. Ее душа витала уже где-то далеко… «.
****
В начале марта 1945 года русские поезда доставили бывших заключенных Освенцима в польский город Катовиц. Большинство из них разместили в здании школы. Отто старался не терять связи с друзьями и родственниками. 18 марта он писал своей племяннице в Лондон: «… Я не знаю, должен ли рассказать матери во всех подробностях о том, что мне пришлось пережить. Сейчас я здоров, и это главное. Постоянно вспоминаю голландских друзей, оказавших нам неоценимую помощь, когда мы жили в укрытии. Куглера и Кляймана арестовали вместе с нами. Невыносимо думать, что они пострадали из-за нас, и надеюсь всем сердцем, что они сейчас живы и свободны.
Больше всего меня мучает то, что я не знаю, где Эдит и дети. Я всегда был оптимистом, стараюсь и теперь не терять надежды». Через два дня, как было отправлено это письмо, Отто встретил Розу де Винтер. Рассказывает Роза: «Мы сразу узнали друг друга. Я не знала, как сообщить ему о смерти Эдит и боялась вопросов, которые, как я видела, уже готовы были сорваться с его губ. Он смотрел на меня глазами, полными надежды. Я сказала, стараясь не расплакаться: «Мне ничего не известно о ваших детях. Но вашей жены больше нет. Она умерла на нарах рядом со мной…»
Письмо Отто матери:
Дорогая мама,
Пишу несколько строчек. Я узнал страшную новость о том, что Эдит больше нет в живых. Она умерла от истощения 6 января. Ах, если бы она продержалась еще две недели, то, возможно, дождалась бы русских. Теперь я живу только мечтой, что встречусь с девочками. Скорей бы вернуться в Голландию! Больше писать не могу.
С любовью, Отто.
****
В период с декабря 1944 по март 1945 в Берген-Белзен прибыло около 45.000 мужчин, женщин и детей. Лагерь тогда был охвачен эпидемией сыпного тифа. Дневной паек состоял из чайной ложки маргарина, кусочка сыра или колбасы, чашечки заменителя кофе и немного супа. Хлеб выдавали очень редко. Изголодавшиеся пленники варили траву, а когда в барак несли суп, слизывали упавшие на землю капли. Еду доставляли с охраной — обезумевшие от голода, пусть и крайне ослабевшие люди, были опасны.
Как-то заключенным в течение нескольких дней не выдавали воду, а тех, кто пытался сам добраться до колодца, расстреливали. Казалось, никогда еще на квадратном километре земли не лежало столько мертвых тел… Трупы ежедневно увозили в крематорий, но их становилось все больше, и печи уже не справлялись с нагрузкой. Тогда тела просто стали оставлять на земле и в самих бараках. Бывало, что голод доводил до каннибализма. А между тем сытная еда была за стенкой: склад лагеря ломился от посылок «Красного Креста».
Назвать условия в так называемых больничных бараках антисанитарными было бы слишком мягко: все больные страдали поносом, и помещение было полно нечистот. Заболевшие сыпным тифом Анна и Марго находились как раз в таком бараке.
Вспоминает одна заключенная: «Девочки Франк слабели с каждым днем. Тем не менее, они ежедневно подходили к забору так называемого свободного лагеря в надежде, что им перепадет какая-то передача. Иногда им везло, и тогда они, радостные, возвращались к своим нарам с посылкой и с жадностью съедали ее содержимое. Но было видно, что они очень, очень больны. Выглядели они ужасно. Иногда Анна и Марго бранились из-за пустяков — и это все из-за болезни. А то, что у них был тиф, не оставляло сомнений. Их нары находились на очень неудобном месте: внизу около двери. Девочки постоянно мерзли, и время от времени слышались их крики: «Дверь! Закройте дверь!» Эти отчаянные просьбы с каждым днем звучали все тише. Я была свидетельницей их постепенного мучительного угасания, сопровождающегося апатией, иногда прерываемой лихорадочным возбуждением».
Самая крупная, известная в истории эпидемия сыпного тифа была в концлагерях Второй мировой войны. Эта страшная болезнь, разносимая вшами и клещами, из-за отсутствия мер профилактики охватила весь Берген-Белзен. Тиф характеризуется высокой температурой, постоянной головной болью и ломотой в спине. Через несколько дней на коже — сначала в области живота, а потом по всему телу — появляется розовая сыпь. Сознание больных заторможено, они плохо ориентируются во времени и пространстве, речь тороплива и бессвязна, периоды возбуждения сменяются угнетением и апатией. Если тиф не лечить, больного ждет мучительная смерть, сопровождаемая лихорадкой и судорогами. У Марго и Анны были налицо все симптомы этой болезни.
Вспоминает Ленни Бриллеслейпер: «…Мы снова навестили девочек Франк. Перед нами предстала удручающая картина. Марго упала с нар на цементный пол и лежала там в полузабытье. У Анны была высокая температура. Тем не менее, она встретила нас весело: «Марго сладко спит, а раз так, то мне не надо к ней вставать». И прибавила: «Ах, мне так тепло!». Она выглядела довольной и радостной».
Видимо, падение на холодный пол оказалось роковым для тяжело больной Марго. Точная дата ее смерти не известна: она умерла в середине или конце марта 1945 года.
Дженни Бриллеслейпер: «Анна была тоже очень больна, но пока жила Марго, она еще как-то держалась… А после смерти сестры, казалось, совсем перестала бороться за свою жизнь. В один день я застала ее голой, завернутой в одеяло: она не могла больше вынести неисчислимого числа вшей и других паразитов на своей одежде и поэтому выбросила ее. Зимой, в мороз, она лишь слегка прикрывала свое тело. Я принесла ей какие-то тряпки — все, что могла найти. Еду дать не могла, мы и сами страшно голодали».
В один день Ленни и Дженни застали нары Анны пустыми: «Мы знали, что это означает. Стали искать рядом с бараком и нашли. Позвав на помощь еще двух женщин, мы оттащили бесчувственное тело к общей могиле, куда раньше уже отнесли и Марго. Накрыв тело Анны одеялом, немного постояли и ушли. Мы сделали все, что могли».
****
15 апреля 1945 года, через две или три недели после смерти Анны Франк, Берген-Белзен был освобожден английскими войсками. Незадолго до их прихода руководство лагеря сделало попытку хоть частично замести следы своих преступлений и заставило две тысячи полумертвых заключенных копать могилы для еще не захороненных: ямы девятиметровой глубины в замерзшей земле. Пленники с лопатами еле плелись от могилы до могилы. А лагерный оркестр играл марш. Страшный танец мертвецов, который нельзя описать.
Вспоминает лейтенант-генерал Гонин, один из освободителей лагеря: «Я видел мужчин, которые, держа в руках кусок хлеба, ели червей, потому что не видели разницы между тем и другим. Я видел людей, привалившихся к горе трупов, поскольку они не могли удержаться на ногах. Я видел обнаженную женщину, моющуюся в резервуаре воды, в котором плавал труп младенца. Пленники были так истощены, что часто невозможно было понять: мужчина это или женщина. Нередко трупы лежали — возможно, днями или неделями — рядом со своими живыми соседями по нарам».
В Бергене-Белзене еще оставались 10.000 непогребенных тел, для которых нацисты по приказу освободителей должны были копать могилы. Но похоронить каждого в отдельности не было никакой возможности, а промедление означало опасность распространения тифа. Пришли на помощь бульдозеры. Они сбросили в одну могилу тысячи трупов. Военные священники и раввины торопливо читали молитвы.
24 апреля началась эвакуация заключенных, а в середине мая все бараки и другие строения лагеря были сожжены, в том числе барак Анны и Марго. Тела обеих девочек покоятся в общей безымянной могиле Берген-Белзена.
1. Рин-тин-тин — имя собаки из известного детского фильма).
2. C восьми вечера для евреев был установлен комендантский час.
3. В Голландии десятибалльная система оценок.
4. «Vice versa» — «наоборот» (латинский).
5. Бейенкорф — Известное название универмага в Нидерландах.
6. Имеется в виду двоюродные братья Бернд и Стефан.
7. Моф — прозвище фашистов у голландцев.
8. Бабушка Франк была неизлечимо больна.
9. Муж наследницы престола Юлианы.
10. Вид салата, употребляемого в основном в горячем виде.
11. Члены Нидерландского правительства.
12. Жаргон: с унитаза.
13. День страшного суда
14. Муссерт — руководитель нацисткой партии в Голландии
15. Бернд — двоюродный брат Анны.