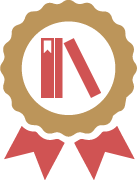РАСТЛЕНИЕ МАЛОЛЕТНЕЙ (Из романа «БЕСЫ»)
РАСТЛЕНИЕ МАЛОЛЕТНЕЙ
(Из романа «БЕСЫ»)
«От Ставрогина.
Я, Николай Ставрогин, отставной офицер в 186 — году жил в Петербурге, предаваясь разврату, в котором не находил удовольствия. У меня было тогда в продолжение некоторого времени три квартиры. В одной из (них) проживал я сам в номерах со столом и прислугою, где находилась тогда и Марья Лебядкина, ныне законная жена моя. Другие же обе квартиры мои я нанял тогда помесячно для интриги: в одной принимал одну любившую меня даму, а в другой её горничную и некоторое время был очень занят намерением свести их обеих так, чтобы барыня и девка у меня встретились при моих приятелях и при муже. Зная оба характера, ожидал себе от этой глупой шутки большого удовольствия.
Приготовляя исподволь эту встречу, я должен был чаще посещать одну из сих квартир в большом доме в Гороховой, так как сюда приходила та горничная. Тут у меня была одна лишь комната, в четвертом этаже, нанятая от мещан из русских. Сами они помещались рядом в другой, теснее, и до того, что дверь разделявшая всегда стояла отворенною, чего я и хотел. Муж у кого-то был в конторе и уходил с утра до ночи. Жена, баба лет сорока, что-то разрезывала и сшивала из старого в новое и тоже нередко уходила из дому относить, что нашила. Я оставался один с их дочерью, думаю, лет четырнадцати, совсем ребенком на вид. Ее звали Матрешей. Мать её любила, но часто била и по их привычке ужасно кричала на неё по-бабьи. Эта девочка мне прислуживала и убирала у меня за ширмами.
Однажды у меня со стола пропал перочинный ножик, который мне вовсе был не нужен и валялся так. Я сказал хозяйке, никак не думая о том, что она высечет дочь. Но та только что кричала на ребенка (я жил просто, и они со мной не церемонились) за пропажу какой-то тряпки, подозревая, что та её стащила, и даже отодрала за волосы. Когда же эта самая тряпка нашлась под скатертью, девочка не захотела сказать ни слова в попрек и смотрела молча. Я это заметил и тут же в первый раз хорошо заметил лицо ребенка, а до тех пор оно лишь мелькало. Она была белобрысая и весноватая, лицо обыкновенное, но очень много детского и тихого, чрезвычайно тихого. Матери не понравилось, что дочь не попрекнула за битье даром, и она замахнулась на неё кулаком, но не ударила; тут как раз подоспел мой ножик. В самом деле, кроме нас троих, никого не было, а ко мне за ширмы входила только девочка. Баба остервенилась, потому что в первый раз прибила несправедливо, бросилась к венику, нарвала из него прутьев и высекла ребенка до рубцов, на моих глазах. Матреша от розог не кричала, но как-то странно всхлипывала при каждом ударе. И потом очень всхлипывала, целый час.
Но прежде того было вот что: в ту самую минуту, когда хозяйка бросилась к венику, чтобы надергать розог, я нашел ножик на моей кровати, куда он как-нибудь упал со стола. Мне тотчас пришло в голову не объявлять, для того чтоб её высекли. Решился я мгновенно; в такие минуты у меня всегда прерывается дыхание. Но я намерен рассказать все в более твердых словах, чтоб уж ничего более не оставалось скрытого.
Всякое чрезвычайно позорное, без меры унизительное, подлое и, главное, смешное положение, в каковых мне случалось бывать в моей жизни, всегда возбуждало во мне, рядом с безмерным гневом, неимоверное наслаждение. Точно так же и в минуты преступлений, и в минуты опасности жизни. Если б я что-нибудь крал, то я бы чувствовал при совершении кражи упоение от сознания глубины моей подлости. Не подлость я любил (тут рассудок мой бывал совершенно цел), но упоение мне нравилось от мучительного сознания низости. Равно всякий раз, когда я, стоя на барьере, выжидал выстрела противника, то ощущал то же самое позорное и неистовое ощущение, а однажды чрезвычайно сильно. Сознаюсь, что часто я сам искал его, потому что оно для меня сильнее всех в этом роде. Когда я получал пощечины (а я получил их две в мою жизнь), то и тут это было, несмотря на ужасный гнев. Но если сдержать при этом гнев, то наслаждение превысит все, что можно вообразить. Никогда я не говорил о том никому, даже намеком, и скрывал как стыд и позор. Но когда меня раз больно били в кабаке в Петербурге и таскали за волосы, я не чувствовал этого ощущения, а только неимоверный гнев, не быв пьян, и лишь дрался.
…Когда кончилась экзекуция, я положил ножик в жилетный карман и, выйдя, выбросил на улицу, далеко от дому, так, чтобы никто никогда не узнал. Потом я выждал два дня. Девочка, поплакав, стала ещё молчаливее; на меня же, я убежден, не имела злобного чувства. Впрочем, наверно, был некоторый стыд, за то, что её наказали в таком виде при мне, она не кричала, а только всхлипывала под ударами, конечно потому, что тут стоял я и все видел. Но и в стыде этом она, как ребенок, винила, наверно, одну себя. До сих пор она, может быть, только боялась меня, но не лично, а как постояльца, человека чужого, и, кажется, была очень робка.
Вот тогда-то в эти два дня я и задал себе раз вопрос, могу ли я бросить и уйти от замышленного намерения, и я тотчас почувствовал, что могу, могу во всякое время и сию минуту. Я около того времени хотел убить себя от болезни равнодушия; впрочем, не знаю от чего. В эти же два-три дня непременно надо выждать, чтобы девочка все забыла.
Как только кончились три дня, я воротился в Гороховую. Мать куда-то собиралась с узлом; мещанина, разумеется, не было. Остались я и Матреша. Окна были отперты. В доме все жили мастеровые, и целый день изо всех этажей слышался стук молотков или песни. Мы пробыли уже с час. Матреша сидела в своей каморке, на скамеечке, ко мне спиной, и что-то копалась с иголкой. Наконец вдруг тихо запела, очень тихо; это с ней иногда бывало. Я вынул часы и посмотрел, который час, было два. У меня начинало биться сердце. Но тут я вдруг опять спросил себя: могу ли остановить? и тотчас же ответил себе, что могу. Я встал и начал к ней подкрадываться. У них на окнах стояло много герани, и солнце ужасно ярко светило. Я тихо сел подле на полу. Она вздрогнула и сначала неимоверно испугалась и вскочила. Я взял её руку и тихо поцеловал, принагнул её опять на скамейку и стал смотреть ей в глаза. То, что я поцеловал у ней руку, вдруг рассмешило её, как дитю, но только на одну секунду, потому что она стремительно вскочила в другой раз, и уже в таком испуге, что судорога прошла по лицу. Она смотрела на меня до ужаса неподвижными глазами, а губы стали дергаться, чтобы заплакать, но все-таки не закричала. Я опять стал целовать ей руки, взяв её к себя на колени, целовал ей лицо и ноги. Когда я поцеловал ноги, она вся отдернулась и улыбнулась как от стыда, но какою-то кривою улыбкой. Все лицо вспыхнуло стыдом. Я что-то все шептал ей. Наконец вдруг случилась такая странность, которую я никогда не забуду и которая привела меня в удивление: девочка обхватила меня за шею руками и начала вдруг ужасно целовать сама. Лицо её выражало совершенное восхищение.
Я чуть не встал и не ушел так это было мне неприятно в таком крошечном ребенке — от жалости. Но я преодолел внезапное чувство моего страха и остался. Когда все кончилось, она была смущена. Я не пробовал её разуверять и уже не ласкал её. Она глядела на меня, робко улыбаясь. Лицо её мне показалось вдруг глупым. Смущение быстро с каждою минутой овладевало ею все более и более. Наконец она закрыла лицо руками и стала в угол лицом к стене неподвижно. Я боялся, что она опять испугается, как давеча, и молча ушел из дому.
Полагаю, что все случившееся должно было ей представиться окончательно как беспредельное безобразие, со смертным ужасом. Несмотря на русские ругательства, которые она должна была слышать с пеленок, и всякие странные разговоры, я имею полное убеждение, что она ещё ничего не понимала. Наверное ей показалось в конце концов, что она сделала неимоверное преступление и в нем смертельно виновата, — „бога убила“.
В ту ночь я имел драку в кабаке. Но я проснулся у себя в номерах наутро, меня привез Лебядкин. Первая мысль по пробуждении была о том: сказала она или нет; это была минута настоящего страха, хоть и не очень ещё сильного. Я был очень весел в то утро и ужасно ко всем добр, и вся ватага была мною очень довольна. Но я бросил их всех и пошел в Гороховую. Я встретился с нею ещё внизу, в сенях. Она шла из лавочки, куда её посылали за цикорием. Увидев меня, она стрельнула в ужасном страхе вверх по лестнице. Когда я вошел, мать уже хлестнула её два раза по щеке за то, что вбежала в квартиру „сломя голову“, чем и прикрылась настоящая причина её испуга. Итак, все пока было спокойно. Она куда-то забилась и не входила все время, пока я был. Я пробыл с час и ушел.
К вечеру я опять почувствовал страх, но уже несравненно сильнее. Конечно, я мог отпереться, но меня могли и уличить. Мне мерещилась каторга. Я никогда не чувствовал страху и, кроме этого случая в моей жизни, ни прежде, ни после ничего не боялся. И уж особенно Сибири, хотя и мог быть сослан не однажды. Но в этот раз я был испуган и действительно чувствовал страх, не знаю почему, в первый раз в жизни, — ощущение очень мучительное. Кроме того, вечером, у меня в номерах, я возненавидел её до того, что решился убить. Главная ненависть моя была при воспоминании об её улыбке. Во мне рождалось презрение с непомерною гадливостью за то, как она бросилась после всего в угол и закрылась руками, меня взяло неизъяснимое бешенство, затем последовал озноб; когда же под утро стал наступать жар, меня опять одолел страх, но уже такой сильный, что я никакого мучения не знал сильней. Но я уже не ненавидел более девочку; по крайней мере до такого пароксизма, как с вечера, не доходило. Я заметил, что сильный страх совершенно прогоняет ненависть и чувство мщения.
Проснулся я около полудня, здоровый, и даже удивился некоторым из вчерашних ощущений. Я, однако же, был в дурном расположении духа и опять-таки принужден был пойти в Гороховую, несмотря на все отвращение. Помню, что мне ужасно хотелось бы в ту минуту иметь с кем-нибудь ссору, но только сериозную. Но, придя на Гороховую, я вдруг нашел у себя в комнате Нину Савельевну, ту горничную, которая уже с час ожидала меня. Эту девушку я совсем не любил, так что она пришла сама немного в страхе, не рассержусь ли я за незваный визит. Но я вдруг ей очень обрадовался. Она была недурна, но скромна и с манерами, которые любит мещанство, так что моя баба-хозяйка давно уже очень мне хвалила её. Я застал их обеих за кофеем, а хозяйку в чрезвычайном удовольствии от приятной беседы. В углу их каморки я заметил Матрешу. Она стояла и смотрела на мать и на гостью неподвижно. Когда я вошел, она не спряталась, как тогда, и не убежала. Мне только показалось, что она очень похудела и что у ней жар. Я приласкал Нину и запер дверь к хозяйке, чего давно не делал, так что Нина ушла совершенно обрадованная. Я её сам вывел и два дня не возвращался в Гороховую. Мне уже надоело.
Я решился все покончить, отказаться от квартиры и уехать из Петербурга. Но когда я пришел, чтоб отказаться от квартиры, я застал хозяйку в тревоге и в горе: Матреша была больна уже третий день, каждую ночь лежала в жару и ночь бредила. Разумеется, я спросил, об чем она бредит (мы говорили шепотом — в моей комнате). Она мне зашептала, что бредит „ужасти“: „Я, дескать, бога убила“. Я предложил привести доктора на мой счет, но она не захотела: „Бог даст, и так пройдет, не все лежит, днем-то выходит, сейчас в лавочку сбегала“. Я решился застать Матрешу одну, а как хозяйка проговорилась, что к пяти часам ей надо сходить на Петербургскую, что и положил воротиться вечером.
Я пообедал в трактире. Ровно в пять с четвертью воротился. Я входил всегда с своим ключом. Никого, кроме Матреши, не было. Она лежала в каморке за ширмами на материной кровати, и я видел, как она выглянула; но я сделал вид, что не замечаю. Все окна были отворены. Воздух был тепл, было даже жарко. Я походил по комнате и сел на диван. Все помню до последней минуты. Мне решительно доставляло удовольствие не заговаривать с Матрешей. Я ждал и просидел целый час, и вдруг она вскочила сама из-за ширм. Я слышал, как стукнули её обе ноги об пол, когда она вскочила с кровати, потом довольно скорые шаги, и она стала на пороге в мою комнату. Она глядела на меня молча. В эти четыре или пять дней, в которые я с того времени ни разу не видал её близко, действительно очень похудела. Лицо её как бы высохло, и голова, наверно, была горяча. Глаза стали большие и глядели на меня неподвижно, как бы с тупым любопытством, как мне показалось сначала. Я сидел в углу дивана, смотрел на неё и не трогался. И тут вдруг опять я почувствовал ненависть. Но очень скоро заметил, что она совсем меня не пугается, а, может быть, скорее в бреду. Но она и в бреду не была. Она вдруг часто закивала на меня головой, как кивают, когда очень укоряют, и вдруг подняла на меня свой маленький кулачок и начала грозить им мне с места. Первое мгновение мне это движение показалось смешным, но дальше я не мог его вынести: я встал и подвинулся к ней. На её лице было такое отчаяние, которое невозможно было видеть в лице ребенка. Она все махала на меня своим кулачонком с угрозой и все кивала, укоряя. Я подошел близко и осторожно заговорил, но увидел, что она не поймет. Потом вдруг она стремительно закрылась обеими руками, как тогда, отошла и стала к окну, ко мне спиной. Я оставил её, воротился в свою комнату и сел тоже у окна. Никак не пойму, почему я тогда не ушел и остался как будто ждать. Вскоре я опять услышал поспешные шаги её, она вышла в дверь на деревянную галерею, с которой и был сход вниз по лестнице, и я тотчас побежал к моей двери, приотворил и успел ещё подглядеть, как Матреша вошла в крошечный чулан вроде курятника, рядом с другим местом. Странная мысль блеснула в моем уме. Я притворил дверь — и к окну. Разумеется, мелькнувшей мысли верить ещё было нельзя; „но однако“… (Я все помню).
Через минуту я посмотрел на часы и заметил время. Надвигался вечер. Надо мной жужжала муха и все садилась мне на лицо. Я поймал, подержал в пальцах и выпустил за окно. Очень громко въехала внизу во двор какая-то телега. Очень громко (и давно уже) пел песню в углу двора в окне один мастеровой, портной. Он сидел за работой, и мне его было видно.
Мне пришло в голову, что так как меня никто не повстречал, когда я входил в ворота и подымался по лестнице, то, конечно, не надо, чтобы и теперь повстречали, когда я буду сходить вниз, и я отодвинул стул от окна. Затем взял книгу, но бросил и стал смотреть на крошечного красненького паучка на листке герани и забылся. Я все помню до последнего мгновения.
Я вдруг выхватил часы. Прошло двадцать минут с тех пор, как она вышла. Догадка принимала вид вероятности. Но я решился подождать ещё с четверть часа. Приходило тоже в голову, не воротилась ли она, а я, может быть, прослышал; но этого не могло и быть: была мертвая тишина, и я мог слышать писк каждой мушки. Вдруг у меня стало биться сердце. Я вынул часы: недоставало трех минут; я их высидел, хотя сердце билось до боли. Тут-то я встал, накрылся шляпой, застегнул пальто и осмотрелся в комнате, все ли на прежнем месте, не осталось ли следов, что я заходил? Стул я придвинул ближе к окну, как он стоял прежде. Наконец, тихо отворил дверь, запер её моим ключом и пошел к чуланчику. Он был приперт, но не заперт; я знал, что он не запирался, но я отворить не хотел, а поднялся на цыпочки и стал глядеть в щель. В это самое мгновение, подымаясь на цыпочки, я припомнил, что когда сидел у окна и смотрел на красного паучка и забылся, то думал о том, как я приподымусь на цыпочки и достану глазом до этой щелки. Вставляя здесь эту мелочь, хочу непременно доказать, до какой степени явственно я владел моими умственными способностями. Я долго глядел в щель, там было темно, но не совершенно. Наконец я разглядел, что было надо… все хотелось совершенно удостовериться.
Я решил наконец, что мне можно уйти, и спустился с лестницы. Я никого не встретил. Часа через три мы все, без сюртуков, пили в номерах чай и играли в старые карты, Лебядкин читал стихи. Много рассказывали и, как нарочно, все удачно и смешно, а не так, как всегда, глупо. Был и Кириллов. Никто не пил, хотя и стояла бутылка рому, но прикладывался один Лебядкин. Прохор Малов заметил, что „когда Николай Всеволодович довольны и не хандрят, то все наши веселы и умно говорят“. Я запомнил это тогда же.
Но часов уже в одиннадцать прибежала дворникова девочка от хозяйки, с Гороховой, с известием ко мне, что Матреша повесилась. Я пошел с девочкой и увидел, что хозяйка сама не знала, зачем посылала за мной. Она вопила и билась, была кутерьма, много народу, полицейские. Я постоял в сенях и ушел.
Меня почти не беспокоили, впрочем, спросили что следует. Но, кроме того, что девочка была больна и бывала в бреду в последние дни, так что я предлагал с своей стороны доктора на мой счет, я решительно ничего не мог показать. Спрашивали меня и про ножик; я сказал, что хозяйка высекла, но что это было ничего. Про то, что я приходил вечером, никто не узнал. Про результат медицинского свидетельства я ничего не слыхал.
С неделю я не заходил туда. Зашел, когда уже давно похоронили, чтобы сдать квартиру. Хозяйка все ещё плакала, хотя уже возилась с своим лоскутьем и с шитьем по-прежнему. „Это я за ваш ножик её обидела“, сказала она мне, но без большого укора. Я рассчитался под тем предлогом, что нельзя же мне теперь оставаться в такой квартире, чтоб принимать в ней Нину Савельевну. Она ещё раз похвалила Нину Савельевну на прощанье. Уходя, я подарил ей пять рублей сверх должного за квартиру…»
СЛАДОСТРАСТИЕ
(Из романа «Преступление и наказание»)
— Это все вздор, — сказал Свидригайлов Раскольникову, намачивая полотенце и прикладывая его к голове, — а я вас одним словом могу осадить и все ваши подозрения в прах уничтожить. Знаете ль вы, например, что я женюсь?
— Вы уже это мне и прежде говорили.
— Говорил? Забыл. Но тогда я не мог говорить утвердительно, потому даже невесты ещё не видал; я только намеревался. Ну а теперь у меня уж есть невеста, и дело сделало… Эй, черт! Всего десять минут остается. Видите, смотрите на часы; а впрочем, я вам расскажу, потому это интересная вещица, моя женитьба-то… Я вас туда свезу, это правда, покажу невесту, но только не теперь… Вы эту Ресслих знаете? Вот эту самую Ресслих, у которой я теперь живу, — а? Слышите? Нет, вы что думаете, вот та самая, про которую говорят, что девчонка-то, в воде-то, зимой-то, — ну, слышите ли? Слышите ли? Ну, так она мне все это состряпала; тебе, говорит, так-то скучно, развлекись время. А я ведь человек мрачный, скучный. Вы думаете, веселый? Нет, мрачный: вреда не делаю, а сижу в углу; иной раз три дня не разговорят. А Ресслих эта шельма, я вам скажу, она ведь что в уме держит: я наскучу, жену-то брошу и уеду, а жена ей достанется, она её и пустит в оборот; в нашем слою то есть, да повыше. Есть, говорит она, Ресслих, один такой расслабленный отец, отставной чиновник, в кресле сидит и третий год ногами не двигается. Есть, говорит, и мать, дама рассудительная, мамаша-то. Сын где-то в губернии служит, не помогает. Дочь вышла замуж и не навещает, а на руках два маленьких племянника (своих-то мало), да взяли, не кончив курса, из гимназии девочку, дочь свою последнюю, через месяц только что шестнадцать лет минет, значит, через месяц её и выдать можно. Это за меня-то. Мы поехали; как это у них смешно; представляюсь: помещик, вдовец, известной фамилии, с такими-то связями, с капиталом, — на что ж, что мне пятьдесят, а той и шестнадцати нет? Кто ж на это смотрит? Ну а ведь заманчиво, а? Ведь заманчиво, ха-ха! Посмотрели бы вы, как я разговорился с папашей да с мамашей! Заплатить надо, чтобы только посмотреть на меня в это время. Выходит она, приседает, ну можете себе представить, ещё в коротеньком платьице, неразвернувшийся бутончик, краснеет, вспыхивает, как заря (сказали ей, конечно).
Не знаю, как вы насчет женских личик, но, по-моему, эти шестнадцать лет, эти детские ещё глазки, эта робость и слезинки стыдливости, по-моему, это лучше красоты, а она ещё к тому ж и собой картинка. Светленькие волоски, в маленькие локончики барашком взбитые, губки пухленькие, аленькие, ножки — прелесть!.. Ну, познакомились, я объявил, что спешу по домашним обстоятельствам, и на другой же день, третьего дня то есть, нас и благословили. С тех пор как приеду, так сейчас её к себе на колени, да так и не спускаю… Ну, вспыхивает, как заря, а я целую поминутно; мамаша-то, разумеется, внушает, что это, дескать, твой муж и что это так требуется, одним словом, малина! И это состояние теперешнее, жениховое, право, может быть, лучше и мужнего… Ха-ха! Я с нею раза два переговаривал — куда не глупа девчонка; иной раз так украдкой на меня взглянет — ажно прожжет. А знаете, у ней личико вроде Рафаэлевой Мадонны. Ведь у Сикстинской Мадонны лицо фантастическое, лицо скорбной юродивой, вам это не бросилось в глаза? Ну, так в этом роде. Только что нас благословили, я на другой день на полторы тысячи и привез: бриллиантовый убор один, жемчужный другой да серебряную дамскую туалетную шкатулку — вот такой величины, со всякими разностями, так даже у ней, у мадонны-то, личико зарделось. Посадил я её вчера на колени, да, должно быть, уж очень бесцеремонно, — вся вспыхнула и слезинки брызнули, да выдать-то не хочет, сама вся горит. Ушли все на минуту, мы с нею как есть одни остались, вдруг бросается мне на шею (сама в первый раз), обнимает меня обеими ручонками, целует и клянется, что она будет мне послушною, верною и доброю женой, что она сделает меня счастливым, что она употребит всю жизнь, всякую минуту своей жизни, всем, всем пожертвует, а за все это желает иметь от меня только одно мое уважение и более мне, говорит, «ничего, ничего не надо, никаких подарков!» Согласитесь сами, что выслушать подобное признание наедине от такого шестнадцатилетнего ангельчика, в тюлевом платьице, со взбитыми локончиками, с краскою девичьего стыда и со слезниками энтузиазма в глазах, — согласитесь сами, оно довольно заманчиво. Ведь заманчиво? Ведь стоит чего-нибудь, а? Ну, ведь стоит? Ну…ну слушайте… ну, поедемте к моей невесте… только не сейчас!
— Одним словом, в вас эта чудовищная разница лет и развитий и возбуждает сладострастие! И неужели в самом деле так женитесь?
— А что ж? Непременно. Всяк об себе сам промышляет и всех веселей тот и живет, кто всех лучше себя сумеет надуть. Ха-ха! Да что вы в добродетель-то так все дышлом въехали? Пощадите, батюшка, я человек грешный. Хе-хе-хе!
ТЕМНЫЙ РАЗВРАТ
(Из романа «Униженные и оскорбленные»)
Ровно в семь часов я был у Маслобоева. Он жил в Шестилавочной, в небольшом доме, во флигеле, в довольно неопрятной квартире о трех комнатах, впрочем не бедно меблированных. Виден был даже некоторый достаток и в то же время чрезвычайная нехозяйственность. Мне отворила прехорошенькая девушка лет девятнадцати, очень просто, но очень мило одетая, очень чистенькая и с предобрыми, веселыми глазками.
Я тотчас догадался, что это и есть та самая Александра Семеновна, о которой он упомянул вскользь давеча, подманивая меня с ней познакомиться. Она спросила: кто я, и, услышав фамилию, сказала, что он ждет меня, но что теперь спит в своей комнате, куда меня и повела. Маслобоев спал на прекрасном, мягком диване, накрытый своею грязною шинелью, с кожаной истертой подушкой в головах. Сон у него был очень чуткий; только что мы вошли, он тотчас же окликнул меня по имени.
— А! Это ты? Жду. Сейчас во сне видел, что ты пришел и меня будишь. Значит, пора. Едем.
— Куда едем?
— К даме.
— К какой? Зачем?
— К мадам Бубновой, затем чтобы её раскассировать. А какая красотка-то! — протянул он, обращаясь к Александре Семеновне, и даже поцеловал кончики пальцев при воспоминании о мадам Бубновой…
— Тьфу ты с своей Бубновой! — и Александра Семеновна выбежала в величайшем негодовании.
— Пора! идем! Прощайте, Александра Семеновна!
Мы вышли.
— Видишь, Ваня, во-первых, сядем на этого извозчика. Так. А во-вторых, я давеча, как с тобой простился, кой-что ещё узнал и узнал уж не по догадкам, а в точности. Я ещё на Васильевском целый час оставался. Этот пузан — страшная каналья, грязный, гадкий, с вычурами и с разными подлыми вкусами. Эта Бубнова давно уж известна кой-какими проделками в этом же роде. Она на днях с одной девочкой из честного дома чуть не попалась. Эти кисейные платья, в которые она рядила эту сиротку (вот ты давеча рассказывал), не давали мне покоя; потому что я кой-что уже до этого слышал. Давеча я кой-что ещё разузнал, правда совершенно случайно, но, кажется, наверно. Сколько лет девочке?
— По лицу лет тринадцать.
— А по росту меньше. Ну, так она и сделает. Коли надо, скажет одиннадцать, а то пятнадцать. И так как у бедняжки ни защиты, ни семейства, то…
— Неужели?
— А ты что думал? Да уж мадам Бубнова из одного сострадания не взяла бы к себе сироту. А уж если пузан туда повадился, так уж так. Он с ней давеча утром виделся. А болвану Сизобрюхову обещана сегодня красавица, мужняя жена, чиновница и штаб-офицерка. Купецкие дети из кутящих до этого падки; всегда про чин спросят. Это как в латинской грамматике, помнишь: значение предпочитается окончанию. А впрочем, я еще, кажется, с давешнего пьян. Ну, а Бубнова такими делами заниматься не смей.
Она и полицию надуть хочет; да врешь! А потому я и пугну, так как она знает, что я по старой памяти… ну и прочее — понимаешь?
Я был страшно поражен. Все эти известия взволновали мою душу. Я все боялся, что мы опоздаем, и погонял извозчика.
— Не беспокойся; меры приняты, — говорил Маслобоев. — Там Митрошка. Сизобрюхов ему поплатится деньгами, а пузатый подлец — натурой. Это ещё давеча решено было. Ну, а Бубнова на мой пай приходится… Потому она не смей…
Мы приехали и остановились у ресторации; но человека, называвшегося Митрошкой, там не было. Приказав извозчику нас дожидаться у крыльца ресторации, мы пошли к Бубновой. Митрошка поджидал нас у ворот. В окнах разливался яркий свет, и слышался пьяный, раскатистый смех Сизобрюхова.
— Там они все, с четверть часа будет, — известил Митрошка. — Теперь самое время.
— Да как же мы войдем? — спросил я.
— Как гости, — возразил Маслобоев. — Она меня знает; да и Митрошку знает. Правда, все на запоре, да только не для нас.
Он тихо постучал в ворота, и они тотчас же отворились. Отворил дворник и перемигнулся с Митрошкой. Мы вошли тихо; в доме нас не слыхали. Дворник провел нас по лесенке и постучался. Его окликнули; он отвечал, что один: «дескать, надоть». Отворили, и мы все вошли разом. Дворник скрылся.
— Ай, кто это? — закричала Бубнова, пьяная и растрепанная, стоявшая в крошечной передней со свечою в руках.
— Кто? — подхватил Маслобоев. — Как же вы это, Анна Трифоновна, дорогих гостей не узнаете? Кто же, как не мы?.. Филипп Филиппыч.
— Ах, Филипп Филиппыч! это вы-с… дорогие гости… Да как же вы-с… я-с… ничего-с… пожалуйте сюда-с.
И она совсем заметалась.
— Куда сюда? Да тут перегородка… Нет, вы нас принимайте получше. Мы у вас холодненького выпьем, да машерочек нет ли?
Хозяйка мигом ободрилась.
— Да для таких дорогих гостей из-под земли найду; из китайского государства выпишу.
— Два слова, голубушка Анна Трифоновна: здесь Сизобрюхов?
— З…здесь.
— Так его-то мне и надобно. Как же он смел, подлец, без меня кутить!
— Да он вас, верно, не позабыл. Все кого-то поджидал, верно, вас.
Маслобоев толкнул дверь, и мы очутились в небольшой комнате, в два окна, с геранями, плетеными стульями и с сквернейшими фортепианами; все как следовало. Но ещё прежде, чем мы вошли, ещё когда мы разговаривали в передней, Митрошка стушевался. Я после узнал, что он и не входил, а пережидал за дверью. Ему было кому потом отворить. Растрепанная и нарумяненная женщина, выглядывавшая давеча утром из-за плеча Бубновой, приходилась ему кума.
Сизобрюхов сидел на тоненьком диванчике под красное дерево, перед круглым столом, покрытым скатертью. На столе стояли две бутылки теплого шампанского, бутылка скверного рому; стояли тарелки с кондитерскими конфетами, пряниками и орехами трех сортов. За столом, напротив Сизобрюхова, сидело отвратительное существо лет сорока и рябое, в черном тафтяном платье и с бронзовыми браслетами и брошками. Это была штаб-офицерка, очевидно поддельная. Сизобрюхов был пьян и очень доволен. Пузатого его спутника с ним не было.
…В эту минуту страшный, пронзительный крик раздался где-то за несколькими дверями, за две или за три комнатки от той, в которой мы были. Я вздрогнул и тоже закричал. Я узнал этот крик: это был голос Елены. Тотчас же вслед за этим жалобным криком раздались другие крики, ругательства, возня и наконец ясные, звонкие, отчетливые удары ладонью руки по лицу. Это, вероятно, расправлялся Митрошка по своей части. Вдруг с силой отворилась дверь и Елена, бледная, с помутившимися глазами, в белом кисейном, но совершенно измятом и изорванном платье, с расчесанными, но разбившимися, как бы в борьбе, волосами, ворвалась в комнату. Я стоял против дверей, а она бросилась прямо ко мне и обхватила меня руками. Все вскочили, все переполошились. Визги и крики раздались при её появлении. Вслед за ней показался в дверях Митрошка, волоча за волосы своего пузатого недруга в самом растерзанном виде. Он доволок его до порога и вбросил к нам в комнату.
— Вот он! Берите его! — произнес Митрошка с совершенно довольным видом.
— Слушай, — проговорил Маслобоев, спокойно подходя ко мне и стукнув меня по плечу, — бери нашего извозчика, бери девочку и поезжай к себе, а здесь тебе больше нечего делать. Завтра уладим и остальное.
Я не заставил себе повторять два раза. Схватив за руку Елену, я вывел её из этого вертепа. Уж не знаю, как там у них кончилось. Нас не останавливали: хозяйка была поражена ужасом. Все произошло так скоро, что она и помешать не могла. Извозчик нас дожидался, и через двадцать минут я был уже на своей квартире.
Елена была как полумертвая. Я расстегнул крючки у её платья, спрыснул её водой и положил на диван. С ней начался жар и бред. Я глядел на её бледное личико, на бесцветные её губы, на её черные, сбившиеся на сторону, но расчесанные волосок к волоску и напомаженные волосы, на весь её туалет, на эти розовые бантики, ещё уцелевшие кой-где на платье, — и понял окончательно всю эту отвратительную историю. Бедная! Ей становилось все хуже и хуже. Я не отходил от нее…
— Что вы тут все пишете? — с робкой улыбкой спросила Елена, тихонько подойдя к столу.
— А так, Леночка, всякую всячину. За это мне деньги дают.
— Просьбы?
— Нет, не просьбы. — И я объяснил ей сколько мог, что описываю разные истории про разных людей: из этого выходят книги, которые называются повестями и романами. Она слушала с большим любопытством…
Ей что-то очень хотелось мне сказать, но она, очевидно, затруднялась и была в большом волнении. Под её вопросами что-то крылось.
— А вам много за это платят? — спросила она наконец.
— Да как случится. Иногда много, а иногда и ничего нет, потому что работа не работается. Эта работа трудная, Леночка.
— Так вы не богатый?
— Нет, не богатый.
— Так я буду работать и вам помогать…
Она быстро взглянула на меня, вспыхнула, опустила глаза и, ступив ко мне два шага, вдруг обхватила меня обеими руками, а лицом крепко-крепко прижалась к моей груди. Я с изумлением смотрел на нее.
— Я вас люблю… я не гордая, — проговорила она. — Вы сказали вчера, что я гордая. Нет, нет… я не такая… я вас люблю. Вы только один меня любите…
Но уже слезы задушали её. Минуту спустя они вырвались из её груди с такою силою, как вчера во время припадка. Она упала передо мной на колени, целовала мои руки, ноги…
— Вы любите меня!.. — повторяла она, — вы только один, один!..
Она судорожно сжимала мои колени своими руками. Все чувство её, сдерживаемое столько времени, вдруг разом вырвалось наружу в неудержимом порыве, и мне стало понятно это странное упорство сердца, целомудренно таящего себя до времени и тем упорнее, тем суровее, чем сильнее потребность излить себя, высказаться, и все это до того неизбежного порыва, когда все существо вдруг до самозабвения отдается этой потребности любви, благодарности, ласкам, слезам…
Она рыдала до того, что с ней сделалась истерика. Насилу я развел её руки, обхватившие меня. Я поднял её и отнес на диван. Долго ещё она рыдала, укрыв лицо в подушки, как будто стыдясь смотреть на меня, но крепко стиснув мою руку в своей маленькой ручке и не отнимая её от своего сердца.
Мало-помалу она утихла, но все ещё не подымала ко мне своего лица. Раза два, мельком, её глаза скользнули по моему лицу, и в них было столько мягкости и какого-то пугливого и снова прятавшегося чувства. Наконец она покраснела и улыбнулась.
— Легче ли тебе? — спросил я, — чувствительная ты моя Леночка, больное ты мое дитя?
— Не Леночка, нет… — прошептала она, все ещё пряча от меня свое личико.
— Не Леночка? Как же?
— Нелли.
— Нелли? Почему же непременно Нелли? Пожалуй, это очень хорошенькое имя. Так я тебя и буду звать, коли ты сама хочешь.
— Так меня мамаша звала… И никто так меня не звал, никогда, кроме нее… И я не хотела сама, чтоб меня кто звал так, кроме мамаши… А вы зовите; я хочу… Я вас буду всегда любить, всегда любить…
«Любящее и гордое сердечко, — подумал я, — а как долго надо мне было заслужить, чтоб ты для меня стала… Нелли». Но теперь я уже знал, что её сердце предано мне навеки…
…Но в этот день, в продолжение нескольких часов, среди мук и судорожных рыданий, прерывавших рассказ её, она передала мне все, что наиболее волновало и мучило её в её воспоминаниях, и никогда не забуду я этого страшного рассказа.
Это была страшная история; это история покинутой женщины, пережившей свое счастье; больной, измученной и оставленной всеми; отвергнутой последним существом, на которое она могла надеяться, — отцом своим, оскорбленным когда-то ею и в свою очередь выжившим из ума от нестерпимых страданий и унижений. Это история женщины, доведенной до отчаяния; ходившей с своею девочкой, которую она считала ещё ребенком, по холодным, грязным петербургским улицам и просившей милостыню; женщины, умиравшей потом целые месяцы в сыром подвале и которой отец отказывал в прощении до последней минуты её жизни и только в последнюю минуту опомнившийся и прибежавший простить её, но уже заставший один холодный труп вместо той, которую любил больше всего на свете. Это был странный рассказ о таинственных, даже едва понятных отношениях выжившего из ума старика с его маленькой внучкой, уже понимавшей его, уже понимавшей, несмотря на свое детство, многое из того, до чего не развивается иной в целые годы своей обеспеченной и гладкой жизни. Мрачная это была история, одна из тех мрачных и мучительных историй, которые там часто и неприметно, почти таинственно, сбываются под тяжелым петербургским небом, в темных, потаенных закоулках огромного города, среди взбалмошного кипения жизни, тупого эгоизма, сталкивающихся интересов, угрюмого разврата, сокровенных преступлений, среди всего этого кромешного ада бессмысленной и ненормальной жизни…
Я торопился домой… Против самых ворот дома, в котором я квартировал, стоял фонарь. Только что я стал под ворота, вдруг от самого фонаря бросилась на меня какая-то странная фигура, так что я даже вскрикнул, какое-то живое существо, испуганное, дрожащее, полусумасшедшее, и с криком уцепилось за мои руки. Ужас охватил меня. Это была Нелли!
— Нелли! Что с тобой? — закричал я. — Что ты!
— Там, наверху… он сидит… у нас…
— Кто такой? Пойдем; пойдем вместе со мной.
— Не хочу, не хочу! Я подожду, пока он уйдет… в сенях… не хочу.
Я поднялся к себе с каким-то странным предчувствием, отворил дверь и увидел князя.
Он сидел у стола и читал роман. По крайней мере, книга была раскрыта.
— Иван Петрович! — вскричал он с радостью. — Я так рад, что вы наконец воротились. Только что хотел было уезжать. Более часу вас ждал…
— Погодите, — сказал я князю и вышел на лестницу. Нелли стояла тут, в темном углу.
— Почему ты не хочешь идти, Нелли? Что он тебе сделал? Что с тобой говорил?
— Ничего… Я не хочу, не хочу… — повторяла она, — я боюсь…
Как я её ни упрашивал — ничто не помогало. Я уговорился с ней, чтоб как только я выйду с князем, она бы вошла в комнату и заперлась.
— И не пускай к себе никого, Нелли, как бы тебя ни упрашивали.
— В вы с ним едете?
— С ним.
Она вздрогнула и схватила меня за руки, точно хотела упросить, чтоб я не ехал, но не сказала ни слова. Я решил расспросить её подробно завтра…
Мы вышли. Но я оставил его на лестнице, вошел в комнату, куда уже проскользнула Нелли, и ещё раз простился с нею. Она была ужасно взволнована. Лицо её посинело. Я боялся за нее; мне тяжко было её оставить.
— Странная это у вас служанка, — говорил мне князь, сходя с лестницы. — Ведь эта маленькая девочка ваша служанка?
— Нет… она так… живет у меня покамест.
— Странная девочка. Я уверен, что она сумасшедшая. Представите себе, сначала отвечала мне хорошо, но потом, когда разглядела меня, бросилась ко мне, вскрикнула, задрожала, вцепилась в меня… что-то хочет сказать — не может. Признаюсь, я струсил, хотел уж бежать от нее, но она, слава богу, сама от меня убежала. Я был в изумлении. Как это вы уживаетесь?
— У неё падучая болезнь, — отвечал я.
— А, вот что! Ну, это не так удивительно… если она с припадками.
…— А знаете ли что, — сказал мне князь, садясь вместе со мною в коляску, — что если б нам теперь поужинать, а? Как вы думаете?
— Право, не знаю, князь, — отвечал я, колеблясь, — я никогда не ужинаю…
— Ну, разумеется, и поговорим за ужином, — прибавил он, пристально и хитро смотря мне прямо в глаза.
Я согласился.
— Дело в шляпе. В Большую Морскую, к Б.
Я позволил везти себя, но в ресторане решился платить за себя сам.
Мы приехали. Князь взял особую комнату и со вкусом и знанием дела выбрал два-три блюда. Блюда были дорогие, равно как и бутылка тонкого столового вина, которую он велел принести. Все это было не по моему карману. Я посмотрел на карту и велел принести себе полрябчика и рюмку лафиту.
…Он налил мне полстакана из своей бутылки.
— Вот видите, мой милый Иван Петрович, я ведь очень хорошо понимаю, что навязывать на дружбу неприлично.
Ведь не все же мы грубы и наглы с вами, как вы о нас воображаете; ну, я тоже очень хорошо понимаю, что вы сидите здесь со мной не из расположения ко мне, а оттого, что я обещался с вами поговорить. Не правда ли?..
…— Послушайте, князь, теперь поздно, и, право…
— Что? Боже, какая нетерпимость! Да и куда спешить?..
Он видимо хмелел. Лицо его изменилось и приняло какое-то злобное выражение. Ему, очевидно, хотелось язвить, колоть, кусать, насмехаться. «Это отчасти и лучше, что он пьян, — подумал я, — пьяный всегда разболтает». Но он был себе на уме.
— Друг мой, — начал он, видимо наслаждаясь собою, — я сделал вам сейчас одно признание, может быть даже и неуместное, о том, что у меня иногда является непреодолимое желание показать кому-нибудь в известном случае язык. За эту наивную и простодушную откровенность мою вы сравнили меня с полишинелем, что меня искренно рассмешило. Но если вы упрекаете меня или дивитесь на меня, что я с вами теперь груб и, пожалуй, ещё неблагопристоен, как мужик, — одним словом, вдруг переменил с вами тон, то вы в этом случае совершенно несправедливы. Во-первых, мне так угодно, во-вторых, я не у себя, а с вами… то есть я хочу сказать, что мы теперь кутим, как добрые приятели, а в-третьих, я ужасно люблю капризы. Знаете ли, что когда-то я из каприза даже был метафизиком и филантропом и вращался чуть ли не в таких же идеях, как вы? Это, впрочем, было ужасно давно, в златые дни моей юности. Помню, я ещё тогда приехал к себе в деревню с гуманными целями и, разумеется, скучал на чем свет стоит; и вы не поверите, что тогда случилось со мною? От скуки я начал знакомиться с хорошенькими девочками… Да уж вы не гримасничаете ли? О молодой мой друг! Да ведь мы теперь в дружеской сходке. Когда ж и покутить, когда ж и распахнуться! Я ведь русская натура, неподдельная русская натура, патриот, люблю распахнуться, да и к тому же надо ловить минуту и насладиться жизнью. Умрем и — что там! Ну, так вот-с я и волочился. Помню, ещё у одной пастушки был муж, красивый молодой мужичок. Я его больно наказал и в солдаты хотел отдать (прошлые проказы, мой поэт!), да и не отдал в солдаты. Умер он у меня в больнице… У меня ведь в селе больница была, на двенадцать кроватей, — великолепно устроенная; чистота, полы паркетные. Я, впрочем, её давно уж уничтожил, а тогда гордился ею: филантропом был; ну, а мужичка чуть не засек за жену… Ну, что вы опять гримасу состроили? Вам отвратительно слушать? Возмущает ваши благородные чувства? Ну, ну, успокойтесь! Все это прошло. Это я сделал, когда романтизировал, хотел быть благодетелем человечества, филантропическое общество основать… в такую тогда колею попал. Тогда и сек. Теперь не высеку; теперь надо гримасничать; теперь мы все гримасничаем — такое время пришло…
Он было задумался. Но вдруг поднял голову, как-то значительно взглянул на меня и продолжал.
— Вот что, мой поэт, хочу я вам открыть одну тайну природы, которая, кажется, вам совсем неизвестна. Я уверен, что вы меня называете в эту минуту грешником, может быть, даже подлецом, чудовищем разврата и порока. Но вот что я вам скажу! Если б только могло быть (чего, впрочем, по человеческой натуре никогда быть не может), если б могло быть, чтоб каждый из нас описал всю свою подноготную, но так, чтоб не побоялся изложить не только то, что он боится сказать и ни за что не скажет людям, не только то, что он боится сказать своим лучшим друзьям, но даже и то, в чем боится подчас признаться самому себе, — то ведь на свете поднялся бы тогда такой смрад, что нам бы всем надо было задохнуться. Вот почему, говоря в скобках, так хороши наши светские условия и приличия. В них глубокая мысль — не скажу, нравственная, но просто предохранительная, комфортная, что, разумеется, ещё лучше, потому что нравственность в сущности тот же комфорт, то есть изобретена единственно для комфорта. Но о приличиях после, я теперь сбиваюсь, напомните мне о них потом. Заключу же так: вы меня обвиняете в пороке, разврате, безнравственности, а я, может быть, только тем и виноват теперь, что откровеннее других и больше ничего; что не утаиваю того, что другие скрывают даже от самих себя, как сказал я прежде… Это я скверно делаю, но я теперь так хочу. Впрочем, не беспокойтесь, — прибавил он с насмешливою улыбкой, — я сказал «виноват», но ведь я вовсе не прошу прощения. Заметьте себе еще: я не конфужу вас, не спрашиваю о том: нет ли у вас у самого каких-нибудь таких же тайн, чтоб вашими тайнами оправдать и себя… Я поступаю прилично и благородно. Вообще я всегда поступаю благородно… Я только что было хотел рассказать одно прелестнейшее и чрезвычайно любопытное приключение. Расскажу его вам в общих чертах. Был я знаком когда-то с одной барыней; была она не первой молодости, а так лет двадцати семи-восьми; красавица первостепенная, что за бюст, что за осанка, что за походка! Она глядела пронзительно, как орлица, но всегда сурово и строго; держала себя величаво и недоступно. Она слыла холодной, как крещенская зима, и запугивала всех своею недосягаемою, своею грозною добродетелью. Именно грозною. Не было во всем её круге такого нетерпимого судьи, как она. Она карала не только порок, но даже малейшую слабость в других женщинах, и карала безвозвратно, без апелляции. В своем кругу она имела огромное значение. Самые гордые и самые страшные по своей добродетели старухи почитали её, даже заискивали в ней. Она смотрела на всех бесстрастно-жестоко, как абесса средневекового монастыря. Молодые женщины трепетали её взгляда и суждения. Одно её замечание, один намек её уже могли погубить репутацию, — уж так она себя поставила в обществе; боялись её даже мужчины. Наконец она бросилась в какой-то созерцательный мистицизм, впрочем тоже спокойный и величавый… И что ж? Не было развратницы развратнее этой женщины, и я имел счастье заслужить вполне её доверенность. Одним словом я был её тайным и таинственным любовником. Сношения были устроены до того ловко, до того мастерски, что даже никто из её домашних не мог иметь ни малейшего подозрения; только одна её прехорошенькая камеристка, француженка, была посвящена во все её тайны, но на эту камеристку можно было вполне положиться; она тоже брала участие в деле, — каким образом? Я это теперь опущу. Барыня моя была сладострастна до того, что сам маркиз де Сад мог бы у ней поучиться. Но самое сильное, самое пронзительное и потрясающее в этом наслаждении — была его таинственность и наглость обмана. Эта насмешка над всем, о чем графиня проповедовала в обществе как о высоком, недоступном и ненарушимом, и, наконец, этот внутренний дьявольский хохот и сознательное попирание всего, чего нельзя попирать, — и все это без пределов, доведенное до самой последней степени, до такой степени, о которой самое горячечное воображение не смело бы и помыслить, — вот в этом-то, главное, и заключалась самая яркая черта этого наслаждения. Да, это был сам дьявол во плоти, но он был непобедимо очарователен. Я и теперь не могу припомнить о ней без восторга.
В пылу самых горячих наслаждений она вдруг хохотала, как исступленная, и я понимал, вполне понимал этот хохот и сам хохотал… Я ещё и теперь задыхаюсь при одном воспоминании, хотя тому уже много лет. Через год она переменила меня. Если б я и хотел, я бы не мог повредить ей. Ну, кто бы мог мне поверить? Каков характер? Что скажете, молодой мой друг?
— Фу, какая низость! — отвечал я, с отвращением выслушав это признание.
Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Отношение в современном обществе к подобным случаям самое разное. И представьте, даже опытный юрист, занимающий солидную должность, так прокомментировал историю Карины: «Я все же не понимаю, за что парня осудили? Она же сама была не против! Вечно по нашим законам мужик крайним остается…» И он отнюдь не одинок в своей точке зрения. На форумах интернета идут целые словесные баталии, ставшие еще более резкими с тех пор, как Россия ужесточила правовые нормы, касающиеся педофилии. В качестве контраргументов приводят скандальные истории, когда ярлык «педофил» наклеивался просто на неугодного учителя или по ошибке на примерного отца…
Строго говоря, в нашем законодательстве нет понятия «растление». Оно слишком широко. Необратимые процессы в детской психике могут стартовать по разным причинам — из–за фотографии в интернете, образа жизни вечно гулящей мамаши, предложения отчима «посмотреть и потрогать»… Но что бросается в глаза: в большинстве случаев те, кто запускает «цепную реакцию», — не педофилы в медицинском понимании этого слова, а родные люди, уже перешедшие своеобразный Рубикон. Судимость, пьянки, социальная деградация — эти три слова чаще всего сходятся на страницах таких уголовных дел.
«Согласие бывает разным»
Так считают многие. Мол, одно дело — когда малолетка–акселератка дефилирует по району с вполне конкретными намерениями. Но имейте в виду: ее суровые родители тоже могут захотеть возбудить уголовное дело против любителя «клубнички». И придется отвечать, по той же 168–й статье УК! Другое дело — когда на секс идут из страха или от физической беспомощности (к ней в числе прочего относят и юный возраст потерпевшей). Мы ведь как учим своих детей? «Смотри, золотко, если вдруг незнакомый дядя на улице предложит тебе конфетку и куда–нибудь позовет…» А если родной папа?
Десятилетняя Лера около года удовлетворяла эротические фантазии своего отца. Стоило жене выйти за порог, как 31–летний витебчанин начинал вытворять с дочкой абсолютно все, разве что последнюю черту не переступил. Интуитивно девочка понимала, что происходит что–то запретное и нехорошее, но отец пускал в дело то доводы типа «папочка просит, папочка купит», то прямые угрозы «давай делай, а то…». Сколько бы еще это продолжалось, неизвестно, если бы однажды мама не начала ругать дочку за плохие отметки: «Не будешь прилежно учиться — все расскажу папе!» На что Лера вдруг выдала: «Да я сама тебе сейчас про папу такое расскажу…» И рассказала. Сейчас по данному факту работает следствие…
Что может понимать ребенок в свои 5 — 6 лет? Он ведь еще сам, как правило, не утратил привычку залезать на коленки к взрослым, чтобы с ним поиграли, понянчились. Психологи утверждают, что нежные проявления со стороны родителя противоположного пола даже нужны для гармоничного развития малыша! Но только если отношения в семье — здоровые. А не такие, когда папы–дяди меняются чуть ли не с калейдоскопической быстротой и по пьяни «нечаянно» путают постель подруги с кроваткой ее дочурки… Полгода назад это довелось пережить 6–летней Леночке. Сцену застала мама, выгнала извращенца и заявила в милицию. Слонимский районный суд приговорил 37–летнего растлителя к принудительному лечению от алкогольной зависимости и всего к 2 годам лишения свободы.
Разумеется, 14 — 15–летние девочки уже все понимают. Но разве можно говорить о «добровольном согласии», когда пьяный папа вваливается в комнату, заламывает руки, срывает одежду?.. Отцу 15–летней Зои из деревни Гомельской области, ранее судимому, суд назначил за это 10 лет исправительной колонии усиленного режима плюс опять же принудительное лечение от алкоголизма. С позволения сказать отец решение даже пытался обжаловать. Безрезультатно…
Вообще, по официальным данным, 4 из 10 жертв растлителей пострадали от самых близких людей — отца, брата, отчима, опекуна. Эти люди по умолчанию находятся в зоне особого доверия, равно как педагоги учебных заведений, воспитатели, тренеры… А вот российское законодательство теперь рассматривает принадлежность к этой категории как отягчающее обстоятельство.
Легче забыть?
За прошлый год в стране было совершено 28 изнасилований несовершеннолетних, в том числе в пяти случаях речь шла о девочках 9 — 10 лет. И, заметьте, все истории — семейно–бытовые. Жертвой 39–летнего педофила, ранее неоднократно судимого могилевчанина, вообще стал… 3–летний мальчик. Родители привезли малыша к бабушке, попросили присмотреть. Вечерком бабуля уснула, а ее молодой подвыпивший сожитель «занялся» внуком…
— Но эти цифры отнюдь не отражают реальную картину, — подчеркивает начальник главного управления уголовного розыска криминальной милиции МВД Беларуси полковник милиции Владимир Захарчук. — Такие преступления часто носят скрытый характер. Нередко люди предпочитают забыть… Почему? Рассудите сами: на всех стадиях расследования несовершеннолетнему снова и снова приходится переживать ужасные события, отвечая на вопросы сначала оперативных сотрудников, затем следователей и так далее. Работа психологов уже почти бессмысленна. Обязательно все становится известно в школе, соседям, двору… После такого — хоть переезжай. Хотя куда уедешь от собственных мыслей и воспоминаний? Возможно, выходом стало бы усовершенствование процедуры расследования в таких случаях: например, если бы ее свели лишь к одному–двум допросам в сопровождении видеосъемки и обязали свидетелей сохранять тайну… Ведь безнаказанность порождает новые, еще более серьезные преступления.
Пока действующее законодательство предлагает «забыть» (а значит, и простить?!) об изнасиловании (ст. 166 УК) и насильственных действиях сексуального характера (ст. 167) в отношении несовершеннолетних через 15 лет. Остальные преступления — включая половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16 лет, развратные действия, а также понуждение — относятся к категории менее тяжких, у них срок давности — 5 лет… Между тем статистика беспристрастно свидетельствует: около 40 процентов педофилов и насильников — сами в прошлом жертвы аналогичных преступлений. Редко какой девочке, подвергшейся половому насилию, удается потом найти любовь, опору в жизни. Ее память не знает сроков давности…
Справка «СБ»
Согласно нашему законодательству, возраст полового согласия (рубеж, по достижении которого добровольное вступление в сексуальные отношения считается допустимым), равно как и ответственность за преступления в данной сфере, наступает с 16 лет. Лишь в исключительных случаях, когда с несовершеннолетней беременной по решению администрации района заключается брак, взрослый, растливший ее, не будет осужден, а станет называться мужем… Сколько таких случаев — единицы, десятки? — отдельной статистики не ведется. Но кое о чем можно судить по общим цифрам браков с участием несовершеннолетних, ведь их число растет: в 2010 году — 856, в 2011–м — 904.
Советы «СБ»
О том, что ребенка растлевают, можно судить по таким признакам:
он стал капризен, плаксив, нарушились сон и аппетит;
потеряно доверие к взрослым;
появились проблемы в отношениях со сверстниками, нет друзей (ведь ребенок считает себя испорченным!);
ему стало трудно сосредоточиться, быстро устает, начал отставать в учебе;
стал агрессивен и внешне (например, замечен в вандализме), и внутренне (самоповреждения, увлечение психоактивными веществами, суицидальные наклонности);
обвиняет вас в предательстве.
Охранник из Благовещенска несколько лет растлевал маленьких детей, а его жертвы до последнего хранили это в секрете.
В Приамурье осудили очередного педофила. На совести 37-летнего сотрудника частного охранного предприятия шесть надломленных судеб. На протяжении семи лет мужчина развращал своих падчериц и их школьных подруг. Все жертвы преступника долгое время держали происходящее в тайне, и растлитель уверовал в свою безнаказанность настолько, что начал искать новые объекты для удовлетворения в Сети. Преступления и впрямь могли остаться без наказания, если бы не случайность…
Шутки с «Дашуткой»
Первое уголовное дело в отношении жителя Благовещенска Дмитрия Боброва (имена и фамилии всех участников дела изменены) возбудили в июне 2013 года. С виду обычный горожанин, живущий в гражданском браке с женщиной и воспитывающий ее дочь, решил разнообразить серые будни, зарегистрировавшись в «Одноклассниках» под видом 9-летней «Дашутки В.». Под маской ученицы одной из благовещенских школ он начал свои виртуальные домогательства. Добавляясь в друзья к незнакомым девочкам, он в циничной форме предлагал разные непристойности. Так он договорился о свидании с 9-летней школьницей. Однако в условленном месте — на территории одной из школ города — извращенца ждала вовсе не малолетняя Лолита, а группа полицейских: оказывается, встречу незнакомому дяде назначила не девочка, а ее мать, вовремя увидевшая переписку и обратившаяся к оперативникам.
Для гражданской жены Боброва Елены весть о задержании мужа стала громом среди ясного неба. С Дмитрием она познакомилась также посредством интернета. Бобров называл себя подполковником в отставке, рассказывал женщине, как служил в спецназе и принимал участие в боевых действиях. О том, что ее сожитель даже не служил в армии, Елена узнала только после его задержания.
При этом Елена описывает Боброва как человека со сложным, но не агрессивным характером. Женщина напирала и на то, что он заменил ее дочери родного отца. По ее словам, Бобров занимался воспитанием Алины, вместе с ней делал уроки, гулял, девочка даже называла его папой. Узнав о тайных наклонностях сожителя, Елена, как бы между прочим, стала выяснять у дочери, не приставал ли к ней отчим. Однако на все вопросы девочка отвечала, что «папа ее никогда не обижал».
Боброва приговорили к 15 годам лишения свободы, однако он оспорил решение в Верховном суде, и наказание сократили вдвое — до 7 лет. Подсудимый уже праздновал торжество гуманизма, когда следователям вдруг стало известно, что его виртуальные забавы в соцсетях — «цветочки», а от «ягодок», которые он вытворял с девочками от 5 до 9 лет, бегут мурашки по коже.
Кассета с сердечком
Валентина Сергеевна, мать Елены и бабушка Алины, всегда относилась к будущему зятю (а Бобров обещал расписаться с Еленой официально) хорошо. Она его характеризовала как человека ответственного, порядочного, уравновешенного и отказывалась верить в то, что он мог совершить что-то противоправное. Однажды, находясь в гостях у дочери, Валентина Сергеевна стала что-то искать в шкафу. В одном из ящиков она обнаружила мини-видеокассету в прозрачном пластиковом боксе. Кассета не была подписана, на ней виднелась лишь маленькая наклейка в виде красного сердца. Женщине стало интересно, что за запись содержится на кассете, и она забрала ее. Однако возможность просмотреть видео представилась лишь спустя год. Увидев фрагмент видеозаписи, Валентина Сергеевна схватилась за сердце: на экране Бобров развращал ее 9-летнюю внучку Алину. Женщина, не верившая до этого момента в виновность зятя, поняла, что Бобров действительно педофил, и тут же обратилась в полицию.
Прорабатывая круг общения Боброва уже в рамках второго уголовного дела, следователи выяснили, что Алина — далеко не единственная жертва извращенца. В течение семи лет он совершил 30 насильственных действий сексуального характера в отношении шести девочек, три из них были дочерями сожительниц, остальные — их школьными подругами.
Началось все в 2006-м. Как-то летом Дмитрий остался наедине с шестилетней Катей, дочерью Валерии, с которой он сожительствовал в то время. Девочку он воспитывал с трех лет и даже в ходе допроса называл дочерью. Используя беспомощное состояние ребенка, Бобров, выражаясь протокольным языком, «совершил в отношении нее иные действия сексуального характера». Спустя время Бобров расстался с Валерией, но общаться с ее дочерью не прекратил. Он звонил девочке, договаривался с ней о встрече, иногда забирал из школы — с вполне определенной целью: удовлетворить свою похоть. Места встреч не отличались разнообразием: в основном это была окраина одного из сел Благовещенского района, реже — общественная баня. Однажды Катя привела с собой одноклассницу, которой «дядя Дима» также предложил участие во «взрослых играх». Девочка согласилась. Вскоре ее примеру последовала и другая школьная подружка Кати.
В 2010 году очередной жертвой растлителя стала 5-летняя Надя — дочь очередной сожительницы Боброва. Позже его криминальный список пополнили Алина и ее школьная подруга. Большинство развратных действий Бобров снимал на видеокамеру, запись с которой впоследствии и стала главной уликой.
Из жертвы — в преступники
Говорят, все преступники были когда-то жертвами. Так это или нет, утверждать не будем, однако Бобров, описывая свою жизнь, старается предстать униженным и оскорбленным. На свет он появился недоношенным с родовой травмой. Вскоре после его рождения родители развелись, мать снова вышла замуж. Отчим откровенно недолюбливал мальчика и иногда избивал. Мать много работала, в результате чего мальчик был предоставлен сам себе.
Школьные годы стали очередным испытанием для будущего преступника. Ребята обижали его и обзывали больным. Он рос замкнутым и закомплексованным ребенком. После окончания 9 классов сразу пошел работать. Со временем ко всем жизненным невзгодам, добавилось еще одно — разочарование в любви. Бобров много раз сходился с разными женщинами, но ни разу официально не был женат, в 2009 году у него родилась дочь, однако с ее матерью он вскоре расстался, воспитанием ребенка не занимается и алиментов не платит. По его словам, сожительницы изменяли ему, после чего он перестал верить женщинам. И тогда его потянуло к детям — существам невинным и неспособным на предательство…
Суд признал Боброва виновным и назначил наказание в виде 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, ему предстоит пройти принудительное лечение у врача-психиатра.
Страшные тайны
Следователи отмечают, что подозреваемый активно способствовал расследованию, охотно сообщая все подробности преступлений. Труднее было работать с родителями девочек — они не хотели лишний раз травмировать дочерей и, кроме того, боялись огласки. Весть о событиях 5-10-летней давности для каждого из родителей была настоящим шоком. Все потерпевшие девочки росли в благополучных, обеспеченных семьях, так почему же они молчали?
— Вероятно, осужденный обладает неким талантом устанавливать психологический контакт с детьми, — предполагает следователь по особо важным делам СУ СК РФ по Амурской области Александр Рекун. — Никто из потерпевших не отзывался о нем плохо: он не применял насилия, не причинял боли, оттого и не являлся преступником в их глазах.
Вот это и страшит. Легкость, с которой девочки из хороших семей соглашались на взрослые игры, пугает даже больше, чем само наличие педофилов. Почему так случилось? Неужели школьницы не отдавали себе отчета в происходящем?
— Скорее всего, 5- и 6-летние жертвы преступника действительно не осознавали сути происходящего: в этом возрасте ребенок не в состоянии распознать грубое вмешательство, если оно происходит от близкого человека. Другое дело 9-летние девочки. Ими, скорее всего, двигали другие мотивы. С одной стороны, возникающий в этом возрасте интерес к физиологии, тяга ко всему запретному, с другой — еще сохранившееся доверие к миру (любой взрослый для ребенка авторитет, а тем более папа подружки). Скорее всего, они прекрасно понимали, что делают что-то предосудительное, испытывали стыд, который с возрастом только нарастал. Не исключено, что в семьях были нарушены эмоциональные связи между родителями и детьми, — комментирует педагог-психолог Софья Алдухова.
Дарья ДРУЖИНИНА.
(Использованы материалы обвинительного заключения.)
Счастливая пора? Растление, голод, рабский труд, бесправие: краткая и безрадостная история детства
Счастливой и беззаботной порой детство стало относительно недавно и то не везде. Прошло совсем немного времени с тех пор, как ребенок был совершенно бесправным, а иногда и вовсе чьей-то собственностью. Так уж получилось в этом жестоком мире, что история детства — это история бесправия и насилия и об этом стоит помнить, чтобы не повторять ошибок. Мы хотим развенчать несколько популярных мифов о детстве, подойдя к вопросу с точки зрения истории.
Существует гипотеза, что в старину понятие «детство» заканчивалось вместе с младенческим возрастом. После этого наступал особый возраст, в котором малышей воспринимали не иначе как маленьких взрослых. Скорее всего, это не так, но можно уверенно говорить, что в разных странах в разные эпохи детство имело разную продолжительность и относились к нему также по-разному.
Даже древние люди не могли не понимать, что дети сильно отличаются от взрослых и это касается не только физических и интеллектуальных возможностей. Они не могли размножаться, имели свои, особые интересы и чаще взрослых страдали от инфекционных заболеваний. Заканчивался этот период вместе с половым созреванием и маленький человек становился полноправным членом общества.
Дети защищены и окружены заботой
Отношение к детям в Европе историки делят на два основных типа: иудейский и римский. Оба типа подразумевали, что ребенок — это собственность родителей. При этом римляне могли поступать со своими отпрысками на свое усмотрение, а у иудеев детоубийство было строжайше запрещено.
Избиение ребенка в Древнем Риме было обычным делом и преступлением его никто не считал. Правда, со временем, гордые римляне опомнились и начали вводить законы, защищающие права детей. Сегодня они выглядят более чем странными. Например, отца могли лишить родительских прав, если он более двух раз продавал ребенка во временное рабство.
Следует сразу же уточнить, что все законы касались исключительно граждан Рима — маленького раба-варвара можно было зарезать посреди улицы и это не привело бы ни к каким последствиям. Ребенок был чем-то наподобие скота, домашнего питомца, безделушки, по крайней мере, с точки зрения закона.
Это совсем не значит, что детей не любили родители. Их любили, в случае болезни переживали и старались помочь, а если малыш умирал — безутешно горевали. Но это была странная, эгоистичная любовь и доказательства этого встречались буквального на каждом шагу.
Если в доме было мало еды, то ее отдавали не ребенку, а мужчине. Это было оправдано жестокой эпохой — мужчина был кормильцем и если он был истощен или умирал, под вопросом оказывалось выживание всей семьи, подчас довольно большой. Были также вещи, которые сложно объяснить с рациональной точки зрения. Если в доме появлялось лакомство, то до недавнего времени считалось нормальным, что отец семейства съест его сам или заберет львиную долю.
Это касалось не только отцов — часто также поступали и матери. Правда, в этом случае шансов на снисхождение было больше, но это уже особенность женской психологии. В любом случае еще в 19 веке ребенок был человеком второго, а то и третьего сорта. Права детей защищались лишь в случае, когда речь шла о правах семейства, к которому он принадлежит.
Дети беззаботны
Рассказывать о том, что раньше дети работали вряд ли стоит — об этом известно всем. Едва только малыш из крестьянской семьи начинал понимать, что от него хотят, ему начинали давать мелкие поручения, а в возрасте 7-10 лет дети уже полноценно помогали родителям в поле, мастерской, у печи, в овине со скотом. Также в обязанности старших детей входил уход за младшими братьями и сестрами.
В знатных семьях все происходило немного иначе, но назвать детство дворянских отпрысков беспечным также язык не поворачивается. Они были обязаны строго соблюдать этикет, поддерживать честь семьи и, главное, — много и тяжело учиться. Образование ребенок аристократов начинал получать в 3-4 года и к 5 годам часто мог сносно изъясняться на 2-3 иностранных языках.
Профессиональный детский труд — это отдельная большая тема для разговоров. В прогрессивную викторианскую эпоху в городах Англии трудились тысячи трубочистов-подмастерий, которые ежедневно рисковали своей жизнью. При прочистке дымохода, когда инструментальные методы были не эффективны, трубочист привязывал своего юного помощника за ноги веревкой и спускал головой вниз в дымовой канал. Смерть ребенка в таком случае признавалась несчастным случаем и взрослый мог быть лишь оштрафован, если следствие признает, что он не предпринял должных мер для спасения маленького помощника.
Дети работали в шахтах, красильнях и мастерских по дублению кожи, в шляпных ателье со ртутными реактивами и на множестве других опасных и вредных производств. При этом нужно отметить, что зарплата ребенка отличалась от взрослой в разы, даже если он выполнял положенную для совершеннолетнего норму.
Все дети любят играть, и самая насыщенная заботами жизнь не помешает им уделить время развлечениям. Отношение к детским играм могло быть разным. Кто-то получал дорогие игрушки, купленные родителями, кому-то их мастерил отец или мать, а кто-то был вынужден делать их самостоятельно.
Особого разделения по интересам не было — мальчики и девочки могли вместе играть куклами и предметами, изображающими оружие. Были особые тренды в зависимости от эпохи. В 19 столетии было модно играть в индейцев и пиратов, а в 20 веке в войну. События окружающего мира всегда влияли на маленьких людей в первую очередь.
Взрослые не всегда лояльно относились к детским развлечениям, особенно в крестьянской среде. Огромное количество домашних дел требовало привлечения всех членов семьи и болтающиеся без дела отпрыски раздражали. В высшем обществе считалось, что игры бесполезны, в отличие от заучивания текстов и стихов наизусть и решения математических задач.
Не поощряла игры и церковь — с ее точки зрения, любые игры считались праздностью, а значит попадали в разряд греха. Были и особо ненавистные для святош детские развлечения, особенно связанные с языческим наследием. Например, порицались любые забавы с хлопаньем в ладоши.
Ученые нашего времени, изучив девичьи игры с хлопаньем в ладоши и выкрикиванием нелепых речевок и слов, обнаружили, что многие из них напрямую связаны с древними языческими обрядами. Это удивительно, но в детских играх нашлись осколки дохристианских обрядов. Увы, 21 век почти уничтожил это наследие — технологии свели на нет интерес к подобным развлечениям, а командные игры рассматриваются только в плоскости спорта.
Подводя итог, можно сказать, что игры стали для детей нормой лишь после того, как появился городской средний класс. Именно представители этого слоя населения могли себе позволить роскошь ничем не озадачивать детей и смотреть сквозь пальцы на пустяки, которыми они занимаются. Кстати, некоторые игры были совсем недетские и даже жутковатые.
Следует также сказать, что традиционный для нас сегодня тип семейных отношений зародился в семьях буржуа и постепенно пришел в дворянство, а лишь потом в более низкие сословия. Это разрушает устоявшийся стереотип, что все прогрессивное появляется сперва в среде знати и лишь потом попадает ниже.
Детская вседозволенность
Сегодня есть семьи, в которых принято детям разрешать много лишнего и прощать самые серьезные проступки. Родители считают, что их дитя еще успеет находиться «по струнке» и дают ему свободу в разумных пределах. Но это можно назвать новаторским подходом, так как в старые добрые времена все было по-другому.
То что нельзя контролировать и предусмотреть во все времена вызывало у человека раздражение. Дети не походили на взрослых ни внешне, ни своими поступками, поэтому попытки привести их «в порядок» не прекращались никогда. Лишь относительно недавно появившаяся мода на естественность смягчила подобное отношение.
Чтобы ребенок был максимально похож на взрослого человека, его туго пеленали и в этом положении малыш находился постоянно, кроме моментов, когда ему меняли пеленки. Дети находились в вытянутом положении, не имея возможности размять конечности и испытывая от этого страдания.
Пеленание не было чисто европейским изобретением. Во многих североамериканских индейских племенах детей также туго укутывали и привязывали к дощечкам, расположенным у матери за спиной. Не разрешалось им и ползать на четвереньках, так как этим они уподоблялись диким животным.
В Средние века все было еще жестче — был придуман детский корсет. Его использовали в знатных семействах и этот аксессуар имел несколько предназначений. Первым было, разумеется, придание младенцу «взрослого» положения тела. Остальные причины применения корсета шокировали. Жесткая конструкция должна была защитить малыша от переломов ребер.
Думаете, что ребенок может пострадать при случайном падении и корсеты — это страховка от редких несчастных случаев? Вовсе нет. Детей, способных удерживать голову на весу, часто для развлечения бросали друг другу, иногда из окна в окно через узкую средневековую улицу!
Особое раздражение всегда вызывала младенческая особенность к неконтролируемой дефекации. Чтобы упорядочить этот процесс взрослые в разные времена прибегали к разным ухищрениям, но наиболее популярным всегда была обычная клизма. Дефекацию организовывали по часам, чтобы избежать неприятных «сюрпризов» в течение дня и особенно ночью.
Организованы были и воспитательные моменты. В конце недели ребенок получал порку за все свои прегрешения. Если таковые отсутствовали, что было маловероятно, малыш имел лишь небольшой шанс избежать наказания — очень часто детей секли просто так, «чтобы не забывал себя», то есть с профилактическими целями.
Дети и сексуальная агрессия
Во многих мировых культурах сексуальная агрессия со стороны старших детей к младшим была едва ли не традицией. Больше всего страдали от этого мальчики, так как их изнасилования старшими долгие столетия легко и просто преподносились как магический обряд передачи мужской силы от старшего поколения к младшему.
Такие противоестественные отношения практиковались в дохристианской Европе, среди коренного населения обеих Америк, у племен Африки и Океании. Девочки также подвергались насилию — растление старшими братьями или кузенами считалось забавой, а иногда и поощрялось взрослыми, которые считали такие действия подготовкой ко взрослой жизни.
После того как в Европу пришло христианство, сексуальные действия к ребенку со стороны отца или деда считались преступлением, но большая часть вины при этом неизбежно возлагалась на саму девочку. С детьми-рабами в античном мире или в странах Востока можно было делать, вообще, все что угодно и общество смотрело на это сквозь пальцы.
В средневековой Европе растление совершеннолетних было особенно распространено среди знати и духовенства. В случае если о преступлении становилось известно, вину чаще всего возлагали на ребенка. В таких случаях жертву признавали похотливым маленьким соблазнителем, а взрослый распутник не только не подвергался наказанию, но и не терял уважения в обществе.
Сегодня кажется странным, что ребенок, который признавался неспособным распоряжаться своим имуществом и делать политический и брачный выбор, считался ответственным за сексуальные действия со стороны взрослого человека. Увы, отголоски этого явления встречаются до сих пор.
Даже в 21 веке во многих развитых странах в новостях можно встретить сообщения с необычной формулировкой. Иногда пишут, что девочка 11 лет спала с мужчиной, хотя единственным правильным определением будет растление девочки взрослым.
Как мы видим, детство никогда не было приятным и беззаботным и даже в наше время считать его таковым можно лишь условно. Человечество движется к тому, чтобы обеспечить защиту детству и делается для этого немало. К сожалению, тысячелетия, в течение которых ребенок считался почти бездушной вещью и «недочеловеком», сформировали стойкие стереотипы, а ломать их совсем непросто.
Смотрите также — Слишком рано повзрослевшие дети ирландских цыган
А вы знали, что у нас есть Telegram и Instagram?
Подписывайтесь, если вы ценитель красивых фото и интересных историй!
Счастливая пора? Растление, голод, рабский труд, бесправие: краткая и безрадостная история детства
3 года назад · 1513 просмотров
Счастливой и беззаботной порой детство стало относительно недавно и то не везде. Прошло совсем немного времени с тех пор, как ребенок был совершенно бесправным, а иногда и вовсе чьей-то собственностью. Так уж получилось в этом жестоком мире, что история детства — это история бесправия и насилия и об этом стоит помнить, чтобы не повторять ошибок. Мы хотим развенчать несколько популярных мифов о детстве, подойдя к вопросу с точки зрения истории.
Существует гипотеза, что в старину понятие «детство» заканчивалось вместе с младенческим возрастом. После этого наступал особый возраст, в котором малышей воспринимали не иначе как маленьких взрослых. Скорее всего, это не так, но можно уверенно говорить, что в разных странах в разные эпохи детство имело разную продолжительность и относились к нему также по-разному.
Даже древние люди не могли не понимать, что дети сильно отличаются от взрослых и это касается не только физических и интеллектуальных возможностей. Они не могли размножаться, имели свои, особые интересы и чаще взрослых страдали от инфекционных заболеваний. Заканчивался этот период вместе с половым созреванием и маленький человек становился полноправным членом общества.
Счастливой и беззаботной порой детство стало относительно недавно и то не везде. Прошло совсем немного времени с тех пор, как ребенок был совершенно бесправным, а иногда и вовсе чьей-то собственностью. Так уж получилось в этом жестоком мире, что исто
Отношение к детям в Европе историки делят на два основных типа: иудейский и римский. Оба типа подразумевали, что ребенок — это собственность родителей. При этом римляне могли поступать со своими отпрысками на свое усмотрение, а у иудеев детоубийство было строжайше запрещено.
Избиение ребенка в Древнем Риме было обычным делом и преступлением его никто не считал. Правда, со временем, гордые римляне опомнились и начали вводить законы, защищающие права детей. Сегодня они выглядят более чем странными. Например, отца могли лишить родительских прав, если он более двух раз продавал ребенка во временное рабство.
Следует сразу же уточнить, что все законы касались исключительно граждан Рима — маленького раба-варвара можно было зарезать посреди улицы и это не привело бы ни к каким последствиям. Ребенок был чем-то наподобие скота, домашнего питомца, безделушки, по крайней мере, с точки зрения закона.
Это совсем не значит, что детей не любили родители. Их любили, в случае болезни переживали и старались помочь, а если малыш умирал — безутешно горевали. Но это была странная, эгоистичная любовь и доказательства этого встречались буквального на каждом шагу.
Если в доме было мало еды, то ее отдавали не ребенку, а мужчине. Это было оправдано жестокой эпохой — мужчина был кормильцем и если он был истощен или умирал, под вопросом оказывалось выживание всей семьи, подчас довольно большой. Были также вещи, которые сложно объяснить с рациональной точки зрения. Если в доме появлялось лакомство, то до недавнего времени считалось нормальным, что отец семейства съест его сам или заберет львиную долю.
Это касалось не только отцов — часто также поступали и матери. Правда, в этом случае шансов на снисхождение было больше, но это уже особенность женской психологии. В любом случае еще в 19 веке ребенок был человеком второго, а то и третьего сорта. Права детей защищались лишь в случае, когда речь шла о правах семейства, к которому он принадлежит.
Дети беззаботны
Рассказывать о том, что раньше дети работали вряд ли стоит — об этом известно всем. Едва только малыш из крестьянской семьи начинал понимать, что от него хотят, ему начинали давать мелкие поручения, а в возрасте 7-10 лет дети уже полноценно помогали родителям в поле, мастерской, у печи, в овине со скотом. Также в обязанности старших детей входил уход за младшими братьями и сестрами.
В знатных семьях все происходило немного иначе, но назвать детство дворянских отпрысков беспечным также язык не поворачивается. Они были обязаны строго соблюдать этикет, поддерживать честь семьи и, главное, — много и тяжело учиться. Образование ребенок аристократов начинал получать в 3-4 года и к 5 годам часто мог сносно изъясняться на 2-3 иностранных языках.
Профессиональный детский труд — это отдельная большая тема для разговоров. В прогрессивную викторианскую эпоху в городах Англии трудились тысячи трубочистов-подмастерий, которые ежедневно рисковали своей жизнью. При прочистке дымохода, когда инструментальные методы были не эффективны, трубочист привязывал своего юного помощника за ноги веревкой и спускал головой вниз в дымовой канал. Смерть ребенка в таком случае признавалась несчастным случаем и взрослый мог быть лишь оштрафован, если следствие признает, что он не предпринял должных мер для спасения маленького помощника.
Дети работали в шахтах, красильнях и мастерских по дублению кожи, в шляпных ателье со ртутными реактивами и на множестве других опасных и вредных производств. При этом нужно отметить, что зарплата ребенка отличалась от взрослой в разы, даже если он выполнял положенную для совершеннолетнего норму.
Все дети любят играть, и самая насыщенная заботами жизнь не помешает им уделить время развлечениям. Отношение к детским играм могло быть разным. Кто-то получал дорогие игрушки, купленные родителями, кому-то их мастерил отец или мать, а кто-то был вынужден делать их самостоятельно.
Особого разделения по интересам не было — мальчики и девочки могли вместе играть куклами и предметами, изображающими оружие. Были особые тренды в зависимости от эпохи. В 19 столетии было модно играть в индейцев и пиратов, а в 20 веке в войну. События окружающего мира всегда влияли на маленьких людей в первую очередь.
Взрослые не всегда лояльно относились к детским развлечениям, особенно в крестьянской среде. Огромное количество домашних дел требовало привлечения всех членов семьи и болтающиеся без дела отпрыски раздражали. В высшем обществе считалось, что игры бесполезны, в отличие от заучивания текстов и стихов наизусть и решения математических задач.
Не поощряла игры и церковь — с ее точки зрения, любые игры считались праздностью, а значит попадали в разряд греха. Были и особо ненавистные для святош детские развлечения, особенно связанные с языческим наследием. Например, порицались любые забавы с хлопаньем в ладоши.
Ученые нашего времени, изучив девичьи игры с хлопаньем в ладоши и выкрикиванием нелепых речевок и слов, обнаружили, что многие из них напрямую связаны с древними языческими обрядами. Это удивительно, но в детских играх нашлись осколки дохристианских обрядов. Увы, 21 век почти уничтожил это наследие — технологии свели на нет интерес к подобным развлечениям, а командные игры рассматриваются только в плоскости спорта.
Подводя итог, можно сказать, что игры стали для детей нормой лишь после того, как появился городской средний класс. Именно представители этого слоя населения могли себе позволить роскошь ничем не озадачивать детей и смотреть сквозь пальцы на пустяки, которыми они занимаются. Кстати, некоторые игры были совсем недетские и даже жутковатые.
Следует также сказать, что традиционный для нас сегодня тип семейных отношений зародился в семьях буржуа и постепенно пришел в дворянство, а лишь потом в более низкие сословия. Это разрушает устоявшийся стереотип, что все прогрессивное появляется сперва в среде знати и лишь потом попадает ниже.
Детская вседозволенность
Сегодня есть семьи, в которых принято детям разрешать много лишнего и прощать самые серьезные проступки. Родители считают, что их дитя еще успеет находиться «по струнке» и дают ему свободу в разумных пределах. Но это можно назвать новаторским подходом, так как в старые добрые времена все было по-другому.
То что нельзя контролировать и предусмотреть во все времена вызывало у человека раздражение. Дети не походили на взрослых ни внешне, ни своими поступками, поэтому попытки привести их «в порядок» не прекращались никогда. Лишь относительно недавно появившаяся мода на естественность смягчила подобное отношение.
Чтобы ребенок был максимально похож на взрослого человека, его туго пеленали и в этом положении малыш находился постоянно, кроме моментов, когда ему меняли пеленки. Дети находились в вытянутом положении, не имея возможности размять конечности и испытывая от этого страдания.
Пеленание не было чисто европейским изобретением. Во многих североамериканских индейских племенах детей также туго укутывали и привязывали к дощечкам, расположенным у матери за спиной. Не разрешалось им и ползать на четвереньках, так как этим они уподоблялись диким животным.
В Средние века все было еще жестче — был придуман детский корсет. Его использовали в знатных семействах и этот аксессуар имел несколько предназначений. Первым было, разумеется, придание младенцу «взрослого» положения тела. Остальные причины применения корсета шокировали. Жесткая конструкция должна была защитить малыша от переломов ребер.
Думаете, что ребенок может пострадать при случайном падении и корсеты — это страховка от редких несчастных случаев? Вовсе нет. Детей, способных удерживать голову на весу, часто для развлечения бросали друг другу, иногда из окна в окно через узкую средневековую улицу!
Особое раздражение всегда вызывала младенческая особенность к неконтролируемой дефекации. Чтобы упорядочить этот процесс взрослые в разные времена прибегали к разным ухищрениям, но наиболее популярным всегда была обычная клизма. Дефекацию организовывали по часам, чтобы избежать неприятных «сюрпризов» в течение дня и особенно ночью.
Организованы были и воспитательные моменты. В конце недели ребенок получал порку за все свои прегрешения. Если таковые отсутствовали, что было маловероятно, малыш имел лишь небольшой шанс избежать наказания — очень часто детей секли просто так, «чтобы не забывал себя», то есть с профилактическими целями.
Дети и сексуальная агрессия
Во многих мировых культурах сексуальная агрессия со стороны старших детей к младшим была едва ли не традицией. Больше всего страдали от этого мальчики, так как их изнасилования старшими долгие столетия легко и просто преподносились как магический обряд передачи мужской силы от старшего поколения к младшему.
Такие противоестественные отношения практиковались в дохристианской Европе, среди коренного населения обеих Америк, у племен Африки и Океании. Девочки также подвергались насилию — растление старшими братьями или кузенами считалось забавой, а иногда и поощрялось взрослыми, которые считали такие действия подготовкой ко взрослой жизни.
После того как в Европу пришло христианство, сексуальные действия к ребенку со стороны отца или деда считались преступлением, но большая часть вины при этом неизбежно возлагалась на саму девочку. С детьми-рабами в античном мире или в странах Востока можно было делать, вообще, все что угодно и общество смотрело на это сквозь пальцы.
В средневековой Европе растление совершеннолетних было особенно распространено среди знати и духовенства. В случае если о преступлении становилось известно, вину чаще всего возлагали на ребенка. В таких случаях жертву признавали похотливым маленьким соблазнителем, а взрослый распутник не только не подвергался наказанию, но и не терял уважения в обществе.
Сегодня кажется странным, что ребенок, который признавался неспособным распоряжаться своим имуществом и делать политический и брачный выбор, считался ответственным за сексуальные действия со стороны взрослого человека. Увы, отголоски этого явления встречаются до сих пор.
Даже в 21 веке во многих развитых странах в новостях можно встретить сообщения с необычной формулировкой. Иногда пишут, что девочка 11 лет спала с мужчиной, хотя единственным правильным определением будет растление девочки взрослым.
Как мы видим, детство никогда не было приятным и беззаботным и даже в наше время считать его таковым можно лишь условно. Человечество движется к тому, чтобы обеспечить защиту детству и делается для этого немало. К сожалению, тысячелетия, в течение которых ребенок считался почти бездушной вещью и «недочеловеком», сформировали стойкие стереотипы, а ломать их совсем непросто.
Источник:
|
96 |
На речке
— Сонь, пошли купаться!
В раскрытом окошке показалась веснушчатая мордочка Вари, соседки. Соня оторвала голову от развернутой книги и улыбнулась в ответ.
— Вдвоем? Не хочется…
— Почему вдвоем? С девчонками. Там Маша, Нина, Тома, и еще… в общем все наши. Пошли! Хватит в четырех стенах киснуть!
— А куда?
— На речку! На наше место! Ну что, идем?
Соня на секунду взглянула на раскрытую книгу, потом решительно ее захлопнула.
— Сейчас, только переоденусь.
— Давай быстрее! Ждем!
Через несколько минут подружки шли по узенькой тропке к речке. Речка была небольшая, но теплая, небыстрая и, главное с песчаными берегами. В сущности можно было на любое место приходить и купаться. Но у девушек было «свое» место. Это был небольшой пляжик на излучине речки, скрытый от посторонних глаз достаточно густым кустарником. Когда и кто его нашел, уже никто и не помнит, но купаться девушки ходили всегда именно сюда. Они считали, что о нем никто не знает. Мальчишки, конечно, знали и нередко сквозь кусты подглядывали за купающимися девчатами. К счастью, подглядывающих мальчиков ни разу не обнаружили.
— Соня, — позвала подругу Варя, — а ты с кем-нибудь из ребят дружишь?
— Ну как? — откликнулась Соня, — Со всеми дружу.
— Да нет, не так. А по-настоящему, понимаешь?
— Нет, так ни с кем…
— А хотелось бы?
— Чего? Дружить?
— Да.
— Конечно, хочется. Ведь мне уже пятнадцать почти.
— А ты … целовалась с мальчиком?
— Нет. А ты?
— И я нет. Хотя, Димка раз облапил меня…
— И что? Поцеловал?
— Нет. Я его ущипнула, а потом еще и оттолкнула!
— Дура.
— Ага, дура. Сама знаю, что дура. Я же потом к нему подошла, извинилась, а он…
— А он что?
— В том то и дела, что ничего!
— Дура!
— А тебя кто-нибудь пытался поцеловать?
— Нет, меня не пытались.
— А хочется?
— Конечно, хочется. Только я не знаю, что я сделаю, когда это произойдет.
— В каком смысле?
— Ну, может я, как и ты — прогоню его?
— Может быть.
— Эй, Сонька! Варька! — прозвучал зычный голос Тани, — Чего отстали? Догоняйте!
Минут через пятнадцать девушки пришли на место. Быстро скинули с себя верхнюю одежду. Только Катя стояла в нерешительности.
— Ты чего, Кать? — спросила ее Таня, — Давай раздевайся! Или ты купаться не хочешь?
— Я посижу лучше. Вы идите, купайтесь.
Девочки обступили Катю и наперебой загалдели:
— А чего тогда пришла?
— Ну-ка, давай снимай платье!
— И марш купаться!
— Вставай, вставай, чего расселась?
— Девчонки, не надо! — пыталась отбиваться Катя, — Ну не могу я сегодня платье снять!
— Да почему?
— Ну, — замялась Катя, — потому что … там у меня … нет ничего.
— Где там?
— Ну … под платьем.
— Это как?
— Ну я из бани вышла только, а тут вы — пошли, да пошли купаться. Я и пошла, а что кроме платья ничего нет и забыла…
— Ну и что? Давай без ничего купайся!
— Нет, девочки, я так не могу. А вдруг увидит кто?
— Да кто тут увидит? Это же наше место!
— Нет, все-таки я лучше посижу…
— Девчонки! — воскликнула Тома, пятнадцатилетняя отчаянная девушка — а давайте все голышом будем купаться! Чтобы Катюшке не так неудобно было?
Все оторопели и настороженно посмотрели вокруг. Одно дело предлагать кому-то раздеться, и совсем другое — обнажаться самой. Так бы и затухла эта идея, если бы не бесшабашность Томы. Она вдруг резко стянула с себя свой закрытый купальник и бросила его на песок.
— Ну и что вы встали? Давайте, давайте, раздевайтесь!
— А и правда! — поддержала Тому Маша, — и отжимать не нужно будет!
По примеру подруги она тоже сбросила с себя остатки одежды. Видя решительность Томы и Маши, и все остальные девочки стали обнажать свои юные тела. В конце концов и Катя стянула с себя платье.
— А теперь купаться! — громко крикнула Вера и первая прыгнула в воду.
Следом за ней в воде оказались и все остальные девушки. Поднялся визг, гомон, смех! Брызги воды летали во всех направлениях. Девушки прыгали, ныряли, плавали, подпрыгивали, толкались, плескались…
А в это время совсем рядом, в кустах сидел Гриша, тринадцатилетний мальчуган и во все глаза смотрел на резвящихся обнаженных девушек. Он даже открыл рот от восторга. Гриша давно хотел узнать, куда девчонки ходят купаться. Его старший брат знал и нередко ходил подсматривать, а ему не говорил:
— Маленький еще!
А тут, совершенно случайно он увидел стайку девушек, направляющихся к речке. Ему удалось остаться незамеченным до того момента, пока они не скрылись в зарослях кустов. Ну, а потом, ориентируясь на голоса, Гриша смог открыть девичью тайну. Исцарапав лицо и руки, он все-таки нашел более-менее удобное место для наблюдения. И произошло это именно в тот момент, когда девушки ради подруги скинули с себя купальники. Вот тогда-то рот у него открылся и больше не закрывался.
— Варя, — позвала Соня.
— Чего? — весело спросила Варя.
— Ты только не оборачивайся и рукой не показывай. И не кричи, ладно?
— Хорошо, а что стряслось-то?
— По-моему, за нами подсматривают.
— Кто? Где? — инстинктивно закрыла грудь рукой Варя.
— Да за твоей спиной. И хватит закрываться! Если он там есть, то уже все увидел!
Варя осторожно оглянулась.
— Точно! Сидит там кто-то. Надо девочкам сказать.
— Нет, я придумала по-другому.
И Соня прошептала что-то подруге на ухо. Та выслушала, улыбнулась и кивнула головой.
— Здорово! Хорошо придумала! Ну что, пошли?
И девушки поплыли вдоль речки.
А Гриша смотрел во все глаза. Такого он не видел никогда! И увидит ли еще когда неизвестно. Поэтому он старался насмотреться на всю свою оставшуюся жизнь. Тут он краем уха услышал какой-то шорох. Резко обернулся, но было уже поздно — Соня с Варей с криком кинулись к Грише и изо всех сил толкнули его в реку. С большим фонтаном брызг Гриша плюхнулся в воду. Девушки сначала завизжали и повернулись к мальчику спиной. Но, увидев, как из кустов этакими нимфами прыгнули Соня с Варей и начали мутозить Гришу, тоже кинулись к несчастному парнишке. Через несколько минут все были на берегу. Гриша как мог уворачивался от девичьих ударов, щипков, пинков и только повторял:
— Девчонки, ну не надо, ну перестаньте девчонки…
— А давайте его разденем! — предложила та самая боевая Тома.
На этот раз предложение Томы было принято сразу. Ловкие руки девушек быстро стянули с Гриши рубаху, штаны и трусы. Затем вытолкали его к кустам. Гриша стоял, дрожал и прикрывался руками. А девушки стали поспешно одеваться.
— Девчонки, ну чего вы, отдайте штаны, девчонки, — плача просил Гриша.
— Топай, топай! — отвечали ему девушки.
— Ты на нас посмотрел, теперь пусть на тебя посмотрят!
— И не стой, и не жди!
— А штаны мы тебе домой отнесем.
— Ага! Мамке отдадим!
— Девчонки, ну отдайте штаны, — продолжал просить Гриша, шаг за шагом приближаясь к девушкам.
Потом, когда до штанов оставалось шагов пять, вдруг прыгнул и в несколько больших шагов покрыл это расстояние. Девушки с визгом бросились врассыпную, успев прихватить и одежду. Гриша стал бегать за штанами, а девочки, визжа от него. И вот эту картину увидела Светлана Николаевна, тетя Света — мама Сони. Женщина внушительных размеров и несгибаемого характера. Она быстро подбежала к Грише, на ходу сорвав пучок крапивы и сразу ожгла его по мягкому месту. Гриша взвыл.
— Это что такое? Такой сопляк, а уже за девочками бегает! Да еще голышом! Я тебе покажу, как тут безобразия учинять! Ты у меня надолго запомнишь!
И продолжала хлестать бедного кричащего мальчика крапивой. В конце концов, не выдержав ожогов, Гриша умчался прочь, не переставая кричать.
— А вы чего тут? — крикнула притихшим девочкам тетя Света, — Тоже крапивы захотели? А ну-ка марш по домам!
Девушки не стали ждать повторного приглашения и быстро просочились мимо Светланы Николаевны.
Эта история быстро проползла по деревне. И за Гришей прочно закрепилось прозвище «Голый». А когда девушки шли купаться, они всегда кричали:
— Гришенька, мы купаться идем! Пошли с нами? Место ты знаешь!
Но Гриша больше на то место ходить не осмеливался.
ВАН © 28.05.2011
| Оценка произведения: | |
| Разное: |
# 1111
Маша
Раннее летнее утро… В большой усадьбе все еще спят. Спит и Маша, молодая девушка, лишь недавно забранная в барский дом. Она примостилась на широкой лавке в углу девичьей комнаты. Ночь была душной и Маша спит, откинув лоскутное одеяло. Ее короткая рубашонка задралась, открыв круглую девичью попу, но Маша спит крепко и этого не замечает…
Солнце поднялось довольно высоко, когда Маша, наконец, проснулась. «О, Боже, — было ее первой мыслью, — мне же надо убрать у барина, пока он не проснулся!»
Вскочив с лавки и наскоро натянув сарафан, Маша кинулась в кабинет барина. Быстрее, быстрее, быстрее! Смахнув пыль, она высоко подоткнула подол и стала мыть полы. Еще немного — и она успеет! Вот только под этажеркой протереть надо… Маша стала на колени, стараясь достать до самых дальних уголков, ее подол совсем задрался.
— Та-ак! — услышала она неожиданно. — Сколько раз я говорил, чтобы это делалось раньше?
Маша дернулась, пытаясь одновременно и одернуть подол и вылезти из-под этажерки. Хрупкое сооружение покачнулось и с грохотом рухнуло. Маша с трепетом увидела, что драгоценная китайская ваза, к которой барин даже запрещал прикасаться, разбилась вдребезги.
Девушка даже не успела осознать весь ужас своего положения, как ее оглушила звонкая оплеуха, за ней — вторая…
— Ну, дрянь! — прошипел разъяренный барин. — Этот день ты запомнишь надолго!
Страх парализовал Машу, она даже не пыталась защититься, а лишь бессвязно бормотала какие-то слова, пытаясь вымолить прощение. Барин, между тем, подошел к столу и, взяв лежащий там колокольчик, яростно позвонил. Через несколько секунд в комнату вбежал управляющий. Увидев осколки вазы, он сразу склонился в поклоне, искоса посматривая на дрожащую девушку.
— Кто? Кто пустил ее сюда? — от злости барин даже заикался.
— Простите, барин, недосмотрел!
— Розги! Немедленно!
Управляющий выбежал из комнаты, а барин, не в силах успокоиться, стал расхаживать по комнате, бросая грозные взгляды на трепещущую Машу. Чтобы не оказаться на пути барина, она забилась в угол комнаты и стояла там, прикрыв лицо руками, со страхом ожидая предстоящего наказания…
Отец почти не наказывал Машу в детстве, подзатыльники от вечно усталой, замотанной матери доставались ей гораздо чаще. Ее старательность и покорность позволяли ей избегать наказаний и в барском доме. Но она хорошо запомнила, как пороли на конюшне ее подругу, надерзившую барину. Перед глазами Маши предстала отчетливая картина наказания.
Девушку заставили лечь на скамью, конюх, которому барин всегда поручал пороть провинившихся, привязал ее руки и ноги и не спеша задрал юбку вместе с рубашкой, обнажив не только зад, но и часть спины. Стоявшая вокруг скамьи дворня молча наблюдала, как конюх выбирал розги, свистя ими в воздухе. Каждый такой свист заставлял ягодицы несчастной сжиматься в ожидании удара. Наконец конюх выбрал подходящую связку и, помедлив, сильно ударил ею по беззащитной голой попе. Девушка дернулась, но промолчала. На белой коже появились три отчетливых рубца… После второго удара у жертвы вырвался стон, а когда рубцы начали накладываться друг на друга, покрывая покрасневшую кожу рельефной сеткой, девушка громко зарыдала, бессвязно моля о пощаде. Когда наказание закончилось и дрожащую девушку подняли со скамьи, Маша с ужасом увидела, что ее бедра в местах, куда попадали кончики прутьев, покрыты каплями крови…
В этот день Маша долго не могла заснуть, вспоминая свист розог, крики жертвы и невольно представляя на ее месте себя. Могла ли она думать, что совсем скоро ей предстоит пройти через такое же испытание. Нет, слава Богу, не совсем такое же — барин, судя по всему, собирается пороть ее прямо в комнате, а значит, при порке не будет дворни. Стыд от того, что ее будут обнажать в присутствии всех, казался Маше страшнее боли.
Стук двери прервал Машины невеселые мысли — конюх втащил в комнате чан, в котором мокли розги. Вслед за конюхом вошел и подобострастно склонился, ожидая приказаний, управляющий.
— Поставь это в угол, — велел барин конюху, — и ступайте оба. Я сам ее накажу.
— Пошли гонцов к соседям, передай, что я приглашаю их на вечер — прозвучало вслед уже вышедшему управляющему.
Маша даже не успела задуматься, что означают эти слова, потому что следующая фраза заставила ее густо покраснеть.
— Что стоишь? Раздевайся!
— К-как? Как раздеваться?
— Ну как? Для начала снимай сарафан, — усмехнулся барин,
Для начала? Путаясь в одежде, Маша стянула сарафан и осталась в той же коротенькой рубашке, что была на ней ночью — проспав, она не успела переодеть ее. Рубашка, которую Маша носила еще девчонкой, была совсем коротка и девушка поспешно прикрыла треугольничек светлых волос внизу живота. Наступало самое страшное!
— Иди к столу и обопрись на него!
Маша подошла к низенькому столику и, неловко нагнувшись, оперлась о него руками.
— Не так! Локтями обопрись! — последовал немедленный окрик.
Девушка поспешно согнулась. Поза была неудобной — Маше казалось, что ее барину видна не только ее выставленная попа, но и самые тайные местечки между ног. Она изо всех сил сжала бедра, пытаясь хоть частично прикрыться от бесстыдных барских взглядов.
— Ну, девка, сейчас я поучу тебя аккуратности, — сказал подошедший к ней барин.
За этими словами последовал сильный шлепок по попе, от которого Маша вздрогнула. Было не столько больно, сколько стыдно…
— Почему ты не успела убрать? Отвечай!
Каждый вопрос барина сопровождался очередным увесистым шлепком, от которого кожа горела все сильнее и сильнее.
— Что молчишь?
— Простите, барин… Ой! Я,…, я,… Ой! Я проспала!
— Проспала?
Рука барина после каждого шлепка задерживалась на ягодицах Маши, заставляя ее ежиться от стыда.
— Проспала? Ну, теперь просыпать не будешь!
— Не буду, ой, не буду… Простите!
Дергаясь от ударов, сыпавшихся все чаще и чаще, девушка с ужасом думала, что барин еще не брал розги…
Наконец, когда терпеть уже, казалось было невозможно, барин остановился. Маша с облегчением перевела дух… «Может, барин решил только попугать ее розгами?»
— Ну вот, — сказал барин, рассматривая свою покрасневшую ладонь, — а теперь разберемся с вазой…
С этими словами он подошел к чану с прутьями и стал перебирать их. Маша поняла, что ее надежды на прощение рухнули. Барин не спеша выбирал прутья, Маша ждала.
— Ты знаешь, безрукая, сколько эта ваза стоила? — спросил барин, подходя к столу. — Да за нее десять таких, как ты купить можно!
Маша молчала.
— Молчишь? Ничего, скоро подашь голосок!
Розги просвистели в воздухе и обрушились на обнаженное девичье тело. Маша с трудом сдержала стон.
— Простите, пожалуйста, простите!
— Выпорю — прощу…
Второй удар показался еще больнее.
— Я тебе покажу! Ты у меня неделю не сядешь!
Третий и последующие удары, как казалось Маше, слились в один. Разъяренный потерей вазы, барин сек Машу без всякой жалости. Ее сдержанные стоны постепенно перешли в истошные крики.
— Ай, барин! Ай, родненький! Простите! Ой, простите! Не буду, не буду, простите!
Крики становились все бессвязнее. К концу порки Маша даже перестала просить пощады и только плакала и дергалась от ударов… Когда очередного из них не последовало, Маша даже не заметила этого и некоторое время продолжала истошно рыдать.
— Чего ревешь, девка? — спросил ее довольно добродушно слегка успокоившийся барин. — Вставай.
Маша с трудом распрямилась. Боль в исстеганных ягодицах и бедрах была невыносимой, все тело ломило.
— Что скажешь?
— Простите меня, барин! Я больше не буду!
— Посмотрим… Ну ладно, сходи скажи управляющему, чтобы зашел.
Маша нагнулась за сарафаном.
— Э, нет! Так иди!
Так?! Так, в одной рубашке? И все увидят ее исстеганную голую попу? Не успев даже подумать, что она делает, Маша выкрикнула:
— Нет! Ни за что!
— Что-о-о? Да ты еще и дерзишь?! — барин потряс колокольчик.
Опомнившись, Маша упала на колени:
— Простите, простите, барин, я сама не знаю, что сказала!
— Простить? Нет уж, дерзость я из тебя выбью! — сказав это, барин повернулся к вошедшему управляющему.
— Дерзит! А отправь-ка ты ее на крапиву на часок… Во двор… А потом ко мне зайди!
— Слушаюсь, барин!
Управляющий, задержав взгляд на красном, покрытом рубцами Машином задике (она стояла на коленях спиной к двери, припав к ногам барина, все еще надеясь вымолить прощение), подошел к девушке.
— Вставай, девка, раньше надо было прощения просить.
Обезумевшая девушка не повиновалась, крепко обхватив ноги барина. После короткой борьбы управляющий разжал ее руки и, ухватив за косу, заставил встать. Только оказавшись на ногах, Маша слегка опомнилась и покорно пошла за управляющим, даже не пытаясь как-то прикрыть свое полуобнаженное тело.
Оказавшись за дверью, Маша начала молить управляющего позволить ей одеться. Не обращая внимания на девичьи мольбы, он быстро тащил ее по коридорам. Встречные с удивлением смотрели на полуобнаженную рыдающую девушку. Вот и двор. Управляющий вывел Машу на середину двора и зычно крикнул:
— Эй, Семен! Ступай-ка сюда!
На зов управляющего из сарая выскочил молодой парень, на которого Маша заглядывалась уже вторую неделю. Ей захотелось умереть — сейчас он увидит ее! При виде Маши парень и вправду опешил и смутился. Стараясь даже случайно не посмотреть на нее, он почтительно обратился к управляющему:
— Звали, Пров Савельич?
— Давай-ка, тащи козлы. Да скажи, чтобы крапивы принесли!
Семен вытащил на середину двора большие козлы, на которых обычно пилили дрова. Две молодые девки, с ужасом и сочувствием глядя на дрожащую Машу, притащили охапки крапивы и, повинуясь окрику управляющего, поминутно вскрикивая от жгучих прикосновений, обмотали ей бревно, лежащее на козлах. Маша начала понимать, что с ней собираются сделать. О таком наказании она еще не слышала…
— Снимай рубашку, девка! Доигралась! — хмуро бросил ей управляющий, предчувствуя неприятный разговор с барином.
Девушка отчаянно замотала головой.
— Ну, долго я ждать буду?
Ничего не отвечая, Маша обхватила себя руками, твердо намереваясь сопротивляться до последней возможности.
— Не дури, девка, — почти ласково сказал ей управляющий, — сейчас барин выйдет. Если он увидит, как ты кочевряжишься, будет такое, что не приведи тебе Господь. Не дури, ну!
Оглядевшись исподлобья, Маша увидела, что Семен, демонстративно не смотря в ее сторону, возится у сарая. Помедлив несколько секунд, девушка решилась — одним рывком сдернув с себя рубаху, она присела, пытаясь скрыть свою наготу.
— Ты не присаживайся, ты верхом на бревно садись! И побыстрее, а то вон Семен сейчас тебе поможет. Эй, Семен!
Окончательно примирившись со своей участью, Маша с трудом забралась на бревно. Ожог от прикосновения крапивы в высеченным ягодицами, да и к чувствительным местечкам между ног, был оглушителен. Зашипев от боли, Маша попыталась спрыгнуть с бревна, но сильные руки управляющего удержали ее. Надавив девушке на шею, он заставил ее лечь грудью на обмотанное крапивой бревно. К боли в нижней части тела прибавилась новая — крапива жгла невыносимо. Управляющий заставил Машу обхватить бревно и связал ее руки внизу. Затем он силой согнул в коленях ноги девушки и привязал ее щиколотки к поперечинам козел.
Поза Маши была предельно унизительна — согнутые ноги заставляли ее оттопырить зад, раздвинувшиеся от неудобной позы ягодицы и разведенные бедра не скрывали от присутствующих ничего. Маше, впрочем, было не до стыда — все ее силы уходили на то, чтобы лежать неподвижно: любое, даже самое незаметное движение отзывалось новыми булавочными уколами во всех частях тела, прижатых к крапиве.
Управляющий, любуясь бесстыдно обнаженным телом девушки, даже забыл, что его ждет барин. Вспомнив, наконец об этом, он с сожалением отвернулся и быстро, почти бегом, пошел в барский кабинет.
Минуты тянулись медленно… Маша лежала с закрытыми глазами, стараясь не вслушиваться в происходящее вокруг нее. Резкий шлепок по попе заставил ее вздрогнуть и открыть глаза — рядом с ней стоял барин.
— Ну что, девка? Лежишь?
Покраснев, Маша ответила:
— Да, барин, — и помедлив, добавила, — простите меня, пожалуйста…
— Простить? А ты мне еще вазу раскокаешь, безрукая?!
Разговаривая с Машей, барин не снимал руку с ее ягодиц. Вот рука двинулась ниже, вот оказалась между раздвинутых ног… Маша сжалась от невыносимого стыда, изо всех сил стараясь не шевелиться, чтобы опять не рассердить барина.
— Нет, я буду аккуратно, я буду стараться!
Барин медлил… Наконец, он убрал руку.
— Ладно! Но если еще раз провинишься — смотри!
Рука барина оказалась перед Машиными губами. В первый момент она даже не поняла, что от нее хотят…
— Целуй руку, дура! Прощает тебя барин! — подсказал ей управляющий.
Маша прижалась губами к руке. Так долго сдерживаемые слезы хлынули у нее потоком.
— Чего теперь реветь? — приговаривал управляющий, развязывая Машу, — простили тебя, а ты ревешь…
Наконец, веревки были развязаны и Маша, поспешно накинув рубашку, кинулась, не разбирая дороги в дом…
Подписывайся на пошлые истории в Телеграм — то, что не опубликуют на сайте.
Дарим промокод на 500 руб. на Яндекс.Маркете.
Всем нашим посетителям дарим промокод на 500 рублей на Яндекс.Маркете. Промокод REF_UCCSCYN действует
на первую покупку от 2500 рублей (под этим логином на Яндекс.Маркет не должно было ранее быть покупок),
если ввести его в приложении.