Вопрос № 31. В. Г. Белинский о произведениях А. С. Пушкина
В самом начале 1840-х гг. Белинский задумал написать большую книгу под названием «Теоретический и критический курс русской литературы». За другими делами этой книги он так и не написал. Вместо этого им были написаны его знаменитые статьи о Пушкине («Сочинения Александра Пушкина», статьи I—XI), которые первоначально мыслились как часть задуманной работы.
С точки зрения Белинского, появление в русской литературе Пушкина было подготовлено всем ее предшествующим развитием. Историческое рассмотрение поэзии Пушкина — это у Белинского основной принцип. И это большая заслуга Белинского, потому что этот принцип в изучении литературы самый убедительный и единственно научный. Белинский сказал: «Еще раз: до Пушкина были у нас поэты, но не было ни одного поэта-художника; Пушкин был первым русским поэтом-художником. Поэтому даже самые первые незрелые юношеские его произведения, каковы: «Руслан и Людмила», «Братья разбойники», «Кавказский пленник» и «Бахчисарайский фонтан», отметили своим появлением новую эпоху в истории русской поэзии. Все, не только образованные, даже многие просто грамотные люди, увидели в них не просто новые поэтические произведения, но совершенно новую поэзию, которой они не знали на русском языке не только образца, но на которую они не видали никогда даже намека».
Белинский сказал: «Пушкину не нужно было ездить в Италию за картинами прекрасной природы: прекрасная природа была у него под рукою здесь, на Руси, на ее плоских и однообразных степях, под ее вечно серым небом, в ее печальных деревнях и ее богатых и бедных городах. Что для прежних поэтов было низко, то для Пушкина было благородно; что для них была проза, то для него была поэзия. Осень для него лучше весны или лета, и, читая эти стихи, вы не можете не согласиться с ним, по крайней мере на то время, пока не увидите его же картины весны или лета:
Дни поздней осени бранят обыкновенно;
Но мне она мила, читатель дорогой:
Красою тихою, блистающей смиренно,
Как нелюбимое дитя в семье родной,
К себе меня влечет. Сказать вам откровенно:
Из годовых времен я рад лишь ей одной.
Русская зима лучше русского лета — этой карикатуры южных зим, она похожа на самое себя. Пушкин первый понял это и первый выразил. Его зима облита блеском роскошной поэзии:
Мороз и солнце; день чудесный!
…
А нынче… погляди в окно:
Под голубыми небесами
Великолепными коврами,
Блестя на солнце, снег лежит;
Прозрачный лес один чернеет,
И ель сквозь пней зеленеет,
И речка подо льдом блестит.
Поэзия Пушкина удивительно верна русской действительности, изображает ли она русскую природу или русские характеры: на этом основании общий голос нарек его русским национальным, народным поэтом… Под «народом» всегда разумеют массу народонаселения, самый низший и основный слой государства. Под «нациею» разумеют весь народ, все сословия, от низшего до высшего, составляющие государственное тело.
Талант Пушкина не был ограничен тесною сферою одного какого-нибудь рода поэзии: превосходный лирик, он уже готов был сделаться превосходным драматургом, как внезапная смерть остановила его развитие. Эпическая поэзия также была свойственным его таланту родом поэзии.
Пушкина некогда сравнивали с Байроном. Мы уже не раз замечали, что это сравнение более чем ложно, ибо трудно найти двух поэтов столь противоположных по своей натуре, а следовательно, и по пафосу своей поэзии, как Байрон и Пушкин. Общий колорит поэзии Пушкина и в особенности лирической — внутренняя красота человека и лелеющая душу гуманность. Поэзия его чужда всего фантастического, мечтательного, ложного, призрачно-идеального; она вся проникнута насквозь действительностью.
Некоторые из сочинений так резко ослепительны, что их способен понимать всякой; но зато большая часть из них, и притом самых лучших, кажется обыкновенною для многочисленной толпы. Чтоб быть способну понимать их, нужно иметь слишком тонкое обоняние; нужен вкус выше того, который может понимать только одни слишком резкие и крупные черты.
СТАТЬЯ СЕДЬМАЯ (Поэмы: «Цыганы»)
Когда любовь с которой-нибудь стороны кончилась, вместе жить нельзя: ибо тот не понимает любви и ее требований и за любовь принимает грубую, животную чувственность, кто способен пользоваться ее правами от предмета, хотя бы и любимого, но уже не любящего. Такая «любовь» бывает только в браках, потому что брак есть обязательство, — и, может быть, оно так там и нужно; но в любви такие отношения суть оскорбление и профанация не только любви, но и человеческого достоинства. Все такие случаи невозможны для человека нравственно развитого. Одно образование делает вас человеком ученым, другое — человеком светским, третье — административным, военным, политическим и т. д.; но нравственное образование делает вас просто «человеком», то есть существом, отражающим на себе отблеск божественности и потому высоко стоящим над миром животным.
Действительно, по понятиям, искаженно перешедшим к нам от средних веков, мужчине надо кровью смыть подобное бесчестие и, как говорит Алеко, хищнику и ей, коварной, вонзить кинжал в сердце, а женщине прибегнуть к яду или к слезам и безмолвной тоске; но не должно забывать, что то, что могло иметь смысл в варварские средние века, — в наше просвещенное время уже не имеет никакого смысла.
Вот почему не смех, а смешанное с ужасом отвращение возбуждают слова Алеко в ответ на простодушный, трогательный и поэтический рассказ старого цыгана о Мариуле:
Да как же ты не поспешил
Тотчас во след неблагодарной,
И хищникам и ей, коварной,
Кинжала в сердце не вонзил?
Итак, вот он — страдалец за униженное человеческое достоинство, человек, который презрел предрассудки образованной общественности и нашел счастие в цыганском таборе!.. Турок в душе, он считал себя впереди целой Европы на пути к цивилизованному уважению прав личности!.. И как велик, как истинно (то есть внутренне, духовно) свободен пред ним старый цыган, этот сын природы, бедности, не знающий в простоте сердца никаких теорий нравственности! Сколько поэзии и истины в его кротком, благодушном ответе Алеко:
К чему? вольнее птицы младость.
Кто в силах удержать любовь?
Чредою всем дается радость:
Что было, то не будет вновь!
Ответ Алеко на эти полные любви и правдивости слова старого цыгана окончательно и вполне раскрывает тайну его характера:
Я не таков. Нет, я, не споря,
От прав моих не откажусь;
Пли хоть мщеньем наслажусь.
«Эта женщина (так рассуждает эгоизм Алеко) отдалась мне, и я счастлив ее любовью, следовательно, я имею на нее вечное и ненарушимое право, как на мою рабу, на мою вещь. Она изменила — и я не могу уже быть счастлив ее любовью: она должна упоить меня сладостью мщения. Эгоизм изворотлив, как хамелеон.
Эпилог осуждения заслуживает. В нем рефлексия поэта взяла на минуту верх над непосредственностью творчества:
Но счастья нет и между вами,
Природы бедные сыны!
И под надранными шатрами
Живут мучительные сны.
И паши сени кочевые
В пустынях не спаслись от бед,
И всюду страсти роковые,
И от судеб защиты нет.
К чему тут судьбы и к чему толки о том, что счастья нет и между бедными детьми природы? Несчастие принесено к ним сыном цивилизации, а не родилось между ними и через них же.
Может быть, иным покажется недостатком в «Цыганах» то, что в этой поэме дикий цыган, так сказать, пристыжает высотою своих созерцаний и чувствований понятия сына цивилизации и таким образом заставляет нас видеть идеал нравственно просветленного человека в бродящем дикаре. Это несправедливо. Алеко есть одно из явлении цивилизации, но отнюдь не полный ее представитель.
«Цыганы» были первым усилием, первою попыткою Пушкина создать что-нибудь важное и зрелое как по идее, так и по исполнению. Мы показали, до какой степени удалось ему это: «Цыганы» оставили далеко за собою все написанное им прежде, обнаружив в поэте великие силы.
Анализ романа «Евгений Онегин»
В своих статьях (всего их одиннадцать) Белинский разбирает и лирику Пушкина, и его поэмы, и драмы, и роман «Евгений Онегин». Разбору последнего, как мы знаем, посвящены восьмая и девятая статьи. Многие суждения Белинского мы принимаем за истину, потому что они умны, глубоки, убедительны.
Вспомним суждения Белинского о романе. «Онегин»,— пишет критик,— есть самое задушевное произведение Пушкина, самое любимое дитя его фантазии, и можно указать слишком на немногие творения, в которых личность поэта отразилась бы с такою полнотою, светло и ясно, как отразилась в «Онегине» личность Пушкина». Это сказано точно — и при том о самом главном. «Здесь,— пишет Белинский,— вся жизнь, вся душа, вся любовь его: здесь его чувства, понятия, идеалы».
В нашу память и сознание прочно вошли характеристики, которые дал Белинский Онегину, Ленскому, Ольге. Конечно, с чем-то мы можем не согласиться в высказываниях Белинского. Не все из нас, например, согласны с мрачным взглядом Белинского на будущее таких людей, как Ленский. Едва ли мы примем осуждение Белинским поведения Татьяны в конце романа. Но и тогда, когда мы не соглашаемся с Белинским, его мысль не проходит для нас бесследно. Слова и мысли Белинского, в силу их резкой оригинальности и искренности, никогда не оставляют нас равнодушными. Они будоражат нас, заставляют в свою очередь мыслить — и мыслить обязательно по-своему.
Говоря о романе в целом Белинский отмечает его историзм в воспроизведённой картине русского общества. «Евгений Онегин», считает критик, есть поэма историческая, хотя в числе её героев нет ни одного исторического лица.
Далее Белинский называет народность романа. В романе «Евгений Онегин» народности больше, нежели в каком угодно другом народном русском сочинении… Если её не все признают национальною- то это потому, что у нас издавна укоренилось престранное мнение, будто бы русский во фраке или русская в корсете уже не русские и что русский дух даёт себя чувствовать только там, где есть зипун, лапти, сивуха и кислая капуста. «Тайна национальности каждого народа заключается не в его одежде и кухне, а в его, так сказать, манере понимать вещи».
Критик указывает на реализм «Евгения Онегина»: «Пушкин взял эту жизнь, как она есть, не отвлекая от нее только одних поэт. ее мгновений; взял ее со всем холодом, со всею ее прозою и пошло-стию. «Онегин» есть поэтически верная действительности картина рус. общества в известную эпоху».
В статье о романе Пушкина Белинский дал всестороннюю оценку и содержания, и формы произведения. Главное достоинство романа критик видит в широте, глубине и правдивости изображения в нём русской действительности. Белинский отметил: «Онегина» можно назвать энциклопедией русской жизни и в высшей степени народным произведением. Удивительно ли, что эта поэма была принята с таким восторгом публикою и имела такое огромное влияние и на современную ей и на последующую русскую литературу? А ее влияние на нравы общества? Она была актом сознания для русского общества».
Роль романа в истории русской литературы, на взгляд Белинского, огромна: «Без «Онегина»,— утверждает Белинский,— был бы невозможен «Герой нашего времени», так же как без «Онегина» и «Горя от ума» Гоголь не почувствовал бы себя готовым на изображение русской действительности, исполненное такой глубины и истины».
Особо останавливается Белинский на главных действующих лицах пушкинского романа. По Белинскому, в романе не один, а два центральных героя — Онегин и Татьяна. О них-то Белинский и говорит самым подробным образом.
Онегин
«Большая часть публики совершенно отрицала в Онегине душу и сердце, видела в нем человека холодного, сухого и эгоиста по натуре. Нельзя ошибочнее и кривее понять человека!.. Светская жизнь не убила в Онегине чувства, а только охолодила к бесплодным страстям и мелочным развлечениям… Онегин не любил расплываться в мечтах, больше чувствовал, нежели говорил, и не всякому открывался. Озлобленный ум есть тоже признак высшей натуры, потому только людьми, но и самим собою».
Онегин – добрый малый, но при этом недюжинный человек. Он не годится в гении, не лезет в великие люди, но бездеятельность и пошлость жизни душат его. Онегин – страдающий эгоист… Его можно назвать эгоистом поневоле, считает Белинский, в его эгоизме должно видеть то, что древние называли рок, судьба.
Онегин для него — «страдающий эгоист», «эгоист поневоле», и он очень типичен для русской жизни. Он — «не демон, не пародия, не модная причуда, не гений, не великий человек, а просто — «добрый малый, как вы да я, как целый свет».
|
План |
Тезисы |
Конспект |
|
1. Можно ли Онегина называть холодным, сухим эгоистом? |
1. Онегин не холодный и сухой эгоист, а недюжинный человек, которого душит бездеятельность и пошлость окружающей жизни, определяемой некоторыми «неотрази-мыми и не от нашей воли зависящими обстоятель-ствами». |
1. Большая часть публики увидела в Онегине холодного, сухого эгоиста. Нельзя ошибочнее понять человека. Светская жизнь не убила чувства в Онегине, а охладила его страсть к мелочным развлечениям. Онегин не великий человек, не гений. Он «добрый малый», но при этом недюжинный человек. Его давит бездеятельность и пошлость окружающей жизни, которой вполне удовлетворена самолюбивая посредственность. Натура Онегина слишком хороша, если её не убило такое воспитание. Надежда Онегина на обновление в тиши уединения не оправдалась, так как перемена мест не изменяет «сущности некоторых неотразимых и не от нашей воли зависящих обстоятельств». |
|
2. Почему Онегин не отдался полезной дея-тельности? |
2. Онегина можно назвать эгоистом поневоле. Он не мог отдаться полезной деятельности, т.к. находился в обществе таких людей, которые отрицали необходимость её. |
2. Онегин — страдающий эгоист, эгоист поневоле. Он не мог отдаться полезной общественной деятельности, так как находился в обществе таких людей, которые отрицали необходимость её, преследовали общественных деятелей. Облегчение участи своих крепостных, проведённое Онегиным, много значило для них, но для самого Онегина не казалось важным и великим делом. |
Ленский
В Ленском Пушкин изобразил характер, совершенно противоположный характеру Онегина, считает критик, характер совершенно отвлеченный, совершенно чуждый действительности. Это было, по мнению критика, совершенно новое явление.
Ленский был романтик и по натуре и по духу времени. Но в то же время «он сердцем милый был невежда», вечно толкуя о жизни, никогда не знал ее. «Действительность на него не имела влияния: его и печали были созданием его фантазии», — пишет Белинский. Он полюбил Ольгу, и украсил ее достоинствами и совершенствами, приписал ей чувства, и мысли которых у ней не было и о которых она и не заботилась.
Ольга
«Ольга была очаровательна, как все «барышни», пока они еще не сделались «барынями»; а Ленский видел в ней фею, сельфиду, романтическую мечту, нимало не подозревая будущей барыни»,- пишет критик
Люди, подобные Ленскому, при всех их неоспоримых достоинствах, нехороши тем, что они или перерождаются в совершенных филистеров, или, если сохранят навсегда свой первоначальный тип, делаются этими устарелыми мистиками и мечтателями, которые так же неприятны, как и старые идеальные девы, и которые больше враги всякого прогресса, нежели люди просто, без претензий, пошлые. Словом, это теперь, самые несносные пустые и пошлые люди.
Высоко оценивает Белинский характер Татьяны, ее природные, качества и возможности. Пушкин, говорит Белинский, «первый поэтически воспроизвел, в лице Татьяны, русскую женщину». И при этом женщину замечательную, глубокую, прекрасную. «Татьяна,— пишет Белинский,— это редкий, прекрасный цветок, случайно выросший в расселине дикой скалы». И к этому добавляет: «Татьяна… натура глубокая, любящая, страстная».
Свою характеристику романа Белинский кончает прекрасными и пророческими словами: «Пусть идет время и приводит с собою новые потребности, новые идеи, пусть растет русское общество и обгоняет «Онегина»; как бы далеко оно ни ушло, но всегда будет оно любить эту поэму, всегда будет останавливать на ней исполненный любви и благодарности взор…»
Татьяна
Татьяна, по мнению Белинского, — существо исключительное, натура глубокая, любящая, страстная. Любовь для нее могла быть или величайшим блаженством, или величайшим бедствием жизни, без всякой примирительной середины. При счастии взаимности любовь такой женщины — ровное, светлое пламя; в противном случае – упорное пламя, которому сила воли, может быть, не позволит прорваться наружу, но которое тем разрушительнее и жгучее, чем больше оно сдавлено внутри. Счастливая жена, Татьяна спокойно, но тем не менее страстно и глубоко любила бы своего мужа, вполне пожертвовала бы собою детям, но не по рассудку, а опять по страсти, и в этой жертве, в строгом выполнении своих обязанностей нашла бы свое величайшее наслаждение, свое верховное блаженство «Это дивное соединение грубых, вульгарных предрассудков с страстию к французским книжкам и с уважением к глубокому творению Мартына Задеки возможно только в русской женщине. Весь внутренний мир Татьяны заключался в жажде любви, ничто другое не говорило ее душе, ум ее спал…»,- писал критик.
По мнению Белинского, для Татьяны не существовал настоящий Онегин, которого она не могла ни понимать, ни знать, потому что она и саму себя так же мало понимала и знала, как и Онегина.
«Татьяна не могла полюбить Ленского и еще менее могла полю бить кого-нибудь из известных ей мужчин: она так хорошо их знала, и они так мало представляли пищи ее экзальтированному, аскетическому воображению… »,- сообщает Белинский.
«Есть существа, у которых фантазия имеет гораздо более влияния на сердце… Татьяна была из таких существ»,- утверждает критик.
После дуэли, отъезда Онегина и посещения Татьяной комнаты Онегина «она поняла наконец, что есть для человека интересы, есть страдания и скорби, кроме интереса страданий и скорби любви… И поэтому книжное знакомство с этим новым миром скорбей если и было для Татьяны откровением, эго откровение произвело на нее тяжелое, безотрадное и бесплодное впечатление. Посещения дома Онегина и чтение его книг приготовили Татьяну к перерождению из деревенской девушки в светскую даму, которое так удивило и поразило Онегина». «Татьяна не любит света и за счастие почла бы навсегда оставить его для деревни; но пока она в свете — его мнение всегда будет её идолом и страх его суда всегда будет ее добродетелью… Но я другому отдана, — именно отдана, а не отдалась! Вечная верность таким отношениям, которые составляют профанацию чувства и чистоты женственности, потому что некоторые отношения, не освящаемые любовью, в высшей степени безнравственны… Но у нас как-то все это клеится вместе: поэзия — и жизнь, любовь — и брак по расчету, жизнь сердцем — и строгое исполнение внешних обязанностей, внутренне ежечасно нарушаемых. женщина не может презирать общественного мнения, но может жертвовать им скромно, без фраз, без самохвальства, понимая всю великость своей жертвы, всю тягость проклятия, которое она берет на себя»,- пишет Белинский.
3
- Главная
- Биография
- Произведения
- Критика
- Рефераты
- Контакты
Источник:
В. Г. Белинский.
Сочинения Александра Пушкина — Статья шестая
Нельзя ни с чем сравнить восторга и негодования, возбужденных первою
поэмою Пушкина — «Руслан и Людмила». Слишком немногим гениальным творениям
удавалось производить столько шума, сколько произвела эта детская и
нисколько не гениальная поэма. {355} Поборники нового увидели в ней
колоссальное произведение, и долго после того величали они Пушкина забавным
титлом _певца Руслана и Людмилы_. Представители другой крайности, слепые
поклонники старины, почтенные колпаки, были оскорблены и приведены в ярость
появлением «Руслана и Людмилы». Они увидели в ней все, чего в ней нет — чуть
не безбожие, и не увидели в ней ничего из того, что именно есть в ней, то
есть хороших, звучных стихов, ума, эстетического вкуса и, местами,
проблесков поэзии. Перелистуйте от скуки журналы 1820 года, — и вы с трудом
поверите, что все это писалось и читалось не более как каких-нибудь двадцать
четыре года назад… И это относится не к одним порицательным, но и к
хвалительным статьям, которыми наводнились журналы того времени вследствие
появления «Руслана и Людмилы». Впрочем, подобное явление столько же понятно,
сколько естественно и обыкновенно. Люди, которым не дано способности
углубляться в сущность вещей, разделяются на староверов и на верхоглядов.
Первые стоят за старое и следуют мудрому правилу: _все старое хорошо, потому
что оно — старое, а все новое дурно, потому что оно — новое_; вторые стоят
за новое и следуют мудрому правилу: _все новое хорошо, потому что оно —
новое, а все старое дурно, потому что оно — старое_. Несмотря на всю
противоположность этих двух партий, они очень похожи одна на другую, потому
что источник их воззрения, при всем своем различии, один и тот же: это —
нравственная слепота, препятствующая видеть сущность предмета. Староверы,
как люди всегда дряхлые, если не годами, то душою, управляются привычкою,
которая заменяет им размышление и избавляет их от всякой умственной работы.
Привыкнув с молодости слышать, что такой-то писатель велик, они не заботятся
узнать, почему он велик и точно ли он велик, и готовы считать безбожником
всякого, кто осмелился бы усомниться в величии этого писателя. Таким-то
образом, до появления Пушкина, у наших словесников слыли за великих
писателей Кантемир, Ломоносов, Сумароков, Державин, Петров, Херасков,
Богданович, — и в их глазах Державин по тому же самому был велик, почему и
Сумароков с Херасковым, то есть по неоспоримому праву давности, а совсем не
потому, чтоб они умели чувствовать и постигать красоты его поэзии. У кого
есть эстетический вкус и кто способен находить красоты в Державине, тот уже
не может восхищаться Сумароковым, Херасковым или Петровым, — а словесники, о
которых мы говорим, равно благоговели перед Сумароковым и Херасковым, как и
перед Державиным; Ломоносова же считали одни наравне с Державиным, другие
ставили выше Державина, а третьи оставались в недоумении, кому из них отдать
пальму первенства. Ясный знак, что всеми этими мнениями управляла привычка,
одна привычка, и больше ничего… Каково же было дожить этим старым детям
привычки до такого страшного поругания, когда общий голос публики нарек
_знаменитым_ поэтом какого-то _Александра Пушкина_, который, по метрическим
книгам, жил на свете не более двадцати одного года! К вящему соблазну,
реченный Пушкин осмелился писать так, как до него никто не писал на Руси,
возымел неслыханную дерзость, или паче отъявленное буйство — итти своим
собственным путем, не взяв себе за образец ни одного из законодателей
парнасских, великих поэтов иностранных и российских, каковы: Гомер, Пиндар,
Виргилий, Гораций, Овидий, Тасс, Мильтон, Корнель, Расин, Буало, Ломоносов,
Сумароков, Державин, Петров, Херасков, Дмитриев и прочие. А известно и
ведомо было в те времена каждому, даже и не учившемуся в семинарии, что
талант без подражания гениям, утвержденным давностию, гибнет втуне жертвою
собственного своевольства. Сам Жуковский, хотя он и крепко насолил
словесникам своими балладами и своим романтизмом, сам Жуковский держался
Шиллера; а Батюшков именно потому и был отличным поэтом, что подражал Парни
и Мильвуа, которые, вместе взятые, не годились ему и в парнасские
камердинеры… По всем этим резонам долой Пушкина! Или _он_, или _мы_, а
вместе с ним нам тесно на земле!.. И это продолжалось не менее десяти лет
сряду. Однакож Пушкин устоял, — и теперь разве только какие-нибудь
литературные аномалии, которых одно имя возбуждает смех, вопиют еще нередко
против законности прав Пушкина на титло великого поэта; но они
противопоставляют ему уже не Сумарокова с Херасковым, а своих собственных,
нарочно для этого случая испеченных гениев, которые
…немножечко дерут,
Зато уж в рот хмельного не берут,
И все с прекрасным поведеньем, {356}
Так всегда время побеждает предрассудки людей, и на их развалинах
восстановляет победоносное знамя истины; но тем не менее для будущего
времени всегда остается та же работа. В продолжение почти пятнадцати лет все
_привыкли_ к имени Пушкина и к его славе, а потому все и _поверили_,
наконец, что Пушкин — великий поэт. Но от этого дело не исправилось для
будущих поэтов, и их всегда будут принимать не с одними кликами восторга, но
и с свистками и с каменьями, до тех пор пока не _привыкнут_ к их именам и их
славе. Разве теперь не то же самое сбывается на наших глазах с Гоголем и
Лермонтовым, что было с Пушкиным? Есть люди, которые, по какому-то
внутреннему бессознательному побуждению, с жадностию читают каждое новое
произведение Гоголя и чуть не наизусть знают все прежние его сочинения, а
между тем приходят в непритворное негодование, если при них Гоголя называют
великим поэтом… Подождите еще несколько — _привыкнут_, и тогда — горе
человеку, который сделает хотя бы дельное замечание не в пользу Гоголя…
Такова уж натура этих людей! Они кланяются только победителю и признают
власть только того, кого боятся…
Но не лучше староверов и верхогляды, которые рукоплещут только
торжеству настоящей минуты и не хотят знать о заслуге, которую сами же
прославляли за несколько дней перед тем. Для них хорошо только новое, и в
литературе они видят только моду. Новый водевиль, пустой и ничтожный, как
все водевили, для них важнее и «Бориса Годунова» Пушкина, и «Горя от ума»
Грибоедова, и «Ревизора» Гоголя. Они совсем не то, что люди движения,
которые в своей крайности, восторгаясь новым литературным явлением, отрицают
всякую заслугу со стороны прежних писателей. Нет, верхогляды совсем не
фанатики; они не отрицают важности старых писателей и старых сочинений, а
просто не хотят их знать; старо же для них все, что появилось хотя за день
до какой-нибудь пошлости, занявшей их сегодня. Каждый из них знает по именам
всех замечательных русских поэтов, но ни один из них не читал ни Ломоносова,
ни Державина, ни Карамзина, ни Дмитриева, ни Озерова. Они читают только
современное, новое, хотя бы оно состояло из сущих пустяков.
Мы не говорим здесь о тех приверженцах старины, которые отстаивают
старое против нового по привязанности к школе, к принципам, в которых
воспитывались. В людях этого разряда много смешного и жалкого, но много и
достойного любви и уважения. Это не дети привычки, о которых мы говорили
выше; это — дети известной доктрины, известного учения, известной мысли.
Равным образом, и противоположные им поклонники нового, как новой мысли,
нового созерцания, нового духа, заслуживают любовь и уважение, несмотря на
их крайности и смешные, односторонние убеждения. Фанатизм не есть истина, но
без фанатизма нет стремления к истине. Фанатизм — болезнь; но ведь болезнь
есть принадлежность только живого, а не мертвого: камень или труп не знают
болезни…
Причиною энтузиазма, возбужденного «Русланом и Людмилою», было,
конечно, и предчувствие нового мира творчества, который открывал Пушкин
всеми своими первыми произведениями; но еще более это было просто обольщение
невиданною дотоле новинкою. Как бы то ни было, но нельзя не понять и не
одобрить такого восторга; русская литература не представляла ничего
подобного «Руслану и Людмиле». В этой поэме все было ново: и стих, и поэзия,
и шутка, и сказочный характер вместе с серьезными картинами. Но бешеного
негодования, возбужденного сказкою Пушкина, нельзя было бы совсем понять,
если б мы не знали о существовании староверов, детей привычки. На что
озлились они? На несколько вольные картины в эротическом духе? Но они давно
уже знакомы были с ними чрез Державина и в особенности чрез Богдановича…
Притом же они никогда не ставили этих вольностей в вину, например, Ариосту,
Парни, несмотря на то, что _вольности_ в «Руслане и Людмиле» — сама
скромность, само целомудрие в сравнении с вольностями этих писателей. Это
были писатели старые; к их славе давно уже все привыкли, а потому им было
позволено то, о чем не позволялось и думать молодому поэту. Забавнее всего,
что «Душенька» Богдановича была признаваема староверами за произведение
классическое, то есть такое, которое уже выдержало пробу времени и высокое
достоинство которого уже не подвержено никакому сомнению. Судя по этому,
им-то бы и надобно было особенно восхититься поэмою Пушкина, которая во всех
отношениях была неизмеримо выше «Душеньки» Богдановича. Стих Богдановича
прозаичен, вял, водян, язык обветшалый и, сверх того, до-нельзя искаженный
так называвшимися тогда «пиитическими вольностями»; поэзии почти нисколько;
картины бледны, сухи. Словом, несмотря на всю незначительность «Руслана и
Людмилы» как художественного произведения, смешно было бы доказывать
неизмеримое превосходство этой поэмы перед «Душенькою». Сверх того, она
навеяна была на Пушкина Ариостом, и русского в ней, кроме имен, нет ничего;
романтизма, столь ненавистного тогдашним словесникам, в ней тоже нет ни
искорки; романтизм даже осмеян в ней, и очень мило и остроумно, в забавной,
выходке против «Двенадцати спящих дев». Короче: поэма Пушкина должна была бы
составить торжество псевдоклассической партии того времени. Но не тут-то
было! При втором издании «Руслана и Людмилы», вышедшем в 1828 году,
припечатано несколько ругательных статей на эту поэму, написанных в 1820
году; перечтите их — и вы не поверите глазам своим! Для образчика таких
критик выписываем отрывок одной из них, напечатанной в «Вестнике Европы»
1820 года (т. CXI, стр. 216-220) {357} по случаю помещенного в «Сыне
отечества» отрывка из «Руслана и Людмилы», еще до появления этой поэмы
вполне:
«Теперь прошу обратить ваше внимание на новый, ужасный предмет,
который, как у Камоэнса Мыс бурь, выходит из недр морских и показывается
посереди368 Океана российской словесности. Пожалуйте, напечатайте же мое
письмо: быть может, люди, которые грозят нашему терпению новым бедствием,
опомнятся, рассмеются — и остановят намерение сделаться изобретателями
нового рода русских сочинений.
Дело вот в чем: вам известно, что мы от предков получили небольшое
бедное наследство литературы, т. е. _сказки_ и _песни_ народные. Что об них
сказать? Если мы бережем старинные монеты, даже самые безобразные, то не
должны ли тщательно хранить и остатки словесности наших предков? Без всякого
сомнения! Мы любим воспоминать все относящееся к нашему младенчеству, к тому
счастливому времени детства, когда какая-нибудь песня или сказка служила нам
невинною забавой и составляла все богатство познаний. Видите сами, что я не
прочь от собирания и изыскания русских сказок и песен; но когда узнал я, что
наши словесники приняли старинные песни совсем с другой стороны, громко
закричали о величии, плавности, силе, красотах, богатстве наших старинных
песен, начали переводить их на немецкий язык и наконец так влюбились в
_сказки_ и _песни_, что в стихотворениях XIX века заблистали _Ерусланы_ и
_Бовы_ на новый манер, то я вам слуга покорный!
Чего доброго ждать от повторения более жалких, нежели смешных
лепетаний?.. чего ждать, когда наши поэты начинают пародировать _Киршу
Данилова_?
Возможно ли просвещенному или хоть немного сведущему человеку терпеть,
когда ему предлагают новую поэму, писанную в подражание _Еруслану
Лазаревичу_? Извольте же заглянуть в 15 и 16 ЌЌ _Сына отечества_. Там
неизвестный пиит на образчик выставляет нам отрывок из поэмы своей: _Людмила
и Руслан_ (не Еруслан ли?). Не знаю, чт_о_ будет содержать целая поэма, но
образчик хоть кого выведет из терпения. Пиит оживляет _мужичка сам с ноготь,
а борода с локоть_, придает еще ему бесконечные усы («Сын отечества», стр.
121), показывает нам ведьму, шапочку-невидимку и проч. Но вот чт_о_ всего
драгоценнее: Руслан наезжает в поле на побитую рать, видит богатырскую
голову, под которой лежит меч-кладенец; голова с ним разглагольствует,
сражается… Живо помню, как все это, бывало, я слушал от няньки моей;
теперь на старости сподобился вновь то же услышать от поэтов нынешнего
времени… Для большей точности или чтобы лучше выразить всю прелесть
_старинного_ нашего песнословия, поэт и в выражениях уподобился Ерусланову
рассказчику, например:
…шутите вы со мною —
Всех _удавлю_ вас бородою!..
Каково?
Объехал голову кругом
И стал _пред носом_ молчаливо,
_Щекотит_ ноздри копнем…
Картина, достойная Кирши Данилова! Далее чихнула голова, а за него и
эхо _чихает_… Вот что говорит рыцарь:
Я еду, еду, не свищу,
А как наеду, не спущу…
Потом рыцарь ударяет голову в _щеку_ тяжелой _рукавицей_… Но увольте
меня от подробного описания и позвольте спросить: если бы в Московское
благородное собрание как-нибудь втерся (предполагаю невозможное возможным)
гость с бородою, в армяке, в лаптях и закричал бы зычным голосом: _здорово,
ребята_! Неужели бы стали таким проказником любоваться! Бога ради, позвольте
мне, старику, сказать публике, посредством вашего журнала, чтобы она каждый
раз жмурила глаза при появлении подобных странностей. Зачем допускать, чтобы
плоские шутки старины снова появлялись между нами? Шутка грубая,
неодобряемая вкусом просвещенным, отвратительна, а нимало не смешна и не
забавна. Dixi. {Я сказал. — Ред.}
Житель Бутырской слободы».
Итак, ясно, что _бутырского_ критика оскорбил прежде всего сказочный
характер поэмы _неизвестного пииты_, то есть Пушкина. Но какой же, если не
сказочный, характер Ариостова «Orlando furioso» {«Неистового Роланда». —
Ред.}? Правда, рыцарский сказочный мир заключает в себе несравненно больше
поэзии и занимательности, чем бедный мир русских сказок; но что касается до
сказочных нелепостей, столь оскорбивших вкус бутырского критика, — их
довольно в поэме Ариоста, и они, право, стоят _мужика сам с ноготь, а борода
с локоть_ или головы богатыря. Но то, видите ли, Ариост, писатель
классический, которого слава уже утверждена была с лишком двумя столетиями:
стало быть, к нему и к его славе уже _привыкли_… Вольно же было Пушкину
сочинить новую поэму, которой не было еще и года от роду, как ее уж в пух
разругали… Притом же Ариоста сам Вольтер объявил _величайшим из новейших
поэтов_; стало быть, после такого авторитета, как авторитет Вольтера, смело
можно было хвалить Ариоста, не боясь попасться впросак. Ведь литературные
авторитеты, подобно Корану, на то и существуют, чтоб люди могли быть умны
без ума, сведущи без учения, знающи без труда и размышления и безошибочно
правы без помощи Здравого смысла. Вот другое дело, если б кто из признанных
авторитетов, например, Ломоносов или Поповский, могли объявить свое мнение в
пользу «Руслана и Людмилы», — тогда все единодушно признали бы эту сказку
гениальным произведением! Хорошая порука — важное дело, и чужой ум — всегда
спасение для тех, у кого нет своего… Что бутырский критик нашел пошлыми не
только выражения: _удавить бородою, стать перед носом, щекотать ноздри
копнем и еду, не свищу, а наеду, не спущу_, но и _умирающий луч солнца_
{359} это опять происходило от привычки к облизанным прозаическим общим
местам предшествовавшей Пушкину поэзии и от непривычки к благородной
простоте и близости к натуре. Все привычка! Один бутырский критик до того
ожесточился против «Руслана и Людмилы», что рифмы _языком_ и _копием_ назвал
_мужицкими_… Видите ли: строго придирались даже к версификации Пушкина
они, эти безусловные поклонники всех русских поэтов до Пушкина, которые изо
всех сил и со всевозможным усердием уродовали русский язык незаконными
усечениями, насилием грамматики и разными «пиитическими вольностями». Каков
бы ни был стих в «Руслане и Людмиле», но, в сравнении со стихом «Душеньки»
Богдановича, сказок Дмитриева, «Странствователя и домоседа» Батюшкова и даже
«Двенадцати спящих дев» Жуковского, он — само изящество, сама поэзия.
Оскорбленная привычка этого не замечала, а если замечала, то для того
только, чтоб, по излишней привязчивости, ставить молодому поэту в
непростительную вину то, что считала чуть не достоинством в старых. Как
человек с огромным талантом, эту привязчивость возбудил к себе и Грибоедов.
При «Вестнике Европы» один бутырский критик состоял в должности явного зоила
всех новых ярких талантов; поэтому «Горе от ума» возбудило всю желчь его.
Там, между прочим, было сказано по поводу отрывка из «Горя от ума»,
помещенного в альманахе «Талия»: «Смеем надеяться, что все, читавшие
отрывок, позволят нам, от лица всех, просить г. Грибоедова издать всю
комедию». Бутырский критик «Вестника Европы», указав на эти слова,
восклицает: «Напротив, лучше попросить автора не издавать ее, пока не
переменит главного характера и не исправит слога» («Вестник Европы», 1825, Ќ
6, стр. 115). Мы указываем на все эти диковинки, разумеется, не для того,
чтоб доказать их чудовищную нелепость: игра не стоила бы свеч, да и смешно
было бы снова позывать к суду людей, и без того уже давно проигравших тяжбу
во всех инстанциях здравого смысла и вкуса. Нет, мы хотели только
охарактеризовать время и нравы, которые застал Пушкин на Руси при своем
появлении на поэтическом поприще, а вместе с тем и показать, какую роль
чудовище-привычка играет там, где бы должны были играть роль только ум и
вкус. Оставим же в стороне эти допотопные ископаемые древности,
заключающиеся в затверделых пластах «Вестника Европы», и обратимся к
«Руслану и Людмиле».
Бутырские критики, как мы видели, особенно оскорбились в «Руслане и
Людмиле» тем, что показалось им в этой поэме колоритом местности и
современности в отношении к ее содержанию. Но именно этого-то совсем и нет в
сказке Пушкина: она столько же русская, сколько и немецкая или китайская.
Кирша Данилов не виноват в ней ни душою, ни телом, ибо в самой худшей из
собранных им русских песен больше русского духа, чем во всей поэме Пушкина,
хотя он в своем поэтическом прологе к ней и сказал: «Там русский дух, там
Русью пахнет». Вероятно, Пушкин не знал сборника Кирши Данилова в то время,
когда писал «Руслана и Людмилу»: иначе он не мог бы не увлечься духом
народно-русской поэзии, и тогда его поэма имела бы, по крайней мере,
достоинство сказки в русско-народном духе и притом написанной прекрасными
стихами. Но в ней русского — одни только имена, да и то не все. И этого
руссизма нет так же и в содержании, как и в выражении поэмы Пушкина.
Очевидно, что она — плод чуждого влияния, и скорей пародия на Ариоста, чем
подражание ему, потому что наделать _немецких рыцарей_ из _русских богатырей
и витязей_ — значит исказить равно и немецкую и русскую действительность.
Нам так мало осталось памятников от доисторических времен Руси, что
_Владимир красно солнышко_ столько же для нас миф, сколько Владимир,
просветитель Руси — историческое лицо; а сказки Кирши Данилова, в которых
является действующим лицом языческий Владимир, явно сложены в позднейшие
времена. И потому Пушкин от предания только и воспользовался, что словом
«солнце», приложенным к имени Владимира. Пожива небогатая. Во всем остальном
его Владимир-солнце — пародия на какого-нибудь Карла Великого. Таковы же и
Руслан, и Рогдай, и Фарлаф: действительность их, историческая и поэтическая,
такой же точно пробы, как и действительность Финна, Наины, богатырской
головы и Черномора. Пушкин с особенною радостью ухватился было за так
называемого «вещего Баяна», поняв слово «баян» как нарицательное и
равнозначительное словам: _скальд, бард, менестрель, трубадур, миннезингер_.
В этом он разделял заблуждение всех наших словесников, которые, нашед в
«Слове о пълку Игореве» _вещего баяна, соловья старого времени_, который,
«аще кому хотяше песнь творите, то растекашется мыслию по древу, серым
вълком по земли, шизым орлом под облакы», — заключили из этого, что Гомеры
древней Руси назывались _баянами_. Что в древней Руси были свои песельники,
сказочники, балагуры и прибауточники, так же как и теперь в простом народе
бывают подобные, — в этом нет сомнения; но, по смыслу текста «Слова», ясно
видно, что имя Баяна есть собственное, а отнюдь не нарицательное. Да и Баян
«Слова» так неопределен и загадочен, что на нем нельзя построить даже и
остроумных догадок, на которые так щедры досужие антикварии, а тем менее
можно заключить из него что-нибудь достоверное. И потому весь _баян_ Пушкина
— ни более, ни менее, как риторическая фраза. О прологе к «Руслану и
Людмиле» действительно можно сказать: «Тут русский дух, тут Русью пахнет»;
но этот пролог явился только при втором издании поэмы, то есть через
_восемь_ лет после первого ее издания, стало быть, тогда, как Пушкин уже
настоящим образом вник в дух народной русской поэзии. Первые _семнадцать
стихов_, которыми начинается «Руслан и Людмила», от стиха: «Дела давно
минувших дней» до стиха. — «И низко кланялись гостям», действительно _пахнут
Русью_; но ими начинается и ими же и оканчивается _русский дух_ всей этой
поэмы; больше в ней его _слых_о_м не слыхать, вид_о_м не видать_. Мы даже
подозреваем, что не были ль эти семнадцать счастливых стихов поводом к
_присочинению_ к ним всей поэмы… Как бы то ни было, только поэма эта —
шалость сильного, еще незрелого таланта, который, кипя жаждою деятельности,
схватился без разбора за первый предмет, мысль о котором как-то промелькнула
перед ним в веселый час. Весь тон поэмы — шуточный. Поэт не принимает
никакого участия в созданных его фантазией лицах. Он просто — чертил
арабески и потешался их забавною странностию. Оттого, как сам Пушкин
справедливо замечал впоследствии, _она холодна_. {Соч. А. Пушкина, т. XI,
стр. 226.} В самом деле, в ней много грации, игривости, остроумия; есть
живость, движение и еще больше блеска, но очень мало жара. В эпизоде о Финне
проглядывает чувство; оно вспыхивает на минуту в воззвании Руслана к
усеянному костьми полю, но это воззвание оканчивается несколько риторически.
Все остальное холодно.
Вообще «Руслан и Людмила» для двадцатых годов имела то же самое
значение, какое «Душенька» Богдановича для семидесятых годов. Разумеется,
велик перевес на стороне поэмы Пушкина и в отношении к превосходству времени
и к превосходству таланта. Но наше время далеко впереди, обеих этих эпох
русской литературы, и потому если «Душеньку» теперь нет никакой возможности
прочесть от начала до конца, по доброй воле, а не по нужде, которая может
заставить прочесть и «Тилемахиду», то «Руслана и Людмилу» можно только
перелистывать от нечего делать, но уже нельзя читать, как что-нибудь
дельное. Ее литературно-историческое значение гораздо важнее значения
художественного. По своему содержанию и отделке она принадлежит к числу
переходных пьес Пушкина, которых характер составляет _подновленный
классицизм_: в них Пушкин является улучшенным, усовершенствованным
Батюшковым. В «Руслане и Людмиле», как мы уже сказали выше, нет ни признака
романтизма, даже ощутителен недостаток поэзии, несмотря на все изящество
выражения и всю прелесть стиха, неслыханные до того времени. Скажем больше:
даже со стороны формы, как ни много она выше обветшалых форм прежней поэзии,
есть звенья, соединяющие «Руслана и Людмилу» с прежнею школою поэзии: мы
разумеем здесь употребление слов: _брада, глава_ и произвольное употребление
усеченных прилагательных, которых в поэме Пушкина найдется больше десятка.
Словом, если б не недостаток самомыслительности и не избыток _привычки_, так
называемые классики того времени должны были бы торжествовать, как свою
победу над так называвшимися тогда романтиками, появление «Руслана и
Людмилы», — на Пушкине сосредоточить все надежды своей партии, а истинного
представителя романтизма, следовательно, самого опасного их врага, видеть в
Жуковском. В самом деле, некоторые из них были _как будто_ близки к этому
взгляду. В «Вестнике Европы» 1824 года один классик рассердился за то, что
г. Верстовский, положивший на музыку «Черную шаль» Пушкина, назвал ее
_кантатою_. «Почему (говорит бутырский классик) г. Верстовский _возвел_
простую песню _на степень кантаты_? Такого ли содержания бывают кантаты
собственно так называемые? Такими ли видим их у Драйдена, у Жан-Батиста
Руссо и у других поэтов знаменитых? (Хороши знаменитости — Драйден и
Жан-Батист Руссо!) Истощив средства свои на страсти, бунтующие в душе
_безвестного_ человека, что употребит он, когда нужно будет силою музыки
возвысить значительность слов в тех кантатах, где исторические или
мифологические, во многих отношениях нам известные и для всех просвещенных
людей занимательные лица страдают или торжествуют? В песне г-на Пушкина
представляется нам какой-то молдаванин, убивший какую-то любимую им
красавицу, которую соблазнил какой-то армянин. Достойно ли это того, чтоб
искусный композитор изыскивал средства потрясать сердца слушателей, чтоб для
песни тратил сокровища музыки? Не значит ли это воздвигнуть огромный
пьедестал для маленькой красивой куклы, хотя бы она была сделана на Севрской
фабрике? Угадываю причины, — побудившие г. Верстовского к сему подвигу, и
знаю наперед один из ответов: «Г. А. Пушкин принадлежит к числу
первоклассных поэтов наших». Что касается до стихотворства, я сам отдаю ему
совершенную справедливость; стихи его отменно гладки, плавны, чисты; не
знаю, кого из наших сравнить с ним в искусстве стопосложения; скажу более:
_г. Пушкин не охотник щеголять эпитетами, не бросается ни в
сентиментальность, ни в таинственность, ни в надутость, ни в пустословие; он
жив и стремителен в рассказе; употребляет слова в надлежащем их смысле;
наблюдает умную соразмерность в разделении мыслей_: все это составляет
_внешнюю_ (?) красоту его стихотворений. Где же однако те качества, которые,
по словам Еорация, составляют поэта? где mens divinior? где os magna
sonaturum?» (Ќ 1, стр. 70 и 71). Замечаете ли, что наш бутырский критик
видел кое-что в Пушкине, и если не увидел всего, ему помешала _привычка_.
Пушкин не любил щеголять эпитетами, не бросался ни в сентиментальность, ни в
таинственность, ни в надутость, ни в пустословие; он жив и стремителен в
рассказе, употребляет слова в надлежащем их смысле, наблюдает умную
соразмерность в разделении мыслей; все это действительно составляло
неотъемлемые качества пушкинской поэзии, и качества великие; но — видите ли
— по мнению бутырского классика, это не больше, как _внешняя (!)_ красота
стихотворений Пушкина, потому что где же в них mens divinior (божественное
безумие, исступление, восторг), где os magna sonaturum? А что такое разумели
под этим наши псевдоклассические критики? Вот что:
…Кто завесу мне вечности расторг?
Я вижу молний блеск! Я слышу с горня света
И то, и то!..
Прочтите всю превосходную сатиру Дмитриева «Чужой толк» — и вы еще
лучше поймете, что наши классики разумели под mens divinior. Хотя многие из
первых произведений Пушкина (как, например, _Черная шаль, Наполеон, Андрей
Шенье_) не чужды декламации и риторической напряженности, но для наших
классиков этого было мало; они не могли увидеть в Пушкине mens divinior, —
так привыкли они к напыщенной шумихе одопений своего времени! Посмотрите, из
чего хлопотали бедняжки: из названий, из слов — _ода, кантата, песня_ и т.
п. Мы сами слышали однажды, как глава классических критиков, почтенный,
умный и даровитый Мерзляков, сказал с кафедры: «Пушкин пишет хорошо, но,
бога ради, не называйте его сочинений _поэмами_!» Под словом _поэма_
классики привыкли видеть что-то чрезвычайно важное. С _кантатами_ их
познакомил Драйден и Жан-Батист Руссо: стало быть, то уже не кантата, что не
было рабской копией с какой-нибудь кантаты этих двух риторов-стихотворцев. И
каким образом страсти _безвестного_ человека могли быть предметом такого
высокого рода поэзии, как кантата? — с них было бы заглаза довольно и нежной
песенки, вроде: _Стонет сизый голубочек_: ведь в залы входят только господа,
а слуги остаются в передней! В то время высокий и священный сан _человека_
не признавался ни за что, и _человек_ считался ниже не только титулярного
советника, но и простого канцеляриста. Как же можно было видеть равнодушно,
что талантливый композитор тратит сокровища музыки на чувство какого-то
армянина.
А между тем бутырские классики были близки и к тому, чтобы увидеть в
Жуковском истинного своего врага, как это можно заметить из следующих строк:
«Будучи одним из почитателей (но не слепых и раболепных) таланта нашего
отличного стихотворца В. А. Жуковского, я так же, как и прочие мои
соотечественники, восхищался многими прекрасными его произведениями. Так,
м.<илостивый> г.<осударь> м.<ой> и я, хотя не имею чести быть орлиной
породы, смел прямо смотреть на солнце, любовался блеском его и согревался
живительною его теплотою до тех пор, пока западные, чужеземные _туманы_ и
_мраки_ не обложили его и не заслонили свет его от слабых глаз моих, слабых
потому, что не могут видеть света сквозь мрак и туман. Говоря языком
общепонятным, я с восхищением читал и перечитывал «Певца во стане русских
воинов», перевод Греевой элегии, «Людмилу», «Светлану», «Эолову арфу»,
многие места из «Двенадцати спящих дев» и разные другие стихотворения г-на
Жуковского. Но с некоторого времени, когда имя его стало появляться под
стихотворениями, в которых все немецкое, кроме букв и слов, — восторг и
удивление во мне уступили место сожалению о том, что стихотворец с такими
превосходными дарованиями оставил красоты и приличия языка; {360} оставил те
средства, которыми он усыновил русским «Людмилу», «Ахилла» и столько других
произведений словесности чужестранной… оставил, и для чего же? — чтобы
ввести в наш язык обороты, блестки ума и беспонятную выспренность нынешних
немцев стихотворцев-мистиков! Если первые баллады Жуковского породили толпу
подражателей, которые только жалким образом его передразнивали, не умея
подражать красотам, рассыпанным щедрою рукою в прежних его произведениях, —
то мудрено ли, что теперь люди с превосходными дарованиями, или вовсе и без
дарований, с жадностью подражают в нем тому, что находят по своим силам?..
Истинный талант должен принадлежать своему отечеству; человек, одаренный
таковым талантом, если избирает поприщем своим словесность, должен возвысить
славу природного языка своего, раскрыть его сокровища и обогатить оборотами
и выражениями, ему свойственными; гений имеет даже право вводить новые, но
не иноплеменные, и никогда не выпускать из виду свойства и приличия языка
отечественного» («Вестник Европы», 1821, т. CXVII, стр. 19-21).
Но и тут, ясно, _привычка_ помешала увидеть дело так, как оно было:
бутырский классик не видал романтизма в самых ультраромантических пьесах
Жуковского, каковы: _Людмила, Светлана, Эолова арфа, Двенадцать спящих
дев_z, но увидел его в позднейших, лучших и по содержанию, и по форме,
произведениях Жуковского. Подлинно, в младенческое время литературы и старцы
поневоле бывают детьми…
Восторги, возбужденные «Русланом и Людмилою», равно как и
необыкновенный успех этой поэмы, несмотря на всю _детскость_ ее достоинств и
недостатков, гораздо естественнее и понятнее, чем яростные нападки на нее
бутырских классиков. Не говоря уже о том, что всякая удачная новость
ослепляет глаза, в «Руслане и Людмиле» русская поэзия действительно сделала
огромный шаг вперед, особенно со стороны технической. Все восхищались ее
прекрасным языком, стихами, всегда легкими и звучными, а иногда и истинно
поэтическими, грациозною шуткою, рассказом плавным, увлекательным, живым и
быстрым, всею этою игривою затейливостию, шаловливостию и причудливостию
арабесков в характерах и событиях, и никому не приходило в голову требовать
от этой поэмы народности, к которой обязывалось ее заглавие и самое
содержание, естественности, поэтической мысли, вполне художественной
отделки. Образца для нее не было на русском языке, а если и были прежде
попытки в этом роде, то такие ничтожные, что сравнение с ними не могло бы
сбавить цены с «Руслана и Людмилы». У кого из прежних поэтов можно было
найти стихи, подобные, например, этим:
И вот невесту молодую
Ведут на брачную постель;
Огни погасли… и ночную
Лампаду зажигает Лель.
Свершились милые надежды,
Любви готовятся дары;
Падут ревнивые одежды
На цареградские ковры…
Вы слышите ль влюбленный шопот
И поцелуев сладкий звук,
И прерывающийся ропот
Последней робости?..
Или:
И слышно было, что Рогдая
Тех вод русалка молодая
На хладны перси приняла,
И жадно витязя лобзая,
На дно со смехом увлекла;
И долго после, ночью темной.
Бродя близ тихих берегов,
Богатыря призракогромный
Пугал пустынных рыбаков.
Или:
Но прежде юношу ведут
_К великолепной русской бане_.
Уж волны дымные текут
В ее серебряные чаны,
И брызжут хладные фонтаны;
Разостлан роскошью ковер;
На нем усталый хан ложится;
Прозрачный пар над ним клубится;
Потупя неги полный взор,
Прелестные, полунагие,
В заботе нежной и немой,
Вкруг хана девы молодые
Теснятся резвою толпой.
Над рыцарем иная машет
Ветвями молодых берез,
И жар от них душистый пашет;
Другая соком вешних роз
Усталы члены прохлаждает
И в ароматах потопляет
Темнокудрявые власы.
Восторгом витязь упоенный
Уже забыл Людмилы пленной
Недавно милые красы;
Томится сладостным желаньем;
Бродящий взор его блестит,
И, полный страстным ожиданьем,
Он тает сердцем, он горит.
Конечно, теперь смешно заблуждение людей того времени, которые в
«Руслане и Людмиле» думали видеть поэтическое воссоздание народно-русского
сказочного мира; но в двадцатых годах, право, немудрено было, в первый раз
читая такие стихи, до того увлечься ими, чтоб в описании какой-то небывало
фантастической бани увидеть _великолепную русскую баню_. Кому неизвестно
великолепие наших бань, где в таком употреблении _сок весенних роз_, а
_ветви молодых берез прозаически называются вениками_?..
Эпилог к «Руслану и Людмиле» исполнен элегической поэзии; но, как и
пролог к этой же поэме, он, если не ошибаемся, был написан после ее; при ней
же явился только во втором ее издании, в 1828 году.
Потому ли, что изумительные успехи Пушкина и быстрый ход его
распространяющейся славы слишком озадачили бутырских критиков и классиков,
или потому, что они уже сами начали _привыкать_ к поэзии Пушкина, — только
против «Кавказского пленника» уже почти совсем не было воплей, а напротив,
ему раздавались везде только хвалебные гимны. Даже в «Вестнике Европы» 1823
года была помещена похвальная критика этой поэме (вышедшей в 1822 году). Эта
критика особенно замечательна и в свое время весьма прославилась тем, что ее
сочинитель, при всем своем старании и усердии, никак не мог догадаться, что
сделалось с черкешенкой и что означают эти прекрасные поэтические стихи:
Вдруг волны глухо зашумели,
И слышен отдаленный стон…
На дикий брег выходит он,
Глядит назад… _брега яснели
И опененные белели; Но нет
Черкешенки младой
Ни у брегов, ни под горой…
Все мертво… на брегах уснувших
Лишь ветра слышен легкий звук,
И при луне в волнах плеснувших
Струистый исчезает круг_…
Такова была тогда _привычка_ к прозаичности прежней поэзии, что слишком
поэтический и по тому уже самому слишком ясный оборот назывался темным и
неопределенным… {361} Да, Пушкину предстоял подвиг: воспитать и развить в
русском обществе чувство изящного, способность понимать художество, — и он
вполне совершил этот великий подвиг!..
«Кавказский пленник» был принят публикою еще с большим восторгом, чем
«Руслан и Людмила», и, надо сказать, эта маленькая поэма вполне достойна
была того приема, которым ее встретили. В ней Пушкин явился вполне самим
собою и вместе с тем вполне представителем своей эпохи: «Кавказский пленник»
насквозь проникнут ее пафосом. Впрочем, пафос этой поэмы двойственный: поэт
был явно увлечен двумя предметами — поэтическою жизнию диких и вольных
горцев, и потом — элегическим идеалом души, разочарованной жизнию.
Изображение того и другого слилось у него в одну роскошно поэтическую
картину. Грандиозный образ Кавказа с его воинственными жителями в первый раз
был воспроизведен русскою поэзиею, — и только в поэме Пушкина в первый раз
русское общество познакомилось с Кавказом, давно уже знакомым России по
оружию. Мы говорим — в _первый раз_: ибо каких-нибудь двух строф, довольно
прозаических, посвященных Державиным изображению Кавказа, и отрывка из
послания Жуковского к Воейкову, посвященного тоже довольно прозаическому
описанию (в стихах) Кавказа, слишком недостаточно для того, чтоб получить
какое-нибудь, хотя сколько-нибудь приблизительное понятие об этой
поэтической стороне. Мы верим, что Пушкин с добрым намерением выписал в
примечаниях к своей поэме стихи Державина и Жуковского и с полною
искренностию, от чистого сердца, хвалит их; но тем не менее он оказал им
через это слишком плохую услугу: ибо после его исполненных творческой жизни
картин Кавказа никто не поверит, чтоб в тех выписках шло дело о том же
предмете… Мы не будем выписывать из поэмы Пушкина картин Кавказа и горцев:
кто не знает их наизусть? Скажем только, что, несмотря на всю незрелость
таланта, которая так часто проглядывает в «Кавказском пленнике», несмотря на
слишком _юношеское_ одушевление зрелищем гор и жизнию их обитателей, многие
картины Кавказа в этой поэме и теперь еще не потеряли своей поэтической
ценности. Принимаясь за «Кавказского пленника» с гордым намерением слегка
перелистовать его, вы незаметно увлекаетесь им, перечитываете его до конца и
говорите: «Все это юно, незрело, и однакож так хорошо!» Какое же действие
должны были произвести на русскую публику эти живые, яркие, великолепно
роскошные картины Кавказа при первом появлении в свет поэмы! С тех пор, с
легкой руки Пушкина, Кавказ сделался для русских заветною страною не только
широкой, раздольной воли, но и неисчерпаемой поэзии, страною кипучей жизни и
смелых мечтаний! Муза Пушкина как бы освятила давно уже на деле
существовавшее родство России с этим краем, купленным драгоценною кровию
сынов ее и подвигами ее героев. И Кавказ — эта колыбель поэзии Пушкина —
сделался потом и колыбелью поэзии Лермонтова…
Как истинный поэт, Пушкин не мог описаний Кавказа вместить в свою
поэму, как эпизод _кстати_: это было бы слишком дидактически, а
следовательно, и прозаически, и потому он тесно связал свои живые картины
Кавказа с действием поэмы. Он рисует их не от себя, но передает их как
впечатления и наблюдения пленника — героя поэмы, и оттого они дышат
особенною жизнию, как будто сам читатель видит их собственными глазами на
самом месте. Кто был на Кавказе, тот не мог не удивляться верности картин
Пушкина:362 взгляните, хотя с возвышенностей, при которых стоит Пятигорск,
на отдаленную цепь гор, — и вы невольно повторите мысленно эти стихи, о
которых вам, может быть, не случалось вспоминать целые годы:
Великолепные картины!
Престолы вечные снегов,
Очам казались их вершины
Недвижной цепью облаков,
И в их кругу колосс двуглавый,
В венце блистая ледяном,
Эльбрус огромный, величавый,
Белел на небе голубом.
Описания дикой воли, разбойнического героизма и домашней жизни горцев
дышат чертами ярко верными. Но черкешенка, особенно связывающая собою обе
половины поэмы, есть лицо совершенно идеальное и только _внешним образом_
верное действительности. В изображении черкешенки особенно выказалась вся
незрелость, вся юность таланта Пушкина в то время. Самое положение, в
которое поставил поэт два главные лица своей поэмы, черкешенку и пленника, —
это положение, наиболее пленившее публику, отзывается мелодрамою и, может
быть, по тому самому так сильно увлекло самого молодого поэта. Но — такова
сила истинного таланта! — при всей театральности положения, на котором
завязан узел поэмы, при всей его бесцветности в отношении к
действительности, — в речах черкешенки и пленника столько элегической истины
чувства, столько сердечности, столько страсти и страдания, что ничем нельзя
оградиться от их обаятельного увлечения, при самом ясном сознании в то же
время, что на всем этом лежит печать какой-то детскости. С особенною силою
действует на душу читателя сцена освобождения пленника черкешенкою и эти
стихи —
Пилу дрожащей взяв рукой,
К его ногам она склонилась:
_Визжит железо под пилой.
Слеза невольная скатилась_ —
И цепь распалась и гремит…
Чувство свободы борется в этой сцене с грустью по судьбе черкешенки: вы
понимаете, что, исполненный этого чувства свободы, пленник не мог не
предложить своей освободительнице того, в чем прежде так основательно и
благородно отказывал ей; но вы понимаете также, что это только порыв, и что
черкешенка, наученная страданием, не могла увлечься этим порывом. И,
несмотря на всю грусть вашу о погибшей красавице, мученическая смерть
которой нарисована так поэтически, вы чувствуете, что грудь ваша дышит
свободнее по мере того как пленнику, в тумане, начинают сверкать русские
штыки, а до его слуха доходят оклики сторожевых казаков…
Но что же такое этот пленник? Это вторая половина двойственного
содержания и двойственного пафоса поэмы; этому лицу поэма обязана своим
успехом не меньше, если не больше, чем ярким картинам Кавказа. Пленник, это
— _герой того времени_. Тогдашние критики справедливо находили в этом лице и
неопределенность, и противоречивость с самим собою, которые делали его как
бы безличным, но они не поняли, что через это-то именно характер пленника и
возбудил собою такой восторг в публике. Молодые люди особенно были восхищены
им, потому что каждый видел в нем, более или менее, свое собственное
отражение. Эта тоска юношей по своей утраченной юности, это разочарование,
которому не предшествовали никакие очарования, эта апатия души во время ее
сильнейшей деятельности, это кипение крови при душевном холоде, это чувство
пресыщения, последовавшее не за роскошным пиром жизни, а сменившее собою
голод и жажду, эта жажда деятельности, проявляющаяся в совершенном
бездействии и апатической лени, словом, эта старость прежде юности, эта
дряхлость прежде силы, все это — черты _героев нашего времени_ со времен
Пушкина. {363} Но не Пушкин родил или выдумал их: он только первый указал на
них, потому что они уже начали показываться еще до него, а при нем их было
уже много. Они — не случайное, но необходимое, хотя и печальное явление.
Почва этих жалких пустоцветов не поэзия Пушкина или чья бы то ни была, но
общество. Эта оттого, что общество живет и развивается, как всякий
индивидуум: у него есть свои эпохи младенчества, отрочества, юношества,
возмужалости, а иногда и старости. Поэзия русская до Пушкина была
отголоском, выражением младенчества русского общества. И потому это была
поэзия до наивности невинная: она гремела одами на иллюминации, писала
нежные стишки к _милым_ и была совершенно счастлива этими идиллическими
занятиями. Действительностию ее была — мечта, и потому ее действительность
была самая аркадская, в которой невинное блеяние барашков, воркование
голубков, поцелуи пастушков и пастушек и сладкие слезы чувствительных душ
прерывались только не менее невинными возгласами: _пою_ или: _о ты, священна
добродетель_! и т. п. Даже романтизм того времени был так наивно невинен,
что искал эффектов на кладбищах и пересказывал с восторгом старые бабьи
сказки о мертвецах, оборотнях, ведьмах, колдуньях, о деве, за ропот на
судьбу заживо увезенной мертвым женихом в могилу, и тому подобные невинные
пустяки. В трагедии тогдашняя поэзия очень пристойно выплясывала чинный
менуэт, делая из Донского какого-то крикуна в римской тоге. В комедии она
преследовала именно те пороки и недостатки общества, которых в обществе не
было, и не дотрагивалась именно до тех, которыми оно было полно, — так что
комедии Фонвизина являются в этом отношении какими-то исключениями из общего
правила. В сатире тогдашняя поэзия нападала скорее на пороки
древнегреческого и римского или старофранцузского общества, чем русского.
Невинность была всесовершеннейшая, а оттого, разумеется, эта поэзия была и
нравственною в высшей степени. Общество пило, ело, веселилось. По рассказам
наших стариков, тогда не по-нынешнему умели веселиться, и перед неутомимыми
плясунами тогдашнего времени самые задорные нынешние танцоры — просто
старики, которые похоронным маршем выступают там, где бы надо было
вывертывать ногами и выстукивать каблуками так, чтоб пол трещал и окна
дрожали. Быть безусловно счастливым, это — привилегия младенчества. Младенец
играет жизнию — плещется в ее светлой волне и безотчетно любуется брызгами,
которые производят его резвые движения; он всем восхищается, все находит
лучшим, нежели оно есть на самом деле, и если ему скоро надоедает одна
игрушка, то так же скоро пленяет его другая. Не таков уже возраст отрочества
— переход от детства к юношеству. Правда, и тут человек все еще играет в
игрушки, но уж не те его игрушки; меняя их одну на другую, он уже сравнивает
их с своим идеалом, и ему грустно, когда он не находит осуществления своего
неопределенного желания, в котором сам себе не может дать отчета. Лишение
игрушки для него горе, ибо оно есть уже утрата надежды, потеря сердца. С
юношеством эта жизнь сердца и ума вспыхивает полным пламенем, и страсти
вступают в борьбу с сомнением. Тут много радостей, но столько же, если не
больше, и горя: ибо полное счастие только в непосредственности бытия;
отрочество есть начало пробуждения, а юность полное пробуждение сознания,
корень которого всегда горек; сладкие же плоды его — для будущих поколений,
как. богатое и выстраданное наследие от предков потомкам…
«Кавказский пленник» Пушкина застал общество в периоде его отрочества и
почти на переходе из отрочества в юношество. Главное лицо его поэмы было
полным выражением этого состояния общества. И Пушкин был сам этим пленником,
но только на ту пору, пока писал его. Осуществить в творческом произведении
идеал, мучивший поэта, как его собственный недуг, — для поэта значит
навсегда освободиться от него. Это же лицо является и в следующих поэмах
Пушкина, но уже не таким, как в «Кавказском пленнике»: следя за ним, вы
беспрестанно застаете его в новом моменте развития и видите, что оно
движется, идет вперед, делается сознательнее, а потому и интереснее для вас.
Тем-то Пушкин как великий поэт и отличался от толпы своих подражателей, что,
не изменяя сущности своего направления, всегда крепко держась
действительности, которой был органом, всегда говорил новое, между тем как
его подражатели и теперь еще хриплыми голосами допевают свои старые и всем
надоевшие песни. В этом отношении «Кавказский пленник» есть поэма
историческая. Читая ее, вы чувствуете, что она могла быть написана только в
известное время, и, под этим условием, она всегда будет казаться прекрасною.
Если б в наше время даровитый поэт написал поэму в духе и тоне «Кавказского
пленника», — она была бы безусловно ничтожнейшим произведением, хотя бы в
художественном отношении и далеко превосходила пушкинского «Кавказского
пленника», который, в сравнении с нею, все бы остался так же хорош, как и
без нее.
Лучшая критика, какая когда-либо была написана на «Кавказского
пленника», принадлежит самому же Пушкину. В статье его «Путешествие в
Арзрум» находятся следующие слова, написанные им через семь лет после
издания «Кавказского пленника»: «Здесь нашел я измаранный список
_Кавказского пленника_ и, признаюсь, перечел его с большим удовольствием.
Все это слабо, молодо, неполно; но многое угадано и выражено верно». Не
знаем, к какому времени относится следующее суждение Пушкина о «Кавказском
пленнике», но оно очень интересно, как факт, доказывающий, как смело умел
Пушкин смотреть на свои произведения: «_Кавказский пленник_ — первый
неудачный опыт характера, с которым я насилу, сладил; он был принят лучше
всего, что я ни написал, благодаря некоторым элегическим и описательным
стихам. Но зато Н. и А. Р. и я, мы вдоволь над ним посмеялись» (т. XI, сто.
227). {364} Слова: _характер, с которым я насилу сладил_, особенно
замечательны: они показывают, что поэт силился изобразить вне себя
(объектировать) настоящее состояние своего духа и по тому самому не мог
вполне этого сделать.
В художественном отношении «Кавказский пленник» принадлежит к числу тех
произведений Пушкина, в которых он является еще учеником, а не мастером
поэзии. Стихи прекрасны, исполнены жизни, движения, много поэзии; но еще нет
художества. Содержание всегда бывает соответственно форме, и наоборот:
недостатки одного тесно связаны с недостатками другой, и наоборот. В отделке
стихов «Кавказского пленника» заметно еще, хотя и меньше, чем в «Руслане и
Людмиле», влияние старой школы. Случаются неточные выражения, как, например,
в стихе: «Удары шашек их _жестоких_» или «Где _обнял_ грозное страданье»;
попадаются слова: _глава, младой, власы_. Вступление несколько тяжеловато,
как и в «Бахчисарайском фонтане», но слабых стихов вообще мало, а оборотов
прозаических почти совсем нет; поэзия выражения почти везде необыкновенно
богата. Как факт для сравнения поэзии Пушкина вообще с предшествовавшею ему
поэзиею, укажем на то, как поэтически выражено в «Кавказском пленнике» самое
прозаическое понятие, что черкешенка учила пленника языку ее родины:
С неясной речию сливает
Очей и знаков разговор;
Поет ему и песни гор,
И песни Грузии счастливой,
_И памяти нетерпеливой
Передает язык чужой_.
Некоторые выражения исполнены _мысли_; и многие места отличаются
поразительною верностью действительности времени, которого певцом и
выразителем был поэт. Пример того и другого представляют эти прекрасные
стихи:
Людей и свет изведал он,
И знал неверной жизни цену.
В сердцах друзей нашел измену,
В мечтах любви безумный сон,
Наскуча жертвой быть привычной
Давно презренной суеты,
И неприязни двуязычной,
_И простодушной клеветы_,
Отступник света, друг природы,
Покинул он родной предел
И в край далекий полетел
С веселым призраком свободы.
В этих немногих стихах слишком много сказано. Это краткая, но резко
характеристическая картина пробудившегося сознания общества в лице одного из
его представителей. Проснулось сознание — и все, что люди почитают хорошим
по привычке, тяжело пало на душу человека, и он в явной вражде с окружающею
его действительностию, в борьбе с самим собою; недовольный ничем, во всем
видя призраки, он летит вдаль за новым призраком, за новым разочарованием…
Сколько мысли в выражении: «быть жертвою _простодушной_ клеветы»! Ведь
клевета не всегда бывает действием злобы: чаще всего она бывает плодом
невинного желания рассеяться _занимательным_ разговором, а иногда и плодом
доброжелательства и участия столь же искреннего, сколько и неловкого. И все
это поэт умел выразить одним смелым эпитетом! Таких эпитетов у Пушкина
много, и только у него одного впервые начали являться такие эпитеты!
По мнению Пушкина, «Бахчисарайский фонтан» слабее «Кавказского
пленника». С этим нельзя вполне согласиться. В «Бахчисарайском фонтане»
(вышедшем в 1824 году) заметен значительный шаг вперед со стороны формы:
стих лучше, поэзия роскошнее, благоуханнее. В основе этой поэмы лежит мысль
до того огромная, что она могла бы быть под силу только вполне развившемуся
и возмужавшему таланту. {365} Очень естественно, что Пушкин не совладал с
нею и, может быть, оттого-то и был к ней уже слишком строг. В диком
татарине, пресыщенном гаремною любовию, вдруг вспыхивает более человеческое
и высокое чувство к женщине, которая чужда всего, что составляет прелесть
одалиски и что может пленять вкус азиатского варвара. В Марии — все
европейское, романтическое: это — дева средних веков, существо кроткое,
скромное, детски-благочестивое. И чувство, невольно внушенное ею Гирею, есть
чувство романтическое, рыцарское, которое перевернуло вверх дном татарскую
натуру деспота-разбойника. Сам не понимая, как, почему и для чего, он
уважает святыню этой беззащитной красоты, он — варвар, для которого
взаимность женщины никогда не была необходимым условием истинного
наслаждения, — он ведет себя в отношении к ней почти так, как паладин
средних веков:
Гирей несчастную щадит:
Ее унынье, слезы, стоны
Тревожат хана краткий сон,
И для нее смягчает он
Гарема строгие законы.
Угрюмый сторож ханских жен
Ни днем, ни ночью к ней не входит,
Рукой заботливой не он
На ложе сна ее возводит.
Не смеет устремиться к ней
Обидный взор его очей;
Она в купальне потаенной
Одна с невольницей своей;
Сам хан боится девы пленной
Печальный возмущать покой;
Гарема в дальнем отделенье
Позволено ей жить одной:
И, мнится, в том уединенье
Сокрылся некто неземной.
Большего от татарина нельзя и требовать. Но Мария была убита ревнивою
Заремою, нет и Заремы:
………..она
Гарема стражами немыми
В пучину вод опущена.
В ту ночь, как умерла княжна,
Свершилось и ее страданье.
_Какая б ни была вина_,
Ужасно было наказанье!
Смертию Марии не кончились для хана муки неразделенной любви:
Дворец угрюмый опустел,
Его Гирей опять оставил;
С толпой татар в чужой предел
Он злой набег опять направил;
Он снова в бурях боевых
Несется мрачный, кровожадный:
Но в сердце хана чувств иных
Таится пламень безотрадный.
Он часто в сечах роковых
Подъемлет саблю, и с размаха
Недвижим остается вдруг,
Глядит с безумием вокруг,
Бледнеет, будто полный страха,
И что-то шепчет, и порой
Горючи слезы льет рекой.
Видите ли: Мария взяла всю жизнь Гирея; встреча с нею была для него
минутою перерождения, и если он от нового, неведомого ему чувства,
вдохнутого ею, еще не сделался _человеком_, то уже _животное_ в нем умерло,
и он перестал быть татарином comme il faut. {Как должно. — Ред.} Итак, мысль
поэмы — перерождение (если не просветление) дикой души через высокое чувство
любви. Мысль великая и глубокая. Но молодой поэт не справился с нею, и
характер его поэмы в ее самых патетических местах является
_мелодраматическим_. Хотя сам Пушкин находил, что «сцена Заремы с Мариею
имеет драматическое достоинство» (т. XI, стр. 227 и 228), тем не менее ясно,
что в этом драматизме проглядывает мелодраматизм. В монологе Заремы есть эта
аффектация, это театральное исступление страсти, в которые всегда впадают
молодые поэты и которые всегда восхищают молодых людей. Если хотите, эта
сцена обнаружила тогда сильные драматические элементы в таланте молодого
поэта, но не более как элементы, развития которых следовало ожидать в
будущем. Так в эффектной картине молодого художника опытный взгляд знатока
видит несомненный залог будущего великого живописца, несмотря на то, что
картина сама по себе не многого стоит; так молодой даровитый трагический
актер не может скрыть криком и резкостию своих жестов избытка огня и
страсти, которые кипят в его душе, но для выражения которых он не выработал
еще простой и естественной манеры. И потому мы гораздо больше согласны с
Пушкиным касательно его мнения насчет стихов: «Он часто в сечах роковых» и
пр. Вот что говорит он о них: «А. Р.<аевский> — хохотал над следующими
стихами» (NB мы выписали их выше). «Молодые писатели вообще не умеют
изображать физические движения страстей. Их герои всегда содрогаются,
хохочут дико, скрежещут зубами и проч. Все это смешно, как мелодрама» (т.
XI, стр. 228).
Несмотря на то, в поэме много частностей обаятельно прекрасных.
Портреты Заремы и Марии (особенно Марии) прелестны, хотя в них и
проглядывает наивность несколько юношеского одушевления. Но лучшая сторона
поэмы, это — описания, или, лучше сказать, живые картины мухаммедан-ского
Крыма: они и теперь чрезвычайно увлекательны. В них нет этого элемента
высокости, который так проглядывает в «Кавказском пленнике» в картинах
дикого и грандиозного Кавказа. Но они непобедимо очаровывают этою кроткою и
роскошною поэзиею, которыми запечатлена соблазнительно прекрасная природа
Тавриды: краски нашего поэта всегда верны местности. Картина гарема,
детские, шаловливые забавы ленивой и уныло однообразной жизни одалисок,
татарская песня — все это и теперь еще так живо, так свежо, так обаятельно!
Что за роскошь поэзии, например, в этих стихах:
Настала ночь; покрылись тенью
Тавриды сладостной поля;
Вдали под тихой лавров сенью
Я слышу пенье соловья;
За хором звезд луна восходит;
Она с безоблачных небес
На долы, на холмы, на лес
Сиянье томное наводит.
Покрыты белой пеленой,
Как тени легкие мелькая,
По улицам Бахчисарая,
Из дома в дом, одна к другой,
Простых татар спешат супруги
Делить вечерние досуги!
Описание евнуха, прислушивающегося подозрительным слухом к малейшему
шороху, как-то чудно сливается с картиною этой фантастически прекрасной
природы, и музыкальность стихов, сладострастие созвучий нежат и лелеют
очарованное ухо читателя:
Но всё вокруг него молчит;
Одни фонтаны сладкозвучны
Из мраморной темницы бьют,
И с милой розой неразлучны
Во мраке соловьи поют…
Здесь даже неправильные усечения не портят стихов. И какою истинно
лирическою выходкою, исполненною пафоса, замыкаются эти роскошно
сладострастные картины волшебной природы востока:
Как милы темные красы
Ночей роскошного востока!
Как сладко льются их часы
Для обожателей пророка!
Какая нега в их домах,
В очаровательных садах,
В тиши гаремов безопасных,
Где под влиянием луны
Все полно тайн и тишины
И вдохновений сладострастных!
При этой роскоши и невыразимой сладости поэзии, которыми так полон
«Бахчисарайский фонтан», в нем пленяет еще эта легкая, светлая грусть, эта
поэтическая задумчивость, навеянная на поэта чудно прозрачными и
благоуханными ночами востока и поэтическою мечтою, которую возбудило в нем
предание о таинственном фонтане во дворце Гиреев. Описание этого фонтана
дышит глубоким чувством:
Есть надпись: едкими годами
Еще не сгладилась она.
За чуждыми ее чертами
Журчит во мраморе вода
И каплет хладными слезами,
Не умолкая никогда.
Так плачет мать во дни печали
О сыне, падшем на войне.
Младые девы в той стране
Преданье старины узнали,
И мрачный памятник оне
Фонтаном слез именовали.
Следующие стихи (до конца) составляют превосходнейший музыкальный финал
поэмы; словно resume, {Итог. — Ред.} они сосредоточивают в себе всю силу
впечатления, которое должно оставить в душе читателя чтение целой поэмы: в
них и роскошь поэтических красок и легкая, светлая, отрадно-сладостная
грусть, как бы навеянная немолчным журчанием _Фонтана слез_ и представившая
разгоряченной фантазии поэта таинственный образ мелькавшей летучею тенью
женщины… Гармония последних двадцати стихов упоительна:
Поклонник муз, поклонник мира.
Забыв и славу и любовь,
Брега веселые Салгира!
О, скоро вас увижу вновь,
Приду на склон приморских гор,
Воспоминаний тайных полный,
И вновь таврические волны
Обрадуют мой жадный взор.
Волшебный край, очей отрада!
Все живо там: холмы, леса,
Янтарь и яхонт винограда,
Долин приютная краса,
И струй, и тополей прохлада;
Всё чувство путника манит,
Когда в час утра безмятежной,
В горах, дорогою прибрежной,
Привычный конь его бежит,
И зеленеющая влага
Пред ним и блещет и шумит
Вокруг утесов Аю-дага…
Вообще «Бахчисарайский фонтан» — роскошно-поэтическая мечта юноши, и
отпечаток юности лежит равно и на недостатках его и на достоинствах. Во
всяком случае, это — прекрасный, благоухающий цветок, которым можно
любоваться безотчетно и бестребовательно, как всеми юношескими
произведениями, в которых полнота сил заменяет строгую обдуманность
концепции, а роскошь щедрою рукою разбросанных красок — строгую отчетливость
выполнения.
Теперь нам предстоит говорить о поэме, которая была поворотным кругом
уже созревавшего таланта Пушкина на путь истинно художественной
деятельности: это — «Цыганы». В «Руслане и Людмиле» Пушкин является
даровитым и шаловливым учеником, который во время класса, украдкой от
учителя, чертит затейливые арабески, плоды его причудливой и резвой
фантазии; в «Кавказском пленнике» и «Бахчисарайском фонтане» это — молодой
поэт, еще неопытными пальцами пробующий извлекать из музыкального
инструмента самобытные звуки, плоды первых, горячих вдохновений; но в
«Цыганах» он — уже художник, глубоко вглядывающийся в жизнь и мощно
владеющий своим талантом. «Цыганами» открывается _средняя_ эпоха его
поэтической деятельности, к которой мы причисляем еще «Евгения Онегина»
(первые шесть глав), «Полтаву», «Графа Нулина», так же как с «Бориса
Годунова» начинается последняя, высшая эпоха его вполне возмужавшей
художнической деятельности, к которой мы причисляем и все поэмы, после его
смерти напечатанные. {366} В следующей статье мы рассмотрим «Цыган»,
«Полтаву», «Евгения Онегина» и «Графа Нулина», а эту статью заключим
взглядом на «Братьев-разбойников», маленькую поэмку, которую, по многим
отношениям, считаем престранным явлением.
На первом издании «Цыган», вышедшем в 1827 году, выставлено в заглавии:
_писано в 1824 году_; то же самое выставлено и в заглавии вышедших в 1827 же
году «Братьев-разбойников», которые первоначально были напечатаны в одном
альманахе 1825 года. Стало быть, обе эти поэмы написаны Пушкиным в один год.
{367} Это странно, потому что их разделяет неизмеримое пространство:
«Цыганы» — произведение великого поэта, а «Братья-разбойники» — не более,
как ученический опыт. В них все ложно, все натянуто, все мелодрама и ни в
чем нет истины, — отчего эта поэма очень удобна для пародий. Будь она
написана в одно время с «Русланом и Людмилою», — она была бы удивительным
фактом огромности таланта Пушкина, ибо -в ней стихи бойки, резки и
размашисты, рассказ живой и стремительный. Но как произведение, современное
«Цыганам», эта поэма — неразгаданная вещь. Ее разбойники очень похожи на
шиллеровых удальцов третьего разряда из шайки Карла Моора, хотя по внешности
события и видно, что оно могло случиться только в России. Язык
рассказывающего повесть своей жизни разбойника слишком высок для мужика, а
понятия — слишком низки для человека из образованного сословия: отсюда и
выходит декламация, проговоренная звучными и сильными стихами. Грезы
больного разбойника и монологи, обращаемые им в бреду к брату, — решительная
мелодрама. Поэмка бедна даже поэзиею, которой так богато все, что ни
выходило из-под пера Пушкина, даже «Руслан и Людмила». Есть в
«Братьях-разбойниках» даже плохие стихи и прозаические обороты, как,
например: «Меж ними _зрится_ и беглец», «Нас _друг ко другу_ приковали».

pushkiniada.ru © 2010. Все права защищены.
Использование материалов сайта допускается только с установкой ссылки на данный сайт.
Белинский – известный литературный критик. Ни одно значимое событие в русской литературе не могло ускользнуть от его критического взгляда. Белинский благодаря своему таланту, мог увидеть и точно указать то особенное, что отличает одного писателя от другого. Особенно велики заслуги Белинского в осмыслении и разъяснении творчества Пушкина. С именем Пушкина Белинский соотносил все самые важные события и имена в русской литературе. Творчеству поэта посвящено одиннадцать статей. В них раскрывается новаторство историческое значение творчества Пушкина для русской литературы.
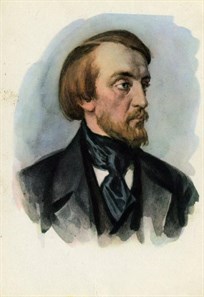
В шестой и седьмой статьях Белинский исследует пушкинские поэмы, в восьмой – девятой – «Евгения Онегина», в десятой – трагедию «Борис Годунов», одиннадцатая посвящена «маленьким трагедиям», сказкам и повестям. Критик видит историческую заслугу Пушкина в том, что поэт «расширил источники нашей поэзии, обратил её к национальным элементам жизни, показал бесчисленные новые формы…»
Роман «Евгений Онегин» Белинский считал центральным произведением Пушкина, в которм отразились личность. Взгляд на мир, идеалы поэта. Для критика «Евгений Онегин» – поэма историческая, в каждом из героев её выражена какая-то грань общественного бытия. Белинский первым назвал роман «энциклопедией русской жизни».
Анализируя образ Онегина, критик отмечал незаурядность личности героя: «…Бездеятельность и пошлость жизни душат его, он даже не знает, что ему не надо, что ему не хочется того, чем так довольна, так счастлива самолюбивая посредственность».
Большую заслугу Пушкина Белинский видел в том, что он не только поэт-художник, но и представитель впервые пробудившегося общественного самосознания».

© blog.tutoronline.ru,
при полном или частичном копировании материала ссылка на первоисточник обязательна.
Остались вопросы?
Задайте свой вопрос и получите ответ от профессионального преподавателя.
- Главная
- Новости
- Предметы
- Классики
- Рефераты
- Гостевая книга
- Контакты
Предметы:
- Английский язык
- Библиография
- Издательское дело
- История
- Зарубежная литература
- История книжного дела
- КСЕ (Естествознание)
- Культурология
- Лингвистика
- Логика
- Маркетинг
- Менеджмент
- Педагогика
- Психология
- Политология
- Редактирование
- Реклама
- Религиоведение
- Риторика
- Русская литература
- Русский язык
- Современный лит. процесс
- Социология
- Текстология
- Теория литературы
- Философия
- Экономика
- Языкознание
- Разное
В. Г. Белинский.
Сочинения Александра Пушкина — Статья восьмая
Признаемся: не без некоторой робости приступаем мы к критическому
рассмотрению такой поэмы, как «Евгений Онегин». {384} И эта робость
оправдывается многими причинами. «Онегин» есть самое задушевное произведение
Пушкина, самое любимое дитя его фантазии и можно указать слишком на немногие
творения, в которых Личность поэта отразилась бы с такою полнотою, светло и
ясно, как отразилась в «Онегине» личность Пушкина. Здесь вся жизнь, вся
душа, вся любовь его; здесь его чувства, понятия, идеалы. Оценить такое
произведение, значит — оценить самого поэта во все» объеме его творческой
деятельности. Не говоря уже об эстетическом достоинстве «Онегина», эта поэма
имеет для нас, русских, огромное историческое и общественное значение. С
этой точки зрения даже и то, что теперь критика могла бы с основательностию
назвать в «Онегине» слабым или устарелым, даже и то является исполненным
глубокого значения, великого интереса. И нас приводит в затруднение не одно
только сознание слабости наших сил для верной оценки такого произведения, но
и необходимость в одно и то же время во многих местах «Онегина», с одной
стороны, видеть недостатки, с другой — достоинства. Большинство нашей
публики еще не стало выше этой отвлеченной и односторонней критики, которая
признает в произведениях искусства только безусловные недостатки или
безусловные достоинства и которая не понимает, что условное и относительное
составляют форму безусловного. Вот почему некоторые критики добродушно были
убеждены, что мы не уважаем) Державина, находя в нем великий талант и в то
же самое время не находя между произведениями его ни одного, которое было бы
вполне художественно и могло бы вполне удовлетворить требованиям
эстетического вкуса нашего времени. Но в отношении к «Онегину» наши суждения
могут показаться многим еще более противоречащими, потому что «Онегин» со
стороны формы есть произведение в высшей степени художественное, а со
стороны содержания самые его недостатки составляют его величайшие
достоинства. Вся наша статья об Онегине будет развитием этой мысли, какою бы
ни показалась она с первого взгляда многим из наших читателей.
Прежде всего в «Онегине» мы видим поэтически воспроизведенную картину
русского общества, взятого в одном из интереснейших моментов его развития. С
этой точки зрения «Евгений Онегин» есть поэма _историческая_ в полном смысле
слова, хотя в числе ее героев нет ни одного исторического лица. Историческое
достоинство этой поэмы тем выше, что она была на Руси и первым и
блистательным опытом в этом роде. В ней Пушкин является не просто поэтом
только, но и представителем впервые пробудившегося общественного
самосознания: заслуга безмерная! До Пушкина русская поэзия была не более,
как понятливою и переимчивою ученицею европейской музы, — и потому все
произведения русской поэзии до Пушкина как-то походили больше на этюды и
копии, нежели на свободные произведения самобытного вдохновения. Сам Крылов
— этот талант, столько же сильный и яркий, сколько и национально-русский,
долго не имел смелости отказаться от незавидной чести быть то переводчиком,
то подражателем Лафонтена. В поэзии Державина ярко проблескивают и русская
речь и русский ум, но не больше, как проблескивают, потопляемые водою
риторически понятых иноземных форм и понятий. Озеров написал русскую
трагедию, даже историческую — «Димитрия Донского», но в ней «русского» и
«исторического» — одни имена: все остальное столько же русское и
историческое, сколько французское или татарское. Жуковский написал две
«русские» баллады — «Людмилу» и «Светлану»; но первая из них есть переделка
немецкой (и притом довольно дюжинной) баллады, а другая, отличаясь
действительно поэтическими картинами русских святочных обычаев и зимней
русской природы, в то же время вся проникнута немецкою сентиментальностью и
немецким фантазмом. Муза Батюшкова, вечно скитаясь под чужими небесами, не
сорвала ни одного цветка на русской почве. Всех этих фактов было достаточно
для заключения, что в русской жизни нет и не может быть никакой поэзии и что
русские поэты должны за вдохновением скакать на Пегасе в чужие края, даже на
восток, не только на запад. Но с Пушкиным русская поэзия из робкой ученицы
явилась даровитым и опытным мастером. Разумеется, это сделалось не вдруг,
потому что вдруг ничего не делается. В поэмах: «Руслан и Людмила» и
«Братья-разбойники» Пушкин был не больше, как учеником, подобно своим
предшественникам, — но не в поэзии только, как они, а еще и в попытках на
поэтическое изображение русской действительности. Этим ученичеством и
объясняется, почему в «Руслане и Людмиле» так мало русского и так много
итальянского, а «Разбойники» так похожи на шумливую мелодраму. Есть у
Пушкина русская баллада «Жених», написанная им в 1825 /оду, в котором
появилась и первая глава «Онегина». Эта баллада и со стороны формы, и со
стороны содержания насквозь проникнута русским духом, и о ней в тысячу раз
больше, чем о «Руслане и Людмиле», можно сказать:
Здесь русский дух, здесь Русью пахнет.
Так как эта баллада и тогда не обратила на себя особенного внимания, а
теперь почти всеми забыта, мы выпишем из нее сцену сватовства:
Наутро сваха к ним на двор
Нежданная приходит,
Наташу хвалит, разговор
С отцом ее заводит:
«У вас товар, у нас купец,
Собою парень молодец,
И статный, и проворной,
Не вздорный, не задорной.
Богат, умен, ни перед кем
Не кланяется в пояс,
А как боярин между тем
Живет, не беспокоясь;
А подарит невесте вдруг
И лисью шубу, и жемчуг,
И перстни золотые,
И платья парчевые.
Катаясь, видел он вчера
Ее за воротами;
Не по рукам ли, да с двора,
Да в церковь с образами?»
Она сидит за пирогом
Да речь ведет обиняком,
А бедная невеста
Себе не видит места.
«Согласен, — говорит отец —
Ступай благополучно,
Моя Наташа, под венец;
Одной в светелке скучно.
Не век девицей вековать,
Не все касатке распевать,
Пора гнездо устроить,
Чтоб детушек покоить».
И такова вся эта баллада от первого до последнего слова! В народных
русских песнях, вместе взятых, не больше русской народности, сколько
заключено ее в этой балладе! Но не в таких произведениях должно видеть
образцы проникнутых национальным духом поэтических созданий, — и публика не
без основания не обратила особенного внимания на эту чудную балладу. Мир,
так верно и ярко изображенный в ней, слишком) доступен для всякого таланта
уже по слишком резкой его особенности. Сверх того, он так тесен, мелок и
немногосложен, что истинный талант не долго будет воспроизводить его, если
не захочет, чтоб его произведения были односторонни, однообразны, скучны и,
наконец, пошлы, несмотря на все их достоинства. Вот почему человек с
талантом делает обыкновенно не более одной или, много, двух попыток в таком
роде: для него это — дело между прочим, затеянное больше из желания испытать
свои силы и на этом поприще, нежели из особенного уважения к этому поприщу.
Лермонтова «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого
купца Калашникова», не превосходя пушкинского «Жениха» со стороны формы,
слишком много превосходит его со стороны содержания. Это — поэма, в
сравнении с которою ничтожны все богатырские народно-русские поэмы,
собранные Киршею Даниловым. И между тем «Песня» Лермонтова была не более,
как опыт таланта, проба пера, и очевидно, что Лермонтов никогда ничего
больше не написал бы в этом роде. В этой песне Лермонтов взял все, что
только мог ему представить сборник Кирши Данилова; и новая попытка в этом
роде была бы по необходимости повторением одного и того же — старые погудки
на новый лад. Чувства и страсти людей этого мира так однообразны в своем
проявлении; общественные отношения людей этого мира так просты и несложны,
что все это легко исчерпывается до дна одним произведением сильного таланта.
Разнообразие страстей, тонкие до бесконечности оттенки чувств, бесчисленно
многосложные отношения людей, общественные и частные, — вот где богатая
почва для цветов поэзии, и эту почву может приготовить только сильно
развивающаяся или развившаяся цивилизация. Произведения вроде «Jeanne»
{«Жанна». — Ред.} Жоржа Занда возможны только во Франции, потому что там
цивилизация, в многосложности ее элементов, все сословия поставила в тесное
и электрически взаимнодействующее отношение друг к другу. Наша поэзия,
напротив, должна искать для себя материалов почти исключительно в том
классе, который, по своему образу жизни и обычаям, представляет более
развития и умственного движения. И если национальность составляет одно из
высочайших достоинств поэтических произведений, то, без сомнения, истинно
национальных произведений должно искать у нас только между такими
поэтическими созданиями, которых содержание взято из жизни сословия,
создавшегося по реформе Петра Великого и усвоившего себе формы образованного
быта. Но большинство публики до сих пор понимает это дело иначе. Назовите
народным или национальным произведением «Руслана и Людмилу», — и с вами все
согласятся, что это действительно и народное, и национальное произведение.
Еще более будут согласны с вами, если вы назовете народным произведением
всякую пьесу, в которой действуют мужики и бабы, бородатые купцы и мещане
или в котором действующие лица пересыпают свой незатейливый разговор
русскими пословицами и поговорками и, вдобавок, пропускают между ними
риторические, на семинарский манер, фразы о народности и т. п. Люди, более
умные и образованные, охотно (и притом весьма основательно) видят народную
русскую поэзию в баснях Крылова и даже готовы видеть ее (что уже не так
основательно) не только в сказках Пушкина («О царе Салтане», «О мертвой
царевне и о семи богатырях»), но и (что уже вовсе неосновательно) в сказках
Жуковского («О царе Берендее до колен борода» и «О спящей царевне»). Но
немногие согласятся с вами, и для многих покажется странным, если вы
скажете, что первая истинно национально-русская поэма в стихах была и есть —
«Евгений Онегин» Пушкина и что в ней народности больше, нежели в каком
угодно другом народном русском сочинении. А между тем это такая же истина,
как и то, что дважды два — четыре. Если ее не все признают национальною —
это потому, что у нас издавна укоренилось престранное мнение, будто бы
русский во фраке или русская в корсете — уже не русские и что русский дух
дает себя чувствовать только там, где есть зипун, лапти, сивуха и кислая
капуста. В этом случае у нас многие даже и между так называемыми
образованными людьми бессознательно подражают русскому простонародью,
которое всякого чужестранца из Европы _называет_ немцем. И вот где источник
пустой боязни некоторых, чтоб мы все не онемечились! Все европейские народы
развивались, как один народ, сперва под сению католического единства,
духовного (в лице папы) и светского (в лице избранного главы священной
Римской империи), а потом под влиянием одних и тех же стремлений к последним
результатам цивилизации, — однако тем не менее между французом, немцем,
англичанином, итальянцем, шведом, испанцем такая же существенная разница,
как и между русским и индийцем. Это струны одного и того же инструмента —
духа человеческого, но струны разного объема, каждая с своим особенным
звуком, и потому-то они издают полные гармонические аккорды. Если же народы
Западной Европы, все равно происходящие от великого тевтонского племени,
большею частию смешавшегося с романскими племенами, все равно развившиеся на
почве одной и той же религии, под влиянием одних и тех же обычаев, одного и
того же общественного устройства и потом все равно воспользовавшиеся богатым
наследием древнеклассического мира, — если, говорим, все народы Западной
Европы, составляющие собою единое семейство, тем не менее резко отличаются
один от другого, то естественное ли дело, чтоб русский народ, возникший на
другой почве, под другим небом, имевший свою историю, ни в чем не похожую на
историю ни одного западноевропейского народа, естественно ли, чтоб русский
народ, усвоив себе одежду и обычаи европейские, мог утратить свою
национальную самобытность и походить, как две капли воды, на каждого из
европейских народов, из которых каждый друг от друга резко отличается и
физическою, и нравственною физиономиею?.. Да это нелепость нелепостей! хуже
этого ничего нельзя выдумать! Первая причина особности племени или народа
заключается в почве и климате занимаемой им страны; а много ли на земном
шаре стран, одинаковых в геологическом и климатологическом отношениях? И
потому, чтоб напор европейских обычаев и идей мог лишить русских их
национальности, для этого нужно, прежде всего, ровный, степной материк
России превратить в гористый; бесконечное его пространство сделать меньшим,
по крайней мере, в десять раз (за исключением Сибири). И много, кроме того,
нужно бы сделать такого, чего нельзя сделать и о чем фантазировать на досуге
прилично только господам Маниловым. Далее: бедна та народность, которая
трепещет за свою самостоятельность при всяком соприкосновении с другою
народностью! Наши самозванные патриоты не видят, в простоте ума и сердца
своего, что, беспрестанно боясь за русскую национальность, они тем! самым
жестоко оскорбляют ее. Но когда сделалось всегда победоносным русское
войско, — если не тогда, как Петр Великий одел его в европейское платье и
приучил его сообразной с этим платьем военной дисциплине? Как-то естественно
видеть толпу крестьян, дурно вооруженных, еще хуже дисциплинированных, по
случаю войны недавно оторванных от избы и сохи, как-то естественно видеть их
бегущими в беспорядке с поля битвы; точно так же, как естественно видеть
полки солдат, даже и при военной неудаче, или храбро умирающими на поле
битвы, или отступающими в грозном* порядке. Некоторые из горячих
славянолюбов говорят: «Посмотрите на немца, — — он везде немец, и в России,
и во Франции, и в Индии; француз тоже везде француз, куда бы ни занесла его
судьба; а русский в Англии — англичанин, во Франции — француз, в Германии —
немец. Действительно, в этом есть своя сторона истины, которой нельзя
оспоривать, но которая служит не к унижению, а к чести русских. Это свойство
удачно применяться ко всякому народу, ко всякой стране отнюдь не есть
исключительное свойство только образованных сословий в России, но свойство
всего русского племени, всей северной Руси. Этим свойством русский человек
отличается и от всех других славянских племен, и, может быть, ему-то и
обязан он своим превосходством над ними. Известно, что наши русские солдаты
— удивительные природные философы и политики и нигде ничему не удивляются,
но все находят очень естественным), как бы это все ни было противоположно их
понятиям и привычкам. Чтоб слишком не распространяться об этом предмете,
ссылаемся, для краткости, на замечание Лермонтова об удивительной
способности русского человека применяться к обычаям тех народов, среди
которых ему случается жить. «Не знаю (говорит автор «Героя нашего времени»),
достойно порицания или похвалы это свойство ума, только оно доказывает
неимоверную его гибкость и присутствие этого ясного здравого смысла, который
прощает зло везде, где видит его необходимость или невозможность его
уничтожения». Здесь дело идет о Кавказе, а не о Европе; но русский человек
везде тот же. Угловатый немец, тяжеловато гордый Джон-Буль уже самыми их
ухватками и манерами никогда и нигде не скроют своего происхождения; и после
француза только русский может по наружности казаться просто человеком, не
нося на своем лбу национального клейма или паспорта. Но из этого отнюдь не
следует, чтобы русский, умея в Англии походить на англичанина, а во Франции
— на француза, хоть на минуту перестал быть русским или хоть на минуту не
шутя мог сделаться англичанином или французом. Форма и сущность не всегда
одно и то же. Хорошую форму почему не усвоить себе, но от сущности своей
отрешиться совсем не так легко, как променять охабень на фрак. Между
русскими есть много галломанов, англоманов, германоманов и разных других
«манов». Посмотришь на них: точно так, — с которой стороны ни зайди: —
англичанин, француз, немец да и только. Если англоман, да еще богатый, то и
лошади у него англизированные, и жокеи, и грумы, словно сейчас из Лондона
привезенные, и парк в английском вкусе, и портер он пьет исправно, любит
ростбиф и пуддинг, на комфорте помешан и даже боксирует не хуже любого
английского кучера. Если галломан, — одет как модная картинка, по-французски
говорит не хуже парижанина, на все смотрит с равнодушным презрением, при
случае почитает долгом быть и любезным и остроумным. Если германоман, —
больше всего любит искусство как искусство, науку как науку, романтизирует,
презирает толпу, не хочет внешнего счастия и выше всего ставит
созерцательное блаженство своего внутреннего мира… Но пошлите всех этих
господ пожить — англоманов в Англию, галломанов во Францию, германоманов в
Германию, да и посмотрите, так ли охотно, как вы, поспешат англичане,
французы и немцы признать своими соотечественниками наших англоманов,
галломанов и германоманов… Нет, не попадут они в соотечественники этим
народам, а только разве прослывут между ними притчею во языцех, сделаются
предметом всеобщего оскорбительного внимания и удивления. Это потому,
повторяем, что усвоить чуждую форму совсем не то, что отрешиться от
собственной сущности. Русский за границею легко может быть принят за
уроженца страны, в которой он временно живет, потому что на улице, в »
трактире, на балу, в дилижансе о человеке заключают по его виду; но в
отношениях гражданских, семейных, но в положениях жизни исключительных —
другое дело: тут поневоле обнаружится всякая национальность, и каждый
поневоле явится сыном своей и пасынком чужой земли. С этой точки зрения
русскому гораздо легче прослыть за англичанина в России, нежели в Англии. Но
в отношении к отдельным личностям еще могут быть странные исключения: в
отношении же к народам никогда. Доказательством могут служить те славянские
племена, которых исторические судьбы были тесно связаны с судьбами Западной
Европы: Чехия отовсюду окружена тевтонским племенем; властителями ее в
течение целых столетий были немцы, развилась она вместе с ними на почве
католицизма и упредила их и словом и делом религиозного обновления — и что
ж? Чехи до сих пор славяне, до сих пор не только не германцы, но и не совсем
европейцы…
Все сказанное нами было необходимым отступлением для опровержения t
неосновательного мнения, будто бы в деле литературы чисто русскую народность
должно искать только в сочинениях, которых содержание заимствовано из жизни
низших и необразованных классов. Вследствие этого странного мнения,
оглашающего «нерусским» все, что есть в России лучшего и образованнейшего,
вследствие этого лапотно-сермяжного мнения какой-нибудь грубый фарс с
мужиками и бабами есть национально-русское произведение, а «Горе от ума»
есть тоже русское, но только уже не национальное произведение; какой-нибудь
площадный роман, вроде «Разгулья купеческих сынков в Марьиной роще», есть
хотя и плохое, однако тем не менее национально-русское произведение, а
«Герой нашего времени», хотя и превосходное, однако тем не менее русское, но
не национальное произведение… Нет, и тысячу раз нет! Пора, наконец,
вооружиться против этого мнения всею силою здравого смысла, всею энергиею
неумолимой логики! Мы далеки уже от того блаженного времени, когда
псевдоклассическое направление нашей литературы допускало в изящные создания
только людей высшего круга и образованных сословий, и если иногда позволяло
выводить в поэме, драме или эклоге простолюдинов, то не иначе, как умытых,
причесанных, разодетых и говорящих не своим языком. Да, мы далеки от этого
псевдоклассического времени; но пора уже отдалиться нам и от этого
псевдоромантического направления, которое, обрадовавшись слову «народность»
и праву представлять в поэмах и драмах не только честных людей низшего
звания, но даже воров и плутов, вообразило, что истинная национальность
скрывается только под зипуном, в курн_о_й избе и что разбитый на кулачном
бою нос пьяного лакея есть истинно шекспировская черта, — а главное, что
между людьми образованными нельзя искать и признаков чего-нибудь похожего на
народность. Пора, наконец, догадаться, что, напротив, русский поэт может
себя показать истинно национальным поэтом, только изображая в своих
произведениях жизнь образованных сословий: ибо, чтоб найти национальные
элементы в жизни, наполовину прикрывшейся прежде чуждыми ей формами, — для
этого поэту нужно и иметь большой талант, и быть национальным в душе.
«Истинная национальность (говорит Гоголь) состоит не в описании сарафана, но
в самом духе народа; поэт может быть даже и тогда национален, когда
описывает совершенно сторонний мир, но глядит на него глазами своей
национальной стихии, глазами всего народа, когда чувствует и говорит так,
что соотечественникам его кажется, будто это чувствуют и говорят они сами».
{385} Разгадать тайну народной психеи, для поэта, — значит уметь равно быть
верным действительности при изображении и низших, и средних, и высших
сословий. Кто умеет схватывать резкие оттенки только грубой простонародной
жизни, не умея схватывать более тонких и сложных оттенков образованной
жизни, тот никогда не будет великим поэтом и еще менее имеет право на
громкое титло национального поэта. Великий национальный поэт равно умеет
заставить говорить и барина, и мужика их языком. И если произведение,
которого содержание взято из жизни образованных сословий, не заслуживает
названия национального, — значит, оно ничего не стоит и в художественном
отношении, потому что неверно духу изображаемой им действительности. Поэтому
не только такие произведения, как «Горе от ума» и «Мертвые души», но и
такие, как «Герой нашего времени», суть столько же национальные, сколько и
превосходные поэтические создания.
И первым таким национально-художественным произведением был «Евгений
Онегин» Пушкина. В этой решимости молодого поэта представить нравственную
физиономию наиболее оевропеившегося в России сословия нельзя не видеть
доказательства, что он был и глубоко сознавал себя национальным поэтом. Он
понял, что время эпических поэм давным-давно прошло и что для изображения
современного общества, в котором проза жизни так глубоко проникла самую
поэзию жизни, нужен роман, а не эпическая поэма. Он взял эту жизнь, как она
есть, не отвлекая от нее только одних поэтических ее мгновений; взял ее со
всем холодом, со всею ее прозою и пошлостию. И такая смелость была бы менее
удивительною, если бы роман затеян был в прозе; но писать подобный роман в
стихах в такое время, когда на русском языке не было ни одного порядочного
романа и в прозе, — такая смелость, оправданная огромным успехом, была
несомненным свидетельством гениальности поэта. Правда, на руском языке было
одно прекрасное (по своему времени) произведение, вроде повести в стихах: мы
говорим о «Модной жене» Дмитриева; но между ею и «Онегиным» нет ничего
общего уже потому только, что «Модную жену» так же легко счесть за вольный
перевод или переделку с французского, как и за оригинально русское
произведение. Если из сочинений Пушкина хоть одно может иметь что-нибудь
общего с пре- красною и остроумною сказкою Дмитриева, так это, как мы уже и
заметили в последней статье, «Граф Нулин»; но и тут сходство заключается
совсем! не в поэтическом достоинстве обоих произведений. Форма романов вроде
«Онегина» создана Байроном; по крайней мере, манера рассказа, смесь прозы и
поэзии в изображаемой действительности, отступления, обращения поэта к
самому себе и особенно это слишком ощутительное присутствие лица поэта в
созданном им произведении, — все это есть дело Байрона. Конечно, усвоить
чужую новую форму для собственного содержания совсем не то, что самому
изобрести ее; тем не менее, при сравнении «Онегина» Пушкина с «Дон-Хуаном»,
«Чайльд-Гарольдом» и «Беппо» Байрона, нельзя найти ничего общего, кроме
формы и манеры. Не только содержание, но и дух поэм Байрона уничтожает
всякую возможность существенного сходства между ими и «Онегиным» Пушкина.
Байрон писал о Европе для Европы; этот субъективный дух, столь могущий и
глубокий, эта личность, столь колоссальная, гордая и непреклонная,
стремилась не столько к изображению современного человечества, сколько к
суду над его прошедшею и настоящею историею. Повторяем: тут нечего искать и
тени какого-либо сходства. Пушкин писал о России для России, — и мы видим
признак его самобытного и гениального таланта в том, что, верный своей
натуре, совершенно противоположной натуре Байрона, и своему художническому
инстинкту, он далек был от того, чтобы соблазниться создать что-нибудь в
байроновском роде, пиша русский роман. Сделай он это — и толпа превознесла
бы его выше звезд; слава мгновенная, но великая была бы наградою за его
ложный tour de force {Ловкая штука. — Ред.}. Но, повторяем, Пушкин как поэт
был слишком велик для подобного шутовского подвига, столь обольстительного
для обыкновенных талантов. Он заботился не о том, чтоб походить на Байрона,
а о том, чтоб быть самим собою и быть верным той действительности, до него
еще непочатой и нетронутой, которая просилась под перо его. И зато его
«Онегин» — в высшей степени оригинальное и национально-русское произведение.
Вместе с современным ему гениальным творением Грибоедова — «Горе от ума»
{«Горе от ума» было написано Грибоедовым в бытность его в Тифлисе, до 1823
года, но написано вчерне. По возвращении в Россию, в 1823 году, Грибоедов
подвергнул свою комедию значительным исправлениям. В первый раз большой
отрывок из нее был напечатан в альманахе «Талия», в 1825 году. Первая глава
«Онегина» появилась в печати в 1825 году, когда, вероятно, у Пушкина было
уже готово несколько глав этой поэмы.}, стихотворный роман Пушкина положил
прочное основание новой русской поэзии, новой русской литературе. До этих
двух произведений, как мы уже и заметили выше, русские поэты еще умели быть
поэтами, воспевая чуждые русской действительности предметы, и почти не умели
быть поэтами, принимаясь за изображение мира русской жизни. Исключение
остается только за Державиным, в поэзии которого, как мы уже не раз
говорили, проблескивают искорки элементов русской жизни, за Крыловым и,
наконец, за Фонвизиным, который, — впрочем, был в своих комедиях больше
даровитым копистом русской действительности, нежели ее творческим
воспроизводителем. Несмотря на все недостатки, довольно важные, комедии
Грибоедова, — она, как произведение сильного таланта, глубокого и
самостоятельного ума, была первою русскою комедиею, в которой нет ничего
подражательного, нет ложных мотивов и неестественных красок, но в которой и
целое, и подробности, и сюжет, и характеры, и страсти, и действия, и мнения,
и язык — все насквозь проникнуто глубокою истиною русской действительности.
Что же касается до стихов, которыми написано «Горе от ума», — в этом
отношении Грибоедов надолго убил всякую возможность русской комедии в
стихах. Нужен гениальный талант, чтобы продолжать с успехом начатое
Грибоедовым дело: меч Ахилла под силу только Аяксам и Одиссеям. То же можно
сказать и в отношении к «Онегину», хотя, впрочем, ему и обязаны своим
появлением некоторые, далеко не равные ему, но все-таки замечательные
попытки, тогда как «Горе от ума» до сих пор высится в нашей литературе
геркулесовскими столбами, за которые никому еще не удалось заглянуть. Пример
неслыханный: пьеса, которую вся грамотная Россия выучила наизусть еще в
рукописных списках более чем за десять лет до появления ее в печати! {386}
Стихи Грибоедова обратились в пословицы и поговорки; комедия его сделалась
неисчерпаемым источником применений на события ежедневной жизни, неистощимым
рудником» эпиграфов! И, хотя никак нельзя доказать прямого влияния со
стороны языка и даже стиха басен Крылова на язык и стих комедии Грибоедова,
однако нельзя и совершенно отвергать его: так в органически историческом
развитии литературы все сцепляется и связывается одно с другим! Басни
Хемницера и Дмитриева относятся к басням Крылова, как просто талантливые
произведения относятся к гениальным произведениям, но тем не менее Крылов
много обязан Хемницеру и Дмитриеву. Так и Грибоедов: он не учился у Крылова,
не подражал ему: он только воспользовался его завоеванием, чтоб самому итти
дальше своим собственным путем. Не будь Крылова в русской литературе, стих
Грибоедова не был бы так свободно, так вольно, развязно оригинален, словом,
не шагнул бы так страшно далеко. Но не этим только ограничивается подвиг
Грибоедова: вместе с «Онегиным» Пушкина его «Горе от ума» было первым
образцом поэтического изображения русской действительности в обширном
значении слова. В этом отношении оба эти произведения положили собою
основание последующей литературе, были школою, из которой вышли и Лермонтов
и Гоголь. Без «Онегина» был бы невозможен «Герой нашего времени», так же как
без «Онегина» и «Горя от ума» Гоголь не почувствовал бы себя готовым на
изображение русской действительности, исполненное такой глубины и истины.
Ложная манера изображать русскую действительность, существовавшая до
«Онегина» и «Горя от ума», еще и теперь не исчезла из русской литературы.
Чтоб убедиться в этом, стоит только обречь себя на смотрение или на чтение
новых драматических пьес, даваемых на русском театре обеих столиц. Это не
что иное, как искаженная французская жизнь, самовольно назвавшаяся русскою
жизнию; это — исковерканные французские характеры, прикрывшиеся русскими
именами. На русскую повесть Гоголь имел сильное влияние, но комедии его
остались одинокими, как и «горе от ума». Значит: изображать верно свое
родное, то, что у нас перед глазами, что нас окружает, чуть ли не труднее,
чем изображать чужое. Причина этой трудности заключается в том, что у нас
форму всегда принимают за сущность, а модный костюм — за европеизм; другими
словами: в том, что _народность_ смешивают с _простонародностью_ и думают,
что кто не принадлежит к простонародию, то есть кто пьет шампанское, а не
пенник, и ходит во фраке, а не в смуром кафтане, — того должно изображать то
как француза, то как испанца, то как англичанина. Некоторые из наших
литераторов, имея способность более или менее верно списывать портреты, не
имеют способности видеть в настоящем их свете те лица, с которых они пишут
портреты: мудрено ли, что в их портретах нет никакого сходства с оригиналами
и что, читая их романы, повести и драмы, невольно спрашиваешь себя:
С кого они портреты пишут?
Где разговоры эти слышут?
А если и случалось им,
Так мы их слышать не хотим. {387}
Таланты этого рода — плохие мыслители; фантазия у них развита на счет
ума. Они не понимают, что _тайна национальности_ каждого народа заключается
не в его одежде и кухне, а в его, так сказать, манере понимать вещи. Чтоб
верно изображать какое-нибудь общество, надо сперва постигнуть его сущность,
его особность, — а этого нельзя иначе сделать, как узнав фактически и оценив
философски ту сумму правил, которыми держится общество. У всякого народа две
философии: одна ученая, книжная, торжественная и праздничная, другая —
ежедневная, домашняя, обиходная. Часто обе эти философии находятся более или
менее в близком соотношении друг к другу; и кто хочет изображать общество,
тому надо познакомиться с обеими, но последнюю особенно необходимо изучить.
Так точно, кто хочет узнать какой-нибудь народ, тот, прежде всего, должен
изучить его в его семейном, домашнем быту. Кажется, что бы за важность могли
иметь два такие слова, как, например, авось и живет, а между тем они очень
важны, и, не понимая их важности, иногда нельзя понять иного романа, не
только самому написать роман. И вот глубокое знание этой-то обиходной
философии и сделало «Онегина» и «Горе от ума» произведениями оригинальными и
чисто русскими.
Содержание «Онегина» так хорошо известно всем и каждому, что нет
никакой надобности излагать его подробно. Но, чтоб добраться до лежащей в
его основании идеи, мы расскажем его в этих немногих словах. Воспитанная в
деревенской глуши молодая, мечтательная девушка влюбляется в молодого
петербургского — говоря нынешним языком — льва, который, наскучив светскою
жизнию, приехал скучать в свою деревню. Она решается написать к нему письмо,
дышащее наивною страстию; он отвечает ей на словах, что не может ее любить и
что не считает себя созданным для «блаженства семейной жизни». Потом из
пустой причины Онегин вызван на дуэль женихом сестры нашей влюбленной
героини и убивает его. Смерть Ленского надолго разлучает Татьяну с Онегиным.
Разочарованная в своих юных мечтах, бедная девушка склоняется на слезы и
мольбы старой своей матери и выходит замуж за _генерала_, потому что ей было
все равно, за кого бы ни выйти, если уже нельзя было не выходить ни за кого.
Онегин встречает Татьяну в Петербурге и едва узнает ее: так переменилась
она, так мало осталось в ней сходства между простенькою деревенскою девочкою
и великолепною петербургскою дамою. В Онегине вспыхивает страсть к Татьяне;
он пишет к ней письмо, и на этот раз уже она отвечает ему на словах, что
хотя и любит его, тем не менее принадлежать ему не может — по гордости
добродетели. Вот и все содержание «Онегина». Многие находили и теперь еще
находят, что тут нет никакого содержания, потому что роман ничем! не
кончается. В самом деле, тут нет ни смерти (ни от чахотки, ни от кинжала),
ни свадьбы — этого привилегированного конца всех романов, повестей и драм, в
особенности русских. Сверх того, сколько тут несообразностей! Пока Татьяна
была девушкою, Онегин отвечал холодностию на ее страстное признание, но
когда она стала женщиною, — он до безумия влюбился в нее, даже не будучи
уверен, что она его любит. Неестественно, вовсе неестественно! А какой
безнравственный характер у этого человека: холодно читает он мораль
влюбленной в него девушке, вместо того чтоб взять да тотчас и влюбиться в
нее самому и потом, испросив по форме у ее дражайших родителей их
родительского благословения навеки-нерушимого, совокупиться с нею узами
законного брака и сделаться счастливейшим в мире человеком. Потом: Онегин ни
за что убивает бедногоЛенского, этого юного поэта с золотыми надеждами и
радужными мечтами — и хоть бы раз заплакал о нем или по крайней мере
проговорил патетическую речь, где упоминалось бы об окровавленной тени и
проч. Так или почти так судили и судят еще и теперь об «Онегине» многие из
«почтеннейших читателей»; по крайней мере нам случалось слышать много таких
суждений, которые во время _о_но бесили нас, а теперь только забавляют. Один
великий критик даже печатно сказал, что в «Онегине» нет целого, что это —
просто поэтическая болтовня о том, о сем, а больше ни о чем. {388} Великий
критик основывался в своем заключении, во-первых, на том, что в конце поэмы
нет ни свадьбы, ни похорон, и, во-вторых, на этом свидетельстве самого
поэта:
Промчалось много, много дней
С тех пор, как юная Татьяна
И с ней Онегин _в смутном сне_
Являлися впервые мне —
И даль свободного романа
Я сквозь магический кристалл
_Еще не ясно_ различал.
Великий критик не догадался, что поэт благодаря своему творческому
инстинкту мог написать полное и оконченное сочинение, не обдумав
предварительно его плана, и умел остановиться именно там, где роман сам
собою чудесно заканчивается и развязывается — на картине потерявшегося,
после объяснения с Татьяною, Онегина. Но мы об этом скажем в своем месте,
равно как и о том, что ничего не может быть естественнее отношений Онегина к
Татьяне в продолжение всего романа и что Онегин совсем не изверг, не
развратный человек, хотя в то же время и совсем не герой добродетели. К
числу великих заслуг Пушкина принадлежит и то, что он вывел из моды и
чудовищ порока и героев добродетели, рисуя вместо их просто людей.
Мы начали статью с того, что «Онегин» есть поэтически верная
действительности картина русского общества в известную эпоху. Картина эта
явилась во-время, то есть именно тогда, когда явилось то, с чего можно было
срисовать ее — общество. Вследствие реформы Петра Великого в России должно
было образоваться общество, совершенно отдельное от массы народа по своему
образу жизни. Но одно исключительное положение еще не производит общества:
чтоб оно сформировалось, нужны были особенные основания, которые
обеспечивали бы его существование, и нужно было образование, которое давало
бы ему не одно внешнее, но и внутреннее единство. Екатерина II, _жалованною
грамотою_, определила в 1785 году права и обязанности дворянства. Это
обстоятельство сообщило совершенно новый характер вельможеству —
единственному сословию, которое при Екатерине II-й достигло высшего своего
развития и было просвещенным, образованным сословием. Вследствие
нравственного движения, сообщенного грамотою 1785 года, за вельможеством
начал возникать класс среднего дворянства. Под словом _возникать_ мы
разумеем слово _образовываться_. В царствование Александра Благословенного
значение этого, во всех отношениях лучшего, сословия все увеличивалось и
увеличивалось, потому что образование все более и более проникало во все
углы огромной провинции, усеянной помещичьими владениями. Таким образом
формировалось общество, для которого благородные наслаждения бытия
становились уже потребностию, как признак возникающей духовной жизни.
Общество это удовлетворялось уже не одною охотою, роскошью и пирами, даже не
одними танцами и картами: оно говорило и читало по-французски, музыка и
рисование тоже входили у него, как необходимость, в план воспитания детей.
Державин, Фонвизин и Богданович — эти поэты, в свое время известные только
одному двору, тогда сделались более или менее известными и этому
возникающему обществу. Но что всего важнее — у него явилась своя литература,
уже более легкая, живая, общественная и _светская_, нежели тяжелая, школьная
и книжная. Если Новиков распространил изданием книг и журналов всякого рода
охоту к чтению и книжную торговлю и через это создал массу читателей, то
Карамзин своею реформою языка, направлением, духом и формою своих сочинений
породил литературный вкус и создал публику. Тогда-то и поэзия вошла как
элемент в жизнь нового общества. Красавицы и молодые люди толпами бросились
на _Лизин пруд_, чтоб _слезою чувствительности_ почтить память горестной
жертвы страсти и обольщения. Стихотворения Дмитриева, запечатленные умом,
вкусом, остротою и грациею, имели такой же успех и такое же влияние, как и
проза Карамзина. Порожденные ими сентиментальность и мечтательность,
несмотря на их смешную сторону, были великим шагом вперед для молодого
общества. Трагедии Озерова придали еще более силы и блеска этому
направлению. Басни Крылова давно уже не только читались взрослыми, но и
заучивались наизусть детьми. Вскоре появился юноша-поэт, который в эту
сентиментальную литературу внес романтические элементы глубокого чувства,
фантастической мечтательности и эксцентрического стремления в область
чудесного и неведомого и который познакомил и породнил русскую музу с музою
Германии и Англии. Влияние литературы на общество было гораздо важнее,
нежели как у нас об этом думают: литература, сближая и сдружая людей разных
сословий узами вкуса и стремлением к благородным наслаждениям жизни,
_сословие_ превратила в _общество_. Но, несмотря на то, не подлежит никакому
сомнению, что класс дворянства был и по преимуществу представителем
общества, и по преимуществу непосредственным источником образования всего
общества. Увеличение средств к народному образованию, учреждение
университетов, гимназий, училищ заставляло общество расти не по дням, а по
часам. Время от 1812 до 1815 года было великою эпохою для России. Мы
разумеем здесь не только внешнее величие и блеск, какими покрыла себя Россия
в эту великую для нее эпоху, но и внутреннее преуспеяние в гражданственности
и образовании, бывшее результатом этой эпохи. Можно сказать без
преувеличения, что Россия больше прожила и дальше шагнула от 1812 года до
настоящей минуты, нежели от царствования Петра до 1812 года. С одной
стороны, 12-й год, потрясши всю Россию из конца в конец, пробудил ее спящие
силы и открыл в ней новые, дотоле неизвестные источники сил, чувством общей
опасности сплотил в одну огромную массу косневшие в чувстве разъединенных
интересов частные воли, возбудил народное сознание и народную гордость и
всем этим способствовал зарождению публичности, как началу общественного
мнения; кроме того, 12-й год нанес сильный удар коснеющей старине:
вследствие его исчезли неслужащие дворяне, спокойно родившиеся и умиравшие в
своих деревнях, не выезжая за заповедную черту их владений; глушь и дичь
быстро исчезали вместе с потрясенными остатками старины. С другой стороны,
вся Россия, в лице своего победоносного войска, лицом к лицу увиделась с
Европою, пройдя по ней путем побед и торжеств. Все это сильно способствовало
возрастанию и укреплению возникшего общества. В двадцатых годах текущего
столетия русская литература от подражательности устремилась к самобытности:
явился Пушкин. Он любил сословие, в котором почти исключительно выразился
прогресс русского общества и к которому принадлежал сам, — и в «Онегине» он
решился представить нам внутреннюю жизнь этого сословия, а вместе с ним и
общество в том виде, в каком оно находилось в избранную им эпоху, то есть в
двадцатых годах текущего столетия. И здесь нельзя не подивиться быстроте, с
которою движется вперед русское общество: мы смотрим на «Онегина», как на
роман времени, от которого мы уже далеки. Идеалы, мотивы этого времени уже
так чужды нам, так вне идеалов и мотивов нашего времени… «Герой нашего
времени» был новым «Онегиным»; едва прошло четыре года, — и Печорин уже не
современный идеал. И вот в каком смысле сказали мы, что самые недостатки
«Онегина» суть в то же время и его величайшие достоинства: эти недостатки
можно выразить одним словом — «стар_о_»; но разве вина поэта, что в России
все движется так быстро? и разве это не великая заслуга со стороны поэта,
что он так верно умел схватить действительность известного мгновения из
жизни общества? Если б в «Онегине» ничто не казалось теперь устаревшим или
отсталым от нашего времени, — это было бы явным признаком, что в этой поэме
нет истины, что в ней изображено не действительно существовавшее, а
воображаемое общество; в таком случав что ж бы это была за поэма и стоило бы
говорить о ней?..
Мы уже коснулись содержания «Онегина»; обратимся к разбору характеров
действующих лиц этого романа. Несмотря на то, что роман носит на себе имя
своего героя, — в романе не один, а два героя: Онегин и Татьяна. В обоих их
должно видеть представителей обоих полов русского общества в ту эпоху.
Обратимся к первому. Поэт очень хорошо сделал, выбрав себе героя из высшего
круга общества. Онегин отнюдь не вельможа (уже и потому, что временем
вельможества был только век Екатерины II).; Онегин — светский человек. Мы
знаем, наши литераторы не любят света и светских людей, хотя и помешаны на
страсти изображать их. Что касается лично до нас, мы совсем не светские люди
и в свете не бываем; но не питаем к нему никаких мещанских предубеждений.
Когда высший свет изображается такими писателями, как Пушкин, Грибоедов,
Лермонтов, князь Одоевский, граф Соллогуб, мы любим литературное изображение
большого света так же, как и изображение всякого другого света и не света, с
талантом и знанием выполненное. Только в одном случае не можем терпеть
большого света: именно, когда изображают его сочинители, которым должны быть
гораздо знакомее нравы кондитерских и чиновничьих гостиных, чем
аристократических салонов. Позвольте сделать еще оговорку: мы отнюдь не
смешиваем светскости с аристократизмом, хотя и чаще всего они встречаются
вместе. Будьте вы человеком какого вам угодно происхождения, держитесь,
каких вам угодно убеждений, — светскость вас не испортит, а только улучшит.
Говорят: в свете жизнь тратится на мелочи, самые святые чувства приносятся в
жертву расчету и приличиям. Правда; но разве в среднем кругу общества жизнь
тратится только на одно великое, а чувство и разум не приносятся в жертву
расчету и приличию? О, нет, тысячу раз нет! Вся разница среднего света от
высшего состоит в том, что в первом больше мелочности, претензий, чванства,
ломания, мелкого честолюбия, принужденности и лицемерства. Говорят: в
светской жизни много дурных сторон. Правда; а разве в несветской жизни одни
только хорошие стороны? Говорят: свет убивает вдохновение, и Шекспир и
Шиллер не были светскими людьми. Правда; но они не были и ни купцами, ни
мещанами — они были просто людьми, так же точно, как и Байрон — аристократ и
светский человек — своим вдохновением более всего обязан был тому, что он
был человек. Вот почему мы не хотим подражать некоторым нашим литераторам в
их предубеждениях против страшного для них невидимки — большого света, и вот
почему мы очень рады, что Пушкин героем своего романа взял светского
человека. — И что же тут дурного? Высший круг общества был в то время уже в
апогее своего развития; притом светскость не помешала же Онегину сойтись с
Ленским — этим наиболее странным и смешным в глазах света существом. Правда,
Онегину было дико в обществе Лариных, но образованность еще более, нежели
светскость, была причиною этого. Не спорим, общество Лариных очень мило,
особенно в стихах Пушкина, но нам, хоть мы и совеем не светские люди, было
бы в нем не совсем ловко, тем более, что мы решительно неспособны поддержать
благоразумного разговора о псарне, о вине, о сенокосе, о родне. Высший круг
общества в то время до того был отделен от всех других кругов, что не
принадлежавшие к нему люди поневоле говорили о нем, как до Колумба во всей
Европе говорили об антиподах и Атлантиде. Вследствие этого Онегин с первых
же строк романа был принят за безнравственного человека. Это мнение о нем и
теперь еще не совсем исчезло. Мы помним, как горячо -многие читатели
изъявляли свое негодование на то, что Онегин радуется болезни своего дяди и
ужасается необходимости корчить из себя опечаленного родственника:
Вздыхать и думать про себя:
Когда же чорт возьмет тебя?
Многие и теперь этим крайне недовольны. Из этого видно, каким важным во
всех отношениях произведением был «Онегин» для русской публики и как хорошо
сделал Пушкин, взяв светского человека в герои своего романа. К особенностям
людей светского общества принадлежит отсутствие ли-цемерства, в одно и то же
время грубого и глупого, добродушного и добросовестного. Если какой-нибудь
бедный чиновник вдруг увидит себя наследником богатого дяди-старика,
готового умереть, — с какими слезами, с какою униженною предупредительностью
будет он ухаживать за дядюшкою, хотя этот дядюшка, может быть, во всю жизнь
свою не хотел ни знать, ни видеть племянника, и между ними ничего не было
общего. Однакож не думайте, чтоб со стороны племянника это было расчетливым!
лицемерством (расчетливое лицемерство есть порок всех кругов общества, и
светских и несветских); нет, вследствие благодетельного сотрясения всей
нервной системы, произведенного видом близкого наследства, наш племянник не
шутя пришел в умиление и почувствовал пламенную любовь к дядюшке, хотя и не
воля дяди, а закон дал ему право на наследство. Стало быть, это лицемерство
добродушное, искреннее и добросовестное. Но вздумай его дядюшка вдруг ни с
того, ни с сего выздороветь: куда бы девалась у нашего племянника
родственная любовь, и как бы ложная горесть вдруг сменилась истинною
горестью, и актер превратился бы в человека! Обратимся к «Онегину». Его дядя
был ему чужд во всех отношениях. И что может быть общего между Онегиным,
который уже —
…….равно зевал
Средь модных и старинных зал,
и между почтенным помещиком, который, в глуши своей деревни,
Лет сорок с ключницей бранился,
В окно смотрел и мух давил?
Скажут: он его благодетель. Какой же благодетель, если Онегин был
законным наследником его имения? Тут благодетель- не дядя, а закон, право
наследства. Каково же положение человека, который обязан играть роль
огорченного, состраждущего и нежного родственника при смертном одре
совершенно чуждого и постороннего ему человека? Скажут: кто обязывал его
играть, такую низкую роль? Как кто? Чувство деликатности, человечности.
Если, почему бы то ни было, вам нельзя не принимать к себе человека,
которого знакомство для вас и тяжело, и скучно, разве вы не обязаны быть с
ним вежливы и даже любезны, хотя внутренне вы и посылаете его к черту? Что в
словах Онегина проглядывает какая-то насмешливая легкость, — в этом виден
только ум и естественность, потому что отсутствие натянутой, тяжелой
торжественности в выражении обыкновенных житейских отношений есть признак
ума. У светских людей это даже не всегда ум, а чаще всего — манера, и нельзя
не согласиться, что это преумная манера. У людей средних кружков, напротив,
манера отличаться избытком разных глубоких чувств при всяком сколько-нибудь,
_по их мнению_, важном случае. Все знают, что вот эта барыня жила с своим
мужем, как кошка с собакою, и что она радехонька его смерти, и сама она
очень хорошо понимает, что все это знают и что никого ей не обмануть; но от
этого она еще громче охает и ахает, стонет и рыдает, и тем безотвязнее мучит
всех и каждого описанием добродетелей покойного, счастия, каким он дарил ее,
и злополучия, в какое поверг ее своею кончиною. Мало того: эта барыня готова
это же самое сто раз повторять перед господином благонамеренной наружности,
которого все знают за ее любовника. И что же? — как этот господин
благонамеренной наружности, так и все родственники, друзья и знакомые
горькой неутешной вдовы слушают все это с печальным и огорченным видом, и
если иные под рукою смеются, зато другие от души _сокрушаются_. И —
повторяем — это и не глупость и не расчетливое лицемерство: это просто
принцип мещанской, простонародной морали. Никому из этих людей не приходит в
голову спросить себя и других;
Да из чего же вы беснуетеся столько?
Мало того: они считают за грех подобный вопрос, а если бы решились сделать
его, то сами над собою расхохотались бы. Им невдогад, что если тут есть о
чем грустить, так это о пошлой комедии добродушного лицемерства, которую все
так усердно и так искренно разыгрывают.
Чтоб не возвращаться опять к одному и тому же вопросу, сделаем
небольшое отступление. В доказательство, каким важным явлением не в одном
эстетическом отношении был для нашей публики «Онегин» Пушкина и какими
новыми, смелымы мыслями казались тогда в нем теперь самые старые и даже
робкие полу-мысли, приведем из него этот куплет:
Гм! гм! читатель благородный,
Здорова ль ваша вся родня?
Позвольте: может быть, угодно
Теперь узнать вам от меня,
Чт_о_ значит именно _родные_?
Родные люди вот какие:
Мы их обязаны ласкать,
Любить, душевно уважать
И, по обычаю народа,
О рождестве их навещать
Или по почте поздравлять,
Чтоб в остальное время года
О нас не думали они.
Итак, дай бог им долги дни!
Мы помним, что этот невинный куплет со стороны большей части публики навлек
упрек в безнравственности уже не на Онегина, а на самого поэта. Какая
этому причина, если не то добродушное и добросовестное лицемерство, о
котором мы сейчас говорили? Братья тягаются с братьями об имении и часто
питают друг к другу такую остервенелую ненависть, которая невозможна между
чужими, а возможна только между родными. Право родства нередко бывает не чем
иным, как правом — бедному подличать перед богатым из подачки, богатому —
презирать докучного бедняка и отделываться от него ничем; равно богатым —
завидовать друг другу в успехах жизни; вообще же — право вмешиваться в чужие
дела, давать ненужные и бесполезные советы. Где ни поступите вы, как человек
с характером и с чувством своего человеческого достоинства, — везде вы
оскорбите принцип родства. Вздумали вы жениться — просите совета; не
попросите его — вы опасный мечтатель, вольнодумец, попросите — вам укажут
невесту; ж_е_нитесь на ней и будете несчастны — вам же скажут: «то-то же,
братец, вот каково без оглядки-то предпринимать такие важные дела; я ведь
говорил»… Ж_е_нитесь по своему выбору — еще хуже беда. Какие еще права
родства? Мало ли их! Вот, например, этого господина, так похожего на
Ноздрева, будь он вам чужой, вы не пустили бы даже в свою конюшню, опасаясь
за нравственность ваших лошадей; но он вам родственник — и вы принимаете его
у себя в гостиной и в кабинете, и он везде позорит вас именем своего
родственника. Родство дает прекрасное средство к занятию и развлечению:
случилась с вами беда, — и вот для ваших родственников чудесный случай
съезжаться к вам, ахать, охать, качать головою, судить, рядить, давать
советы и наставления, делать упреки, а потом везде развозить эту новость,
порицая и браня вас заглаза, — ведь известно: человек в беде всегда виноват,
особенно в глазах своих родственников. Все это ни для кого не ново; но то
беда, что все это чувствуют, но немногие это сознают: привычка к
добродушному и добросовестному лицемерству побеждает рассудок. Есть такие
люди, которые способны смертельно обидеться, если огромная семья родни,
приехав в столицу, остановится не у них; а остановись она у них, — они же
будут не рады; но ропща, бранясь и всем жалуясь под-рукою, они перед
родственною семейкою будут расточать любезности и возьмут с нее слово —
опять остановиться у них и вытеснить их, во имя родства, из их собственного
дома. Чт_о_ это значит? Совсем не то, чтобы родство у подобных людей
существовало, как _принцип_, а только то, что оно существует у них, как
_факт_: внутренно, по убеждению, никто из них не признает его, но по
привычке, по бессознательности и по лицемерству все его признают.
Пушкин охарактеризовал родство этого рода в том виде, как оно
существует у многих, как оно есть в самом деле, следовательно, справедливо и
истинно, — и на него осердились, его назвали безнравственным; стало быть,
если бы он описал родство между некоторыми людьми таким, каким оно не
существует, то есть неверно и ложно, его похвалили бы. Все это значит ни
больше, ни меньше, как то, что нравственна одна ложь и неправда… Вот к
чему ведет добродушное и добросовестное лицемерство! Нет, Пушкин поступил
нравственно, первый сказав истину, потому что нужна благородная смелость,
чтоб первому решиться сказать истину. И сколько таких истин сказано в
«Онегине»! Многие из них теперь и не новы, и даже не очень глубоки, но, если
бы Пушкин не сказал их _двадцать_ лет назад, они теперь были бы и новы и
глубоки. И потому велика заслуга Пушкина, что он первый высказал эти
устаревшие и уже неглубокие теперь истины. Он бы мог насказать истин более
безусловных и более глубоких, но в таком случае его произведение было бы
лишено истинности; рисуя русскую жизнь, оно не было бы ее выражением. Гений
никогда не упреждает своего времени, но всегда только угадывает его не для
всех видимое содержание и смысл.
Большая часть публики совершенно отрицала в Онегине душу и сердце,
видела в нем человека холодного, сухого и эгоиста по натуре! Нельзя
ошибочнее и кривее понять человека! Этого мало: многие добродушно верили и
верят, что сам поэт хотел изобразить Онегина холодным эгоистом. Это уже
значит: имея глаза, ничего не видеть. Светская жизнь не убила в Онегине
чувства, а только охолодила к бесплодным страстям и мелочным развлечениям).
Вспомните строфы, в которых поэт описывает свое знакомство с Онегиным:
Условий света свергнув бремя,
Как он, отстав от суеты,
С ним подружился я в то время.
Мне нравились его черты,
_Мечтам невольная преданность_,
Неподражаемая странность
_И резкий, охлажденный ум_.
Я был озлоблен, он угрюм,
Страстей игру мы знали оба;
Томила жизнь обоих нас;
В обоих сердца жар погас;
Обоих ожидала злоба
Слепой фортуны и людей
На самом утре наших дней.
Кто жил и мыслил, тот не может
В душе не презирать людей;
Кто чувствовал, того тревожит
Призрак невозвратимых дней;
Тому уж нет очарований.
Того змия воспоминаний,
Того раскаянье грызет.
Всё это часто придает
Большую прелесть разговору.
Сперва Онегина язык
Меня смущал; но я привык
К его язвительному спору,
И к шутке с желчью пополам,
И к злости мрачных эпиграмм.
Как часто летнею порою,
Когда прозрачно и светло
Ночное небо над Невою,
И вод веселое стекло
Не отражает лик Дианы,
_Воспомня прежних лет романы,
Воспомня прежнюю любовь.
Чувствительны, беспечны вновь_,
Дыханьем ночи благосклонной
Безмолвно упивались мы!
Как в лес зеленый из тюрьмы
Перенесен колодник сонной,
Так уносились мы мечтой
К началу жизни молодой.
Из этих стихов мы ясно видим, по крайней мере, то, что Онегин не был ни
холоден, ни сух, ни черств, что в душе его жила поэзия и что вообще он был
не из числа обыкновенных, дюжинных людей. Невольная преданность мечтам,
чувствительность и беспечность при созерцании красот природы и при
воспоминании о романах и любви прежних лет: все это говорит больше о чувстве
и поэзии, нежели о холодности и сухости. Дело только в том, что Онегин не
любил расплываться в мечтах, больше чувствовал, нежели говорил, и не всякому
открывался. Озлобленный ум есть тоже признак высшей натуры, потому что
человек с озлобленным умом бывает недоволен не только людьми, но и самим
собою. Дюжинные люди всегда довольны собою, а если им везет, то и всеми.
Жизнь не обманывает глупцов; напротив, она все дает им, благо немногого
просят они от нее: корма, пойла, тепла, да кой-каких игрушек, способных
тешить пошлое и мелкое самолюбьице. Разочарование в жизни, в людях, в самих
себе (если только оно истинно и просто, без фраз и щегольства _нарядною
печалью_) свойственно только людям, которые, желая «многого», не
удовлетворяются «ничем». Читатели помнят описание (в VII главе) кабинета
Онегина: весь Онегин в этом описании. Особенно поразительно исключение из
опалы двух или трех романов,
В которых отразился век,
И современный человек
Изображен довольно верно
С его безнравственной душой,
Себялюбивой и сухой,
Мечтанью преданной безмерно,
С его озлобленным умом,
Кипящим в действии пустом.
Скажут: это, портрет Онегина. Пожалуй, и так; но это еще более говорит
в пользу нравственного превосходства Онегина, потому что он узнал себя в
портрете, который, как две капли воды, похож на столь многих, но в котором
узнают себя столь немногие, а большая часть «украдкою кивает на Петра».
Онегин не любовался самолюбиво этим портретом, но глухо страдал от его
поразительного сходства с детьми нынешнего века. Не натура, не страсти, не
заблуждения личные сделали Онегина похожим на этот портрет, а век.
Связь с Ленским — этим юным мечтателем, который так понравился нашей
публике, всего громче говорит против мнимого бездушия Онегина. Онегин
презирал людей.
Но правил нет без исключений:
Иных он очень отличал,
_И вчуже чувство уважал_.
Он слушал Ленского с улыбкой:
Поэта пылкий разговор,
И ум, еще в сужденьях зыбкой,
И вечно вдохновенный взор
Онегину всё было ново;
Он охладительное слово
В устах старался удержать
И думал: глупо мне мешать
Его минутному блаженству;
И без меня пора придет,
Пускай покамест он живет
Да верит мира совершенству;
Простим горячке юных лет
И юный жар, и юный бред.
Меж ними все рождало споры —
И к размышлению влекло:
Племен минувших договоры,
Плоды наук, добро и зло,
И предрассудки вековые,
И гроба тайны роковые.
Судьба и жизнь, в свою чреду,
Всё подвергалось их суду.
Дело говорит само за себя: гордая холодность и сухость, надменное
бездушие Онегина, как человека, произошли от грубой неспособности многих
читателей понять так верно созданный поэтом характер. Но мы не остановимся
на этом и исчерпаем весь вопрос.
Чудак печальный и опасный,
Созданье ада иль небес,
Сей ангел, сей надменный бес.
Что ж он? — ужели подражанье,
Ничтожный призрак, иль еще
Москвич в гарольдовом плаще;
Чужих причуд истолкованье,
Слов модных полный лексикон?..
Уж не пародия ли он?
. . . . . . . . . . . . . . .
Всё тот же ль он, иль усмирился?
Иль корчит также чудака?
Скажите, чем он возвратился?
Чт_о_ нам представит он пока?
Чем ныне явится? Мельмотом,
Космополитом, патриотом,
Гарольдом, квакером, ханжой,
Иль маской щегольнет иной?
Иль просто будет добрый малый,
Как вы да я, как целый свет?
По крайней мере мой совет:
Отстать от моды обветшалой.
Довольно он морочил свет…
— Знаком он вам? — «_И да, и нет_».
— Зачем же так неблагосклонно
Вы отзываетесь о нем?
За то ль, что мы неугомонно
Хлопочем, судим обо всем,
_Что пылких душ неосторожность
Самолюбивую ничтожность
Иль оскорбляет, иль смешит:
Что ум, любя простор, теснит_;
Что слишком часто разговоры
Принять мы рады за дела,
Что глупость ветрена и зла,
Что важным людям важны вздоры,
_И что посредственность одна
Нам по плечу и не странна_?
Блажен, кто смолоду был молод,
Блажен, кто во-время созрел,
Кто постепенно жизни холод
С летами вытерпеть умел,
Кто странным снам не предавался;
Кто черни светской не чуждался;
Кто в двадцать лет был франт иль хват,
А в тридцать выгодно женат;
Кто в пятьдесят освободился
От частных и других долгов:
Кто славы, денег и чинов
Спокойно в очередь добился;
О ком твердили целый век:
N. N. прекрасный человек.
Но грустно думать, что напрасно
Была нам молодость дана,
Что изменяли ей всечасно,
Что обманула нас она;
Что наши лучшие желанья,
Что наши свежие мечтанья.
Истлели быстрой чередой,
Как листья осенью гнилой.
Несносно видеть пред собою
Одних обедов длинный ряд.
Глядеть на жизнь, как на обряд,
И вслед за чинною толпою
Итти, не разделяя с ней
Ни общих мнений, ни страстей.
Эти стихи — ключ к тайне характера Онегина. Онегин — не Мельмот, не
Чайльд-Гарольд, не демон, не пародия, не модная причуда, {389} не гений, не
великий человек, а просто — «добрый малый, как вы да я, как целый свет».
Поэт справедливо называет «обветшалою модою» везде находить или везде искать
все гениев да необыкновенных людей. Повторяем: Онегин — добрый малый, но при
этом недюжинный человек. Он не годится в гении, не лезет в великие люди, но
бездеятельность и пошлость жизни душат егоз; он даже не знает, чего ему
надо, чего ему хочется; но он знает, и очень хорошо знает, что ему не надо,
что ему не хочется того, чем так довольна, так счастлива самолюбивая
посредственность. И за то-то эта самолюбивая посредственность не только
провозгласила его «безнравственным», но и отняла у него страсть сердца,
теплоту души, доступность всему доброму и прекрасному. Вспомните, как
воспитан Онегин, и согласитесь, что натура его была слишком хороша, если ее
не убило совсем такое воспитание. Блестящий юноша, он был увлечен светом,
подобно многим; но скоро наскучил им и оставил его, как это делают слишком
немногие. В душе его тлелась искра надежды — воскреснуть и освежиться в тиши
уединения, на лоне природы; но он скоро увидел, что перемена мест не
изменяет сущности некоторых неотразимых и не от нашей воли зависящих
обстоятельству
Два дни ему казались новы
Уединенные поля.
Прохлада сумрачной дубровы,
Журчанье тихого ручья;
На третий — рощи, холм и поле
Его не занимали боле.
Потом уж наводили сон;
Потом увидел ясно он.
Что и в деревне скука та же.
Хоть нет ни улиц, ни дворцов,
Ни карт, ни балов, ни стихов.
Хандра ждала его на страже
И бегала за ним она,
Как тень иль верная жена.
Мы доказали, что Онегин не холодный, не сухой, не бездушный человек, но
мы до сих пор избегали слова _эгоист_, — и так как избыток чувства,
потребность изящного не исключают эгоизма, то мы скажем теперь, что Онегин —
_страдающий эгоист_. Эгоисты бывают двух родов. Эгоисты первого разряда —
люди без всяких заносчивых или мечтательных притязаний; они не понимают, как
может человек любить кого-нибудь, кроме самого себя, и потому они нисколько
не стараются скрывать своей пламенной любви к собственным их особам; если их
дела идут плохо, они худощавы, бледны, злы, низки, подлы, предатели,
клеветники; если их дела идут хорошо, они толсты, жирны, румяны, веселы,
добры, выгодами делиться ни с кем не станут, но угощать готовы не только
полезных, даже и вовсе бесполезных им людей. Это эгоисты по натуре или по
причине дурного воспитания. Эгоисты второго разряда почти никогда не бывают
толсты и румяны; по большей части, это народ больной и всегда скучающий.
Бросаясь всюду, везде ища то счастия, то рассеяния, они нигде не находят ни
того, ни другого с той минуты, Пак обольщения юности оставляют их. Эти люди
часто доходят до страсти к добрым действиям, до самоотвержения в пользу
ближних; но беда в том, что они и в добре хотят искать то счастия, то
развлечения, тогда как в добре следовало бы им искать только добра. — Если
подобные люди живут в обществе, представляющем полную возможность для
каждого из его членов стремиться своею деятельностию к осуществлению идеала
истины и блага, — о них без запинки можно сказать, что суетность и мелкое
самолюбие, заглушив в них добрые элементы, сделали их эгоистами. Но наш
Онегин не принадлежит ни к тому, ни к другому разряду эгоистов. Его можно
назвать _эгоистом поневоле_; в его эгоизме должно видеть то, что древние
называли «fatum» {Рок. — Ред.}. Благая, благотворная, полезная деятельность!
Зачем не предался ей Онегин? Зачем не искал он в ней своего удовлетворения?
Зачем? зачем? — Затем, милостивые государи, что пустым людям легче
спрашивать, нежели дельным отвечать…
Один среди своих владений,
Чтоб только время проводить,
Сперва задумал наш Евгений
Порядок новый учредить.
В своей глуши мудрец пустынный,
Ярем он барщины старинной
Оброком легким заменил.
Мужик судьбу благословил. {390}
Зато в углу своем надулся,
Увидя в этом страшный вред
Его расчётливый сосед;
Другой лукаво улыбнулся,
И в голос _все_ решили так,
Что он опаснейший чудак.
Сначала все к нему езжали;
Но так как с заднего крыльца
Обыкновенно подавали
Ему донского жеребца,
Лишь только вдоль большой дороги
Заслышат их домашни дроги:
Поступком оскорбясь таким.
Все дружбу прекратили с ним.
«Сосед наш неуч, сумасбродит.
Он фармазон; он пьет одно
Стаканом красное вино;
Он дамам к ручке не подходит;
Всё _да_ да _нет_, не скажет _да-с_
Иль _нет-с_». Таков был общий глас.
Что-нибудь делать можно только в обществе, на основании общественных
потребностей, указываемых самою действительностью, а не теориею; но что бы
стал делать Онегин в сообществе с такими прекрасными соседями, в кругу таких
милых ближних? Облегчить участь мужика, конечно, много значило для мужика,
но со стороны Онегина тут еще не много было сделано. Есть люди, которым если
удастся что-нибудь сделать порядочное, они с самодовольствием рассказывают
об этом всему миру и таким образом бывают приятно заняты на целую жизнь.
Онегин был не из таких людей; важное и великое для многих, для него было не
бог знает чем.
Случай свел Онегина с Ленским; через Ленского Онегин познакомился с
семейством Лариных. Возвращаясь от них домой после первого визита, Онегин
зевает; из его разговора с Ленским мы узнаем, что он Татьяну принял за
невесту своего приятеля и, узнав о своей ошибке, удивляется его выбору,
говоря, что если б он сам был поэтом, то выбрал бы Татьяну. Этому
равнодушному, охлажденному человеку стоило одного или двух невнимательных
взглядов, чтоб понять разницу между обеими сестрами, — тогда, как
пламенному, восторженному Ленскому и в голову не входило, что его
возлюбленная была совсем не идеальное и поэтическое создание, а просто
хорошенькая и простенькая девочка, которая совсем не стоила того, чтоб за
нее рисковать убить приятеля или самому быть убитым. Между тем как Онегин
зевал _по привычке_, говоря его собственным выражением и нисколько не
заботясь о семействе Лариных, — в этом семействе его приезд завязал страшную
внутреннюю драму. Большинство публики было крайне удивлено, как Онегин,
получив письмо Татьяны, мог не влюбиться в нее, — и еще более, как тот же
самый Онегин, который так холодно отвергал чистую, наивную любовь прекрасной
девушки, потом страстно влюбился в великолепную светскую даму? В самом деле,
есть чему удивляться. Не беремся решить вопроса, но поговорим о нем.
Впрочем, признавая в этом факте возможность психологического вопроса, мы тем
не менее нисколько не находим удивительным самого факта. Во-первых, вопрос,
почему влюбился, или почему не влюбился, или почему в то время не влюбился,
— такой вопрос мы считаем, немного слишком диктаторским. Сердце имеет свои
законы — правда, но не такие, из которых легко было бы составить полный
систематический кодекс. Сродство натур, нравственная симпатия, сходство
понятий могут и даже должны играть большую роль в любви разумных существ; но
кто в любви отвергает элемент чисто непосредственный, влечение
инстинктуальное, невольное, прихоть сердца, в оправдание несколько
тривиальной, но чрезвычайно выразительной русской пословицы: «полюбится
сатана лучше ясного сокола», — кто отвергает это, тот не понимает любви.
Если б выбор в любви решался только волею и разумом, тогда любовь не была бы
чувством и страстью. Присутствие элемента непосредственности видно и в самой
разумной любви, потому что из нескольких равно достойных лиц выбирается
только одно, и выбор этот основывается на невольном влечении сердца. Но
бывает и так, что люди, кажется, созданные один для другого, остаются
равнодушны друг к другу, и каждый из них обращает свое чувство на существо
нисколько себе не под-пару. Поэтому Онегин имел полное право без всякого
опасения подпасть под уголовный суд критики, не полюбить Татьяны-девушки и
полюбить Татьяну-женщину. В том и другом случае он поступил равно ни
нравственно, ни безнравственно. Этого вполне достаточно для его оправдания,
но мы к этому прибавим и еще кое-что. Онегин был так умен, тонок и опытен,
так хорошо понимал людей и их сердце, что не мог не понять из письма
Татьяны, что эта бедная девушка одарена страстным сердцем, алчущим, роковой
пищи, что ее душа младенчески чиста, что ее страсть детски простодушна, и
что она нисколько не похожа на тех кокеток, которые так надоели ему с их
чувствами то легкими, то поддельными. Он был живо тронут письмом Татьяны: —
Язык девических мечтаний
В нем думы роем возмутил.
И вспомнил он Татьяны милой
И бледный цвет, и вид унылой;
_И в сладостный, безгрешный сон
Душою погрузился он_.
Быть, может, чувствий пыл старинной
Им на минуту овладел;
Но обмануть он не хотел
Доверчивость души невинной.
В письме своем к Татьяне (в VIII главе) он говорит, что, заметя в ней
искру нежности, он не хотел ей поверить (то есть заставил себя не поверить),
не дал хода милой привычке и не хотел расстаться с своей постылой свободою.
Но если он оценил одну сторону любви Татьяны, в то же самое время он так же
ясно видел и другую ее сторону. Во-первых, обольститься такою младенчески
прекрасною любовью и увлечься ею до желания отвечать на нее, значило бы для
Онегина решиться на женитьбу. Но если его могла еще интересовать поэзия
страсти, то поэзия брака не только не интересовала его, но была для него
противна. Поэт, выразивший в Онегине много своего собственного, так
изъясняется на этот счет, говоря о Ленском:
Гимена хлопоты, печали.
Зевоты хладная чреда
Ему не снились никогда,
Меж тем как мы, враги Гимена,
В домашней жизни зрим один
Ряд утомительных картин,
Роман во вкусе Лафонтена.
Если не брак, то мечтательная любовь, если не хуже что-нибудь; но он
так хорошо постиг Татьяну, что даже и не подумал о последнем, не унижая себя
в собственных своих глазах. Но в обоих случаях эта любовь не много
представляла ему обольстительного. Как! он, перегоревший в страстях,
изведавший жизнь и людей, еще кипевший какими-то самому ему неясными
стремлениями, — он, которого могло занять и наполнить только что-нибудь
такое, что могло бы выдержать его собственную прению, — он увлекся бы
младенческой любовью девочки-мечтательницы, которая смотрела на жизнь так,
как он уже не мог смотреть… И что же сулила бы ему в будущем эта любовь?
Что бы нашел он потом в Татьяне? Или прихотливое дитя, которое плакало бы
оттого, что он не может, подобно ей, детски смотреть на жизнь и детски
играть в любовь, — а это, согласитесь, очень скучно; или существо, которое,
увлекшись его превосходством, до того подчинилось бы ему, не понимая его,
что не имело бы ни своего чувства, ни своего смысла, ни своей воли, ни
своего характера. Последнее спокойнее, но зато еще скучнее. И это ли поэзия
и блаженство любви!..
Разлученный с Татьяною смертию Ленского, Онегин лишился всего, что хотя
сколько-нибудь связывало его с людьми.
Убив на поединке друга,
Дожив без цели, без трудов
До двадцати шести годов,
Томясь в бездействии досуга,
Без службы, без жены, без дел,
Ничем заняться не умел.
Им овладело беспокойство,
Охота к перемене мест
(Весьма мучительное свойство,
Немногих добровольный крест).
Между прочим был он и на Кавказе и смотрел на бледный рой теней,
толпившийся около целебных струй Машука:
Питая горьки размышленья.
Среди печальной их семьи,
Онегин взором сожаленья
Глядел на дымные струи
И мыслил, грустью отуманен:
Зачем я пулей в грудь не ранен!
Зачем не хилый я старик,
Как этот бедный откупщик?
Зачем, как тульский заседатель
Я не лежу в параличе?
Зачем не чувствую в плече
Хоть ревматизма? — Ах, создатель!
Я молод, жизнь во мне крепка;
Чего мне ждать! тоска, тоска!..
Какая жизнь! Вот оно, то страдание, о котором так много пишут и в
стихах и в прозе, на которое столь многие жалуются, как будто и в самом деле
знают его; вот оно, страдание истинное, без котурна, без ходуль, без
драпировки, без фраз, страдание, которое часто не отнимает ни сна, ни
аппетита, ни здоровья, но которое тем ужаснее!.. Спать ночью, зевать днем,
видеть, что все из чего-то хлопочут, чем-то заняты, — один деньгами, другой
женитьбою, третий болезнию, четвертый нуждою и кровавым потом работы, видеть
вокруг себя и веселье и печаль, и смех и слезы, видеть все это и чувствовать
себя чуждым всему этому, подобно Вечному Жиду, который среди волнующейся
вокруг него жизни сознает себя чуждым жизни и мечтает о смерти, как о
величайшем для него блаженстве; это страдание, не всем понятное, но оттого
не меньше страшное… Молодость, здоровье, богатство, соединенные с умом,
сердцем: чего бы, кажется, больше для жизни и счастия? Так думает тупая
чернь и называет подобное страдание модною причудою. И чем естественнее,
проще страдание Онегина, чем дальше оно от всякой эффектности, тем оно менее
могло быть понято и оценено большинством! публики. В двадцать шесть лет так
много пережить, не вкусив жизни, так изнемочь, устать, ничего не сделав,
дойти до такого безусловного отрицания, не перейдя ни через какие убеждения:
это смерть! Но Онегину не суждено было умереть, не отведав из чаши жизни:
страсть сильная и глубокая не замедлила возбудить дремавшие в тоске силы его
духа. Встретив Татьяну на бале, в Петербурге, Онегин едва мог узнать ее: так
переменилась она!
Она была нетороплива,
Не холодна, не говорлива,
Без взора наглого для всех,
Без притязаний на успех,
Без этих маленьких ужимок,
Без подражательных затей…
Всё тихо, просто было в ней,
Она казалась верный снимок
Du comme il faut… {*}
{* Благопристойности. — Ред.}
. . . . . . . . . . . . . .
Никто б не мог ее прекрасной
Назвать; но с головы до ног
Никто бы в ней найти не мог
Того, что модой самовластной
В высоком лондонском кругу
Зовется vulgar. {*}.
{* Вульгарным. — Ред.}
Муж Татьяны, так прекрасно и так полно с головы до ног
охарактеризованный поэтом этими двумя стихами:
….И всех выше
И нос и плечи поднимал
Вошедший с нею генерал, —
муж Татьяны представляет ей Онегина, как своего родственника и друга. Многие
читатели, в первый раз читая эту главу, ожидали громозвучного _оха_ и
обморока со стороны Татьяны, которая, пришед в себя, по их мнению, должна
повиснуть на шее у Онегина. Но какое разочарование для них!
Княгиня смотрит на него…
И, что ей душу ни смутило,
Как сильно ни была она
Удивлена, поражена,
Но ей ничто не изменило:
В ней сохранился тот же тон;
Был так же тих ее поклон.
Ей-ей! не то, чтоб содрогнулась,
Иль стала вдруг бледна, красна…
У ней и бровь не шевельнулась;
Не сжала даже губ она.
Хоть он глядел, нельзя прилежней,
Но и следов Татьяны прежней
Не мог Онегин обрести.
С ней речь хотел он завести
И — и не мог. Она спросила,
Давно ль он здесь, откуда он
И не из их ли уж сторон?
Потом к супругу обратила
Усталый взгляд, скользнула вон…
И недвижим остался он.
Ужель та самая Татьяна,
Которой он наедине,
В начале нашего романа
В глухой, далекой стороне,
В благом пылу нравоученья,
Читал когда-то наставленья,
Та, от которой он хранит
Письмо, где сердце говорит,
Где всё наружу, всё на воле,
Та девочка… иль это сон?..
Та девочка, которой он
Пренебрегал в смиренной доле,
Ужели с ним сейчас была
Так равнодушна, так смела?
. . . . . . . . . . . . . . .
Что с ним? в каком он странном сне?
Что шевельнулось в глубине
Души холодной и ленивой?
Досада? суетность? иль вновь
Забота юности — любовь?
Как изменилася Татьяна!
Как твердо в роль свою вошла!
Как утеснительного сана
Приемы скоро приняла!
Кто б смел искать девчонки нежной
В сей величавой, в сей небрежной
Законодательнице зал?
И он ей сердце волновал!
Об нем она во мраке ночи,
Пока Морфей не прилетит,
Бывало, девственно грустит,
К луне подъемлет томны очи.
Мечтая с ним когда-нибудь
Свершить смиренный жизни путь.
Любви все возрасты покорны;
Но юным, девственным сердцам
Ее порывы благотворны,
Как бури вешние полям.
В дожде страстей они свежеют,
И обновляются, и зреют —
И жизнь могущая дает
И пышный цвет, и сладкий плод.
Но в возраст поздний и бесплодный,
На повороте наших лет,
Печален страсти мертвой след:
Так бури осени холодной
В болото обращают луг
И обнажают лес вокруг.
Не принадлежа к числу ультраидеалистов, мы охотно допускаем в самые
высокие страсти примесь мелких чувств и потому думаем, что _досада_ и
_суетность_ имели свою долю в страсти Онегина. Но мы решительно не согласны
с этим мнением поэта, которое так торжественно было провозглашено им и
которое нашло такой отзыв в толпе, благо пришлось ей по плечу:
О, люди! все похожи вы
На прародительницу Еву;
Что вам дано, то не влечет;
Вас непрестанно змий зовет
К себе, к таинственному древу:
Запретный плод вам подавай,
А без того вам рай не рай.
Мы лучше думаем о достоинстве человеческой натуры и убеждены, что
человек родится не на зло, а на добро, не на преступление, а на разумно
законное наслаждение благами бытия, что его стремления справедливы,
инстинкты благородны. Зло скрывается не в человеке, но в обществе; так как
общества, понимаемые в смысле формы человеческого развития, еще далеко не
достигли своего идеала, то не удивительно, что в них только и видишь много
преступлений. Этим же объясняется и то, почему считавшееся преступным в
древнем мире считается законным в новом, и наоборот, почему у каждого народа
и каждого века свои понятия о нравственности, законном и преступном.
Человечество еще далеко не дошло до той степени совершенства, на которой все
люди, как существа однородные и единым разумом одаренные, согласятся между
собою в понятиях об истинном и ложном, справедливом и несправедливом,
законном и преступном, так же точно, как они уже согласились, что не солнце
вокруг земли, а земля вокруг солнца обращается, и во множестве
математических аксиом. До тех же пор преступление будет только по наружности
преступлением, а внутренно, существенно — непризнанием справедливости и
разумности того или другого закона. Было время, когда родители видели в
своих детях своих рабов и считали себя вправе насиловать их чувства и
склонности самые священные. Теперь: если девушка, чувствуя отвращение к
господину благонамеренной наружности, за которого ее хотят насильно выдать,
и любя страстно человека, с которым ее насильно разлучают, последует
влечению своего сердца и будет любить того, кого она избрала, а не того, в
чей карман или в чей чин влюблены ее дражайшие родители: неужели она
преступница? Ничто так не подчинено строгости внешних условий, как сердце, и
ничто так не требует безусловной воли, как сердце же. Даже самое блаженство
любви, — что оно такое, если оно согласовано с внешними условиями? песня
соловья или жаворонка в золотой клетке. Что такое блаженство любви,
признающей только власть и прихоть сердца? — торжественная песнь соловья на
закате солнца, в таинственной сени склонившихся над рекою ив; вольная песнь
жаворонка, который, в безумном упоении чувством бытия, то мчится вверх
стрелою, то падает с неба, то, трепеща крыльями, не двигаясь с места, как
будто купается и тонет в голубом эфире… Птица любит волю; страсть есть
поэзия и цвет жизни, но что же в страстях, если у сердца не будет воли?..
Письмо Онегина к Татьяне горит страстью; в нем уже нет иронии, нет
светской умеренности, светской маски. Онегин знает, что он, может быть,
подает повод к злобному веселью; но страсть задушила в нем страх быть
смешным, подать на себя оружие врагу. И было с чего сойти с ума! По
наружности Татьяны можно было подумать, что она помирилась с жизнью ни на
чем, от души поклонилась идолу суеты — и в таком случае, конечно, роль
Онегина была бы очень смешна и жалка. Но в свете наружность никого и ни в
чем не убеждает: там все слишком хорошо владеют искусством быть веселыми с
достоинством в то время, как сердце разрывается от судорог. Онегин мог не
без основания предполагать и то, что Татьяна внутренно осталась самой собою,
и свет научил ее только искусству владеть собою и серьезнее смотреть на
жизнь. Благодатная натура не гибнет от света, вопреки мнению мещанских
философов; для гибели души и сердца и малый свет представляет точно столько
же средств, сколько и большой. Вся разница в формах, а не в сущности. И
теперь, в каком же свете должна была казаться Онегину Татьяна, — уже не
мечтательная девушка, поверявшая луне и звездам свои задушевные мысли и
разгадывавшая сны по книге Мартына Задеки, но женщина, которая знает цену
всему, что дано ей, которая много потребует, но много и даст. Ореол
светскости не мог не возвысить ее в глазах Онегина: в свете, как и везде,
люди бывают двух родов — одни привязываются к формам и в их исполнении видят
назначение жизни, это — чернь; другие от света заимствуют знание людей и
жизни, такт действительности и способность вполне владеть всем, что дано им
природою. Татьяна принадлежала к числу последних, и значение светской дамы
только возвышало ее значение, как женщины. Притом же в глазах Онегина любовь
без борьбы не имела никакой прелести, а Татьяна не обещала ему легкой
победы. И он бросился в эту борьбу без надежды на победу, без расчета, со
всем безумством искренней страсти, которая так и дышит в каждом слове его
письма:
Нет, поминутно видеть вас.
Повсюду следовать за вами,
Улыбку уст, движенье глаз
Ловить влюбленными глазами,
Внимать вам долго, понимать
Душой всё ваше совершенство,
Пред вами в муках замирать,
Бледнеть и гаснуть… вот блаженство!
. . . . . . . . . . . . . . . .
Когда б вы знали, как ужасно
Томиться жаждою любви,
Пылать — и разумом всечасно
Смирять волнение в крови;
Желать обнять у вас колени,
И, зарыдав у милых ног, {391}
Излить мольбы, признанья, пени.
Всё, всё, что выразить бы мог;
А между тем, притворным хладом
Вооружив и речь и взор,
Вести спокойный разговор,
Глядеть на вас спокойным взглядом!.. {392}
Но эта пламенная страсть не произвела на Татьяну никакого впечатления.
После нескольких посланий, встретившись с нею, Онегин не заметил ни
смятения, ни страдания, ни пятен слез на лице — на нем отражался лишь след
гнева… Онегин на целую зиму заперся дома и принялся читать:
И что ж? Глаза его читали,
Но мысли были далеко;
Мечты, желания, печали
Теснились в душу глубоко.
_Он меж печатными строками
Читал духовными глазами
Другие строки_. В них-то он
Был совершенно углублен.
То были тайные преданья
Сердечной темной старины,
Ни с чем не связанные сны,
Угрозы, толки, предсказанья.
Иль длинной сказки вздор живой,
Иль письма девы молодой.
И постепенно в усыпленье
И чувств и дум впадает он,
А перед ним воображенье
Свой пестрый мечет фараон.
То видит он: на талом снеге,
Как будто спящий на ночлеге,
Недвижим юноша лежит,
И слышит голос: Что ж? убит!
То видит он врагов забвенных,
Клеветников и трусов злых,
И рой изменниц молодых,
И круг товарищей презренных;
То сельский дом — и у окна
Сидит _она_… и всё она!..
Мы не будем распространяться теперь о сцене свидания и объяснения
Онегина с Татьяною, потому что главная роль в этой сцене принадлежит
Татьяне, о которой нам еще предстоит много говорить. Роман оканчивается
отповедью Татьяны, и читатель навсегда расстается с Онегиным в самую злую
минуту его жизни… Что же это такое? Где же роман? Какая его мысль? И что
за роман без конца? Мы думаем, что есть романы, которых мысль в том и
заключается, что в них нет конца, потому что в самой действительности бывают
события без развязки, существования без цели, существа неопределенные,
никому не (понятные, даже самим себе, словом, то, что по-французски
называется les etres manques, les existences avortees {Несостоятельные
существа, неудавшиеся существования. — Ред.}. И эти существа часто бывают
одарены большими нравственными преимуществами, большими духовными силами;
обещают много, исполняют мало или ничего не исполняют. Это зависит не от них
самих; тут есть fatum {Рок. — Ред.}, заключающийся в действительности,
которою окружены они, как воздухом, и из которой не в силах и не во власти
человека освободиться. Другой поэт представил нам другого Онегина под именем
Печорина: пушкинский Онегин с каким-то самоотвержением отдался зевоте;
лермонтовский Печорин бьется на смерть с жизнию и насильно хочет у нее
вырвать свою долю; в дорогах — разница, а результат один: оба романа так же
без конца, как и жизнь и деятельность обоих поэтов…
Что сталось с Онегиным потом? Воскресила ли его страсть для нового,
более сообразного с человеческим достоинством страдания? Или убила она все
силы души его, и безотрадная тоска его обратилась в мертвую, холодную
апатию? — Не знаем, да и на что нам знать это, когда мы знаем, что силы этой
богатой натуры остались без приложения, жизнь без смысла, а роман без конца?
Довольно и этого знать, чтобы не захотеть больше ничего знать…
Онегин — характер действительный, в том смысле, что в нем нет ничего
мечтательного, фантастического, что он мог быть счастлив или несчастлив
только в действительности и через действительность. В Ленском Пушкин
изобразил характер, совершенно противоположный характеру Онегина, характер
совершенно отвлеченный, совершенно чуждый действительности. Тогда это было
совершенно новое явление, и люди такого рода тогда действительно начали
появляться в русском обществе:
С душою прямо геттингенской,
Поклонник Канта и поэт,
Он из Германии туманной
Привез учености плоды:
Вольнолюбивые мечты,
Дух пылкий и довольно странный,
Всегда восторженную речь
И кудри черные до плеч.
. . . . . . . . . . . . . .
Он пел любовь, любви послушный,
И песнь его была ясна,
Как мысли девы простодушной,
Как сон младенца, как луна
В пустынях неба безмятежных.
Богиня тайн и вздохов нежных.
Он пел _разлуку_ и _печаль_.
И _нечто_ и _туманну даль_,
И _романтические розы_;
Он пел те дальние страны,
Где долго в лоне тишины
Лились его живые слезы;
_Он пел поблеклый жизни цвет
Без малого в осьмнадцать лет_.
Ленский был романтик и по натуре и по духу времени. Нет нужды говорить,
что это было существо, доступное всему прекрасному, высокому, душа чистая и
благородная. Но в то же время «он сердцем милый был невежда», вечно толкуя о
жизни, никогда не знал ее. Действительность на него не имела влияния: его
радости и печали были созданием его фантазии. Он полюбил Ольгу, и что ему
была за нужда, что она не понимала его, что, вышедши замуж, она сделалась бы
вторым исправленным изданием своей маменьки, что ей все равно было выйти — и
за поэта — товарища ее детских игр, и за довольного собою и своею лошадью
улана? Ленский украсил ее достоинствами и совершенствами, приписал ей
чувства и мысли, которых в ней не было и о которых она и не заботилась.
Существо доброе, милое, веселое, Ольга была очаровательна, как и все
«барышни», пока они еще не сделались «барынями», а Ленский видел в ней фею,
сильфиду, романтическую мечту, нимало не подозревая будущей барыни. Он
написал «надгробный мадригал» старику Ларину, в котором, верный себе, без
всякой иронии, умел найти поэтическую сторону. В простом желании Онегина
подшутить над ним он увидел и измену, и обольщение, ы кровавую обиду.
Результатом всего этого была его смерть, заранее воспетая им в туманно
романтических стихах. Мы нисколько не оправдываем Онегина, который, как
говорит поэт,
Был должен оказать себя
Не мячиком предрассуждений.
Не пылким мальчиком, бойцом,
Но мужем с честью и умом, —
но тирания и деспотизм светских и житейских предрассудков таковы, что
требуют для борьбы с собою героев. Подробности дуэли Онегина с Ленским —
верх совершенства в художественном отношении. Поэт любил этот идеал,
осуществленный им в Ленском, и в прекрасных строфах оплакал его падение:
Друзья мои, вам жаль поэта:
Во цвете радостных надежд,
Их не свершив еще для света,
Чуть из младенческих одежд,
Увял! Где жаркое волненье,
Где благородное стремленье
И чувств, и мыслей молодых,
Высоких, нежных, удалых?
Где бурные любви желанья,
И жажда знаний и труда,
И страх порока и стыда,
И вы, заветные мечтанья,
Вы, призрак жизни неземной,
Вы, сны поэзии святой!
Быть может, он для блага мира
Иль хоть для славы был рожден;
Его умолкнувшая лира
Гремучий, непрерывный звон
В веках поднять могла. Поэта,
Быть может, на ступенях света,
Ждала высокая ступень.
Его страдальческая тень,
Быть может, унесла с собою
Святую тайну, и для нас
Погиб животворящий глас,
И за могильною чертою
К ней не домчится гимн времен,
Благословение племен.
А может быть и то: поэта
Обыкновенный ждал удел.
Прошли бы юношества лета:
В нем пыл души бы охладел,
Во многом он бы изменился,
Расстался б с музами, женился;
В деревне, счастлив и рогат.
Носил бы стеганый халат;
Узнал бы жизнь на самом деле,
Подагру б в сорок лет имел.
Пил, ел, скучал, толстел, хирел
И, наконец, в своей постеле
Скончался б посреди детей.
Плаксивых баб и лекарей.
Мы убеждены, что с Ленским сбылось бы непременно последнее. В нем было
много хорошего, но лучше всего то, что он был молод и во-время для своей
репутации умер. Это не была одна из тех натур, для которых жить — значит
развиваться и итти вперед. Это — повторяем — был _романтик_, и больше
ничего. Останься он жив, Пушкину нечего было бы с ним делать, кроме как
распространить на целую главу то, что он так полно высказал в одной строфе.
Люди, подобные Ленскому, при всех их неоспоримых достоинствах, не хороши
тем, что они или перерождаются в совершенных филистеров, или, если сохранят
навсегда свой первоначальный тип, делаются этими устарелыми мистиками и
мечтателями, которые так же неприятны, как и старые идеальные девы, и
которые больше враги всякого прогресса, нежели люди просто, без претензий,
пошлые. Вечно копаясь в самих себе и становя себя центром мира, они спокойно
смотрят на все, что делается в мире, и твердят о том, что счастие внутри
нас, что должно стремиться душою в надзвездную сторону мечтаний и не думать
о суетах этой земли, где есть и голод, и нужда, и… Ленские не перевелись и
теперь; они только переродились. В них уже не осталось ничего, что так
обаятельно прекрасно было в Ленском; в них нет девственной чистоты его
сердца, в них только претензии на великость и страсть марать бумагу. Все они
поэты, и стихотворный баласт в журналах доставляется одними ими. Словом, это
теперь самые несносные, самые пустые и пошлые люди.
Татьяна… но мы поговорим о ней в следующей статье.
R.W.S. Media Group © 2002-2018 Все права защищены и принадлежат их законным владельцам.
При использовании (полном или частичном) любых материалов сайта — ссылка на gumfak.ru обязательна. Контент регулярно отслеживается. При создании сайта часть материала взята из открытых источников, а также прислана посетителями сайта. В случае, если какие-либо материалы использованы без разрешения автора, просьба сообщить.
Критик Виссарион Белинский категорично осуждал сказки Пушкина. Он считал — зачем тратить талант на такие мелочи, как приукрашивания народных сюжетов? Но такое отношение современников самого Пушкина никак не смущало.
Русские сказки
Наибольшие споры у пушкинистов вызывает «Сказка о царе Салтане». Самая убедительная версия сводится к тому, что в порыве выиграть спор с Жуковским на написание лучшей сказки Пушкин переработал народную сказку «По колена ноги в золоте, по локоть руки в серебре», записанную А.Афанасьевым.
В обеих сказках есть эпизод с разговором трех девиц, которых подслушал царь, рождение «неведомого зверюшки», противопоставление доброй младшенькой сестрицы двум старшим злым, «путешествие» в бочке. В пушкинских тетрадях все эти идеи присутствуют, хотя остается неясным: записал ли он их по памяти или со слов Арины Родионовны. Но народную сказку Пушкин преобразил и обогатил, дополнив героями не из русского фольклора, а также сюжетами из других источников.
Античные мифы
Литературовед А. Гаврилов предполагал, что сюжет о Гвидоне и его матери Пушкин, прекрасно знавший античную литературу, «подсмотрел» в мифе о Персее. Не исключено, что в элегии о Данае — интерпретации мифа о Персее одного из наиболее значительных древнегреческих поэтов, Симонида Кеосского. Одно из подтверждений версии – запись в пушкинской тетради о встрече царя и оракула. Другой довод «за» – обширная библиотека древнейших классиков в переводе на французский, к которой Пушкин обращался неоднократно.
Напомним, что в оригинальном мифе аргосскому царю Акрисию оракул предсказывает рождение у дочери Данаи сына, который свергнет и убьет деда. Акрисий заточает дочь в подземелье, но влюбленный в нее Зевс проникает в темницу в виде золотого дождя. Даная беременеет и рождает сына Персея. Акрисий сажает дочь и внука в большой сундук и бросает их в море. За время странствий по волнам Персей вырастает в богатыря. Сундук случайно попадает в сети рыбака, который и освобождает невольников.
Звездные атласы и не только
Как уверяет тюменский пушкинист А. Захаров в книге «Вслед за Великой Богиней», ни в одной из русских сказок, ни в античной литературе не найти Царевну-Лебедь. Возможно, идея о Прекрасной деве родилась у Пушкина при изучении древних звездных атласов, а именно – атласа польского астронома Яна Гевелия. Его альбом звездного неба с 1690 года был хорошо известен не только в Европе, но и в России, а три из четырех экземпляров хранились в Санкт-Петербурге. Атлас Гевелия Пушкин мог видеть в Лицее или на Петровском планетарии – огромном шаре, подаренном Петру и помещенным им в кунсткамеру для всеобщего обозрения.
Прекрасные гравюры неизвестных мастеров, на которых созвездия «оживали», наверняка впечатлили поэта. Натягивающий лук Антиной рядом с созвездием прекрасной Девы с распахнутыми крыльями стали точкой отсчета для проработки образов Гвидона и Царевны-Лебедь. Интересно, что рядом с созвездием Девы на карте Гевелия расположено созвездие Орла, который у Пушкина превращается в коршуна: «Бьется лебедь средь зыбей,/Коршун носится над ней».
Такую запоминающуюся деталь образа Царевны-Лебедь, как блестящий под косой месяц, Пушкин мог позаимствовать из «Начертаний гербоведения» немецкого ученого эпохи Просвещения, Иоганна Гаттерера. Он описывал богиню охоты и леса Диану в легком охотничьем платье белого цвета и с заплетенными волосами, в которых блестел полумесяц. Так что Пушкину было достаточно протянуть руку, взять с собственной книжкой полки сочинение Гаттерера и «подсмотреть» там яркие детали образа Царевны Лебедь.
Древнерусская литература и римские историки
Очевидно, что бравую команду богатырей, Пушкин тоже не сам придумал. Не исключено, что он был знаком или слышал в пересказе широко известное на Руси сочинение «О человецех, незнаемых в восточной стране». Кроме прочих чудес, там рассказывается об удивительных морских жителях, которые месяцами «лежат в воде», потому что на берегу «их тело трескается». Как тут не вспомнить пушкинское «А теперь пора нам в море./Тяжек воздух нам земли».
Другим источником, вдохновившим Пушкина на создание 33 богатырей, могло стать сочинение римского историка Павла Йовия, которое поэт имел в своей библиотеке и неоднократно читал. Там есть упоминание о народе, большую часть жизни проводящем в воде и питающемся исключительно сырой рыбой. Народ этот, подобно рыбам, покрыт чешуей. И у Пушкина: «В чешуе, как жар горя/Тридцать три богатыря». К тому же поэт наверняка знал о сибирском обычае употреблять в пищу сырую рыбу и искусном умении аборигенов шить одежду и обувь из рыбьей кожи.
Интересно, что образ дядьки Черномора Пушкин мог подсмотреть в народной легенде о морских жителях, бытовавшей на Севере. Там рассказывается о самоедах и обдорских остяках, большую часть жизни проводивших в море. Как поясняет знаток северных обрядов и традиций прошлого века Н. Абрамов, эти народы регулярно «выходили из воды» и совершали на берегу обряд поклонения водным божествам, бросая в море деньги и угощения. Их тотемный предок – некий морской дядька – и мог стать прообразом Черномора.
Американская классика и шахматная доска
У пушкинистов не вызывает сомнений, что сюжет «Сказки о Золотом петушке» Пушкин позаимствовал в «Легенде об арабском звездочете» из сборника романтических рассказов «Альгамбра» «отца американский литературы» Вашингтона Ирвинга. В начале XIX века его читала вся Европа, был знаком с творчеством Ирвинга и Пушкин. Из «Легенды» американского классика русский поэт взял главных персонажей – престарелого правителя и помощника волшебника-звездочета, которые при помощи магии противостоят врагам-захватчикам. Пушкин заимствовал у Ирвинга даже мелкие детали – например, арабскую чалму (сарачинскую шапку) на голове звездочета: «Вдруг в толпе увидел он (Дадон), в сарачинской шапке белой,/Весь как лебедь поседелый,/Старый друг его, скопец». Зато Шамаханская царица – образ исключительно пушкинский.
Есть и существенные отличия. Если в пушкинской сказке о приближении недругов сообщает Золотой петушок, то в «Легенде» это делают оживающие на шахматной доске фигуры. Впрочем, шахматная доска в сказке Пушкина всё же незримо присутствует. Для исчисления времени поэт использует цифру восемь, а не традиционно-сакральные для Руси семь или десять. «Вот проходят 8 дней,/А от войска нет вестей», «Снова 8 дней проходят,/Люди в страхе дни проводят». Не исключено, что в пушкинскую сказку «восьмерка» перекочевала с шахматной доски – именно столько чередующихся черно-белых клеток умещается на одной стороне ее поля.
С миру по нитке
Первые строки «Руслана и Людмилы» Пушкин, как известно, написал еще лицеистом на стенах карцера, куда был в очередной раз помещен за «шалости». Когда поэт закончил работу над сказочной поэмой, «побежденный учитель» Жуковский подарил победителю-ученику Пушкину свой памятный портрет и поздравил с «великой пятницей» — днем окончания произведения, ставшего образцом русского романтизма.
Поэма стала событием в мире русской литературы – и это несмотря на то, что все ее сюжеты и идеи были заимствованы из различных источников. Живая голова, шутливая характеристика главной героини, очарованный замок и всё остальное Пушкин подсмотрел у разных авторов – у Ариосто в «Неистовом Роланде», у Вольтера в «Девственнице», в сказках М. Чулкова и Гамильтона, в фольклорной повести о Еруслане Лазаревиче, у Радищева в поэме «Алеша Попович». А вот образ волшебного кота Баюна Пушкин взял из лубочных повестей, пользовавшихся огромной популярностью на Руси. Там Баюн предстает сказочным чудовищем-птицей с исцеляющим голосом, который сидит на высоком столбе и своими песнями зачаровывает и лишает силы прохожих.
И всё же спустя четверть века критики напишут, что Пушкин в «Руслане и Людмиле» «гнул стих русский», как искусный ваятель воск, и заставлял его петь на все лады, подобно оживляющему скрипичные струны Паганини.
источник
Сочинения Александра Пушкина. Статья восьмая
«Евгений Онегин»
Признаемся: не без некоторой робости приступаем мы к критическому рассмотрению такой поэмы, как «Евгений Онегин». {384} И эта робость оправдывается многими причинами. «Онегин» есть самое задушевное произведение Пушкина, самое любимое дитя его фантазии и можно указать слишком на немногие творения, в которых Личность поэта отразилась бы с такою полнотою, светло
иясно, как отразилась в «Онегине» личность Пушкина. Здесь вся жизнь, вся душа, вся любовь его; здесь его чувства, понятия, идеалы. Оценить такое произведение, значит — оценить самого поэта во все» объеме его творческой деятельности. Не говоря уже об эстетическом достоинстве «Онегина», эта поэма имеет для нас, русских, огромное историческое и общественное значение. С этой точки зрения даже и то, что теперь критика могла бы с основательностию назвать в «Онегине» слабым или устарелым, даже и то является исполненным глубокого значения, великого интереса. И нас приводит в затруднение не одно только сознание слабости наших сил для верной оценки такого произведения, но и необходимость в одно и то же время во многих местах «Онегина», с одной стороны, видеть недостатки, с другой — достоинства. Большинство нашей публики еще не стало выше этой отвлеченной и односторонней критики, которая признает в произведениях искусства только безусловные недостатки или безусловные достоинства и которая не понимает, что условное
иотносительное составляют форму безусловного. Вот почему некоторые критики добродушно были убеждены, что мы не уважаем) Державина, находя в нем великий талант и в то же самое время не находя между произведениями его ни одного, которое было бы вполне художественно и могло бы вполне удовлетворить требованиям эстетического вкуса нашего времени. Но в отношении к «Онегину» наши суждения могут показаться многим еще более противоречащими, потому что «Онегин» со стороны формы есть произведение в высшей степени художественное, а со стороны содержания самые его недостатки составляют его величайшие достоинства. Вся наша статья об Онегине будет развитием этой мысли, какою бы ни показалась она с первого взгляда многим из наших читателей.
Прежде всего в «Онегине» мы видим поэтически воспроизведенную картину русского общества, взятого в одном из интереснейших моментов его развития. С этой точки зрения «Евгений Онегин» есть поэма _историческая_ в полном смысле слова, хотя в числе ее героев нет ни одного исторического лица. Историческое достоинство этой поэмы тем выше, что она была на Руси и первым и блистательным опытом в этом роде. В ней Пушкин является не просто поэтом только, но
ипредставителем впервые пробудившегося общественного самосознания: заслуга безмерная! До Пушкина русская поэзия была не более, как понятливою и переимчивою ученицею европейской музы, — и потому все произведения русской поэзии до Пушкина как-то походили больше на этюды и копии, нежели на свободные произведения самобытного вдохновения. Сам Крылов — этот талант, столько же сильный и яркий, сколько и национально-русский, долго не имел смелости отказаться от незавидной чести быть то переводчиком, то подражателем Лафонтена. В поэзии Державина ярко проблескивают и русская речь и русский ум, но не больше, как проблескивают, потопляемые водою риторически понятых иноземных форм и понятий. Озеров написал русскую трагедию, даже историческую — «Димитрия Донского», но в ней «русского» и «исторического» — одни имена: все остальное столько же русское и историческое, сколько французское или татарское. Жуковский написал две «русские» баллады — «Людмилу» и «Светлану»; но первая из них есть переделка немецкой (и притом довольно дюжинной) баллады, а другая, отличаясь действительно поэтическими картинами русских святочных обычаев и зимней русской природы, в то же время вся проникнута немецкою сентиментальностью и немецким фантазмом. Муза Батюшкова, вечно скитаясь под чужими небесами, не сорвала ни одного цветка на русской почве. Всех этих фактов было достаточно для заключения, что в русской жизни нет и не может быть никакой поэзии и что русские поэты должны за вдохновением скакать на Пегасе в чужие края, даже на восток, не только на запад. Но с Пушкиным русская поэзия из робкой ученицы явилась даровитым и опытным мастером. Разумеется, это сделалось не вдруг, потому что вдруг ничего не делается. В поэмах: «Руслан и Людмила» и «Братья-разбойники» Пушкин был не больше, как учеником, подобно своим предшественникам, — но не в поэзии только, как они, а еще и в попытках на поэтическое
изображение русской действительности. Этим ученичеством и объясняется, почему в «Руслане и Людмиле» так мало русского и так много итальянского, а «Разбойники» так похожи на шумливую мелодраму. Есть у Пушкина русская баллада «Жених», написанная им в 1825 /оду, в котором появилась и первая глава «Онегина». Эта баллада и со стороны формы, и со стороны содержания насквозь проникнута русским духом, и о ней в тысячу раз больше, чем о «Руслане и Людмиле», можно сказать:
Здесь русский дух, здесь Русью пахнет.
Так как эта баллада и тогда не обратила на себя особенного внимания, а теперь почти всеми забыта, мы выпишем из нее сцену сватовства:
Наутро сваха к ним на двор Нежданная приходит, Наташу хвалит, разговор С отцом ее заводит:
«У вас товар, у нас купец, Собою парень молодец, И статный, и проворной, Не вздорный, не задорной.
Богат, умен, ни перед кем Не кланяется в пояс,
Акак боярин между тем Живет, не беспокоясь;
Аподарит невесте вдруг И лисью шубу, и жемчуг, И перстни золотые, И платья парчевые.
Катаясь, видел он вчера Ее за воротами; Не по рукам ли, да с двора,
Да в церковь с образами?» Она сидит за пирогом Да речь ведет обиняком, А бедная невеста Себе не видит места.
«Согласен, — говорит отец — Ступай благополучно, Моя Наташа, под венец; Одной в светелке скучно. Не век девицей вековать, Не все касатке распевать, Пора гнездо устроить, Чтоб детушек покоить».
И такова вся эта баллада от первого до последнего слова! В народных русских песнях, вместе взятых, не больше русской народности, сколько заключено ее в этой балладе! Но не в таких произведениях должно видеть образцы проникнутых национальным духом поэтических созданий, — и публика не без основания не обратила особенного внимания на эту чудную балладу. Мир, так верно и ярко изображенный в ней, слишком) доступен для всякого таланта уже по слишком резкой его особенности. Сверх того, он так тесен, мелок и немногосложен, что истинный талант не долго будет воспроизводить его, если не захочет, чтоб его произведения были односторонни,
однообразны, скучны и, наконец, пошлы, несмотря на все их достоинства. Вот почему человек с талантом делает обыкновенно не более одной или, много, двух попыток в таком роде: для него это — дело между прочим, затеянное больше из желания испытать свои силы и на этом поприще, нежели из особенного уважения к этому поприщу. Лермонтова «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова», не превосходя пушкинского «Жениха» со стороны формы, слишком много превосходит его со стороны содержания. Это — поэма, в сравнении с которою ничтожны все богатырские народно-русские поэмы, собранные Киршею Даниловым. И между тем «Песня» Лермонтова была не более, как опыт таланта, проба пера, и очевидно, что Лермонтов никогда ничего больше не написал бы в этом роде. В этой песне Лермонтов взял все, что только мог ему представить сборник Кирши Данилова; и новая попытка в этом роде была бы по необходимости повторением одного и того же — старые погудки на новый лад. Чувства и страсти людей этого мира так однообразны в своем проявлении; общественные отношения людей этого мира так просты и несложны, что все это легко исчерпывается до дна одним произведением сильного таланта. Разнообразие страстей, тонкие до бесконечности оттенки чувств, бесчисленно многосложные отношения людей, общественные и частные, — вот где богатая почва для цветов поэзии, и эту почву может приготовить только сильно развивающаяся или развившаяся цивилизация. Произведения вроде «Jeanne» {«Жанна». — Ред.} Жоржа Занда возможны только во Франции, потому что там цивилизация, в многосложности ее элементов, все сословия поставила в тесное и электрически взаимнодействующее отношение друг к другу. Наша поэзия, напротив, должна искать для себя материалов почти исключительно в том классе, который, по своему образу жизни и обычаям, представляет более развития и умственного движения. И если национальность составляет одно из высочайших достоинств поэтических произведений, то, без сомнения, истинно национальных произведений должно искать у нас только между такими поэтическими созданиями, которых содержание взято из жизни сословия, создавшегося по реформе Петра Великого и усвоившего себе формы образованного быта. Но большинство публики до сих пор понимает это дело иначе. Назовите народным или национальным произведением «Руслана и Людмилу», — и с вами все согласятся, что это действительно и народное, и национальное произведение. Еще более будут согласны с вами, если вы назовете народным произведением всякую пьесу, в которой действуют мужики и бабы, бородатые купцы и мещане или в котором действующие лица пересыпают свой незатейливый разговор русскими пословицами и поговорками и, вдобавок, пропускают между ними риторические, на семинарский манер, фразы о народности и т. п. Люди, более умные и образованные, охотно (и притом весьма основательно) видят народную русскую поэзию в баснях Крылова и даже готовы видеть ее (что уже не так основательно) не только в сказках Пушкина («О царе Салтане», «О мертвой царевне и о семи богатырях»), но и (что уже вовсе неосновательно) в сказках Жуковского («О царе Берендее до колен борода» и «О спящей царевне»). Но немногие согласятся с вами, и для многих покажется странным, если вы скажете, что первая истинно национально-русская поэма в стихах была и есть — «Евгений Онегин» Пушкина и что в ней народности больше, нежели в каком угодно другом народном русском сочинении. А между тем это такая же истина, как и то, что дважды два — четыре. Если ее не все признают национальною — это потому, что у нас издавна укоренилось престранное мнение, будто бы русский во фраке или русская в корсете — уже не русские и что русский дух дает себя чувствовать только там, где есть зипун, лапти, сивуха и кислая капуста. В этом случае у нас многие даже и между так называемыми образованными людьми бессознательно подражают русскому простонародью, которое всякого чужестранца из Европы _называет_ немцем. И вот где источник пустой боязни некоторых, чтоб мы все не онемечились! Все европейские народы развивались, как один народ, сперва под сению католического единства, духовного (в лице папы) и светского (в лице избранного главы священной Римской империи), а потом под влиянием одних и тех же стремлений к последним результатам цивилизации, — однако тем не менее между французом, немцем, англичанином, итальянцем, шведом, испанцем такая же существенная разница, как и между русским и индийцем. Это струны одного и того же инструмента — духа человеческого, но струны разного объема, каждая с своим особенным звуком, и потому-то они издают полные гармонические аккорды. Если же народы Западной Европы, все равно происходящие от великого тевтонского племени, большею частию смешавшегося с романскими племенами, все равно развившиеся на почве одной и той же религии, под влиянием одних и тех же обычаев, одного и того же общественного устройства и потом все равно воспользовавшиеся богатым наследием древнеклассического мира, — если, говорим, все
народы Западной Европы, составляющие собою единое семейство, тем не менее резко отличаются один от другого, то естественное ли дело, чтоб русский народ, возникший на другой почве, под другим небом, имевший свою историю, ни в чем не похожую на историю ни одного западноевропейского народа, естественно ли, чтоб русский народ, усвоив себе одежду и обычаи европейские, мог утратить свою национальную самобытность и походить, как две капли воды, на каждого из европейских народов, из которых каждый друг от друга резко отличается и физическою, и нравственною физиономиею?.. Да это нелепость нелепостей! хуже этого ничего нельзя выдумать! Первая причина особности племени или народа заключается в почве и климате занимаемой им страны; а много ли на земном шаре стран, одинаковых в геологическом и климатологическом отношениях? И потому, чтоб напор европейских обычаев и идей мог лишить русских их национальности, для этого нужно, прежде всего, ровный, степной материк России превратить в гористый; бесконечное его пространство сделать меньшим, по крайней мере, в десять раз (за исключением Сибири). И много, кроме того, нужно бы сделать такого, чего нельзя сделать и о чем фантазировать на досуге прилично только господам Маниловым. Далее: бедна та народность, которая трепещет за свою самостоятельность при всяком соприкосновении с другою народностью! Наши самозванные патриоты не видят, в простоте ума и сердца своего, что, беспрестанно боясь за русскую национальность, они тем! самым жестоко оскорбляют ее. Но когда сделалось всегда победоносным русское войско, — если не тогда, как Петр Великий одел его в европейское платье и приучил его сообразной с этим платьем военной дисциплине? Как-то естественно видеть толпу крестьян, дурно вооруженных, еще хуже дисциплинированных, по случаю войны недавно оторванных от избы и сохи, как-то естественно видеть их бегущими в беспорядке с поля битвы; точно так же, как естественно видеть полки солдат, даже и при военной неудаче, или храбро умирающими на поле битвы, или отступающими в грозном* порядке. Некоторые из горячих славянолюбов говорят: «Посмотрите на немца, — — он везде немец, и в России, и во Франции, и в Индии; француз тоже везде француз, куда бы ни занесла его судьба; а русский в Англии — англичанин, во Франции — француз, в Германии — немец. Действительно, в этом есть своя сторона истины, которой нельзя оспоривать, но которая служит не к унижению, а к чести русских. Это свойство удачно применяться ко всякому народу, ко всякой стране отнюдь не есть исключительное свойство только образованных сословий в России, но свойство всего русского племени, всей северной Руси. Этим свойством русский человек отличается и от всех других славянских племен, и, может быть, ему-то и обязан он своим превосходством над ними. Известно, что наши русские солдаты — удивительные природные философы и политики и нигде ничему не удивляются, но все находят очень естественным), как бы это все ни было противоположно их понятиям и привычкам. Чтоб слишком не распространяться об этом предмете, ссылаемся, для краткости, на замечание Лермонтова об удивительной способности русского человека применяться к обычаям тех народов, среди которых ему случается жить. «Не знаю (говорит автор «Героя нашего времени»), достойно порицания или похвалы это свойство ума, только оно доказывает неимоверную его гибкость и присутствие этого ясного здравого смысла, который прощает зло везде, где видит его необходимость или невозможность его уничтожения». Здесь дело идет о Кавказе, а не о Европе; но русский человек везде тот же. Угловатый немец, тяжеловато гордый Джон-Буль уже самыми их ухватками и манерами никогда и нигде не скроют своего происхождения; и после француза только русский может по наружности казаться просто человеком, не нося на своем лбу национального клейма или паспорта. Но из этого отнюдь не следует, чтобы русский, умея в Англии походить на англичанина, а во Франции — на француза, хоть на минуту перестал быть русским или хоть на минуту не шутя мог сделаться англичанином или французом. Форма и сущность не всегда одно и то же. Хорошую форму почему не усвоить себе, но от сущности своей отрешиться совсем не так легко, как променять охабень на фрак. Между русскими есть много галломанов, англоманов, германоманов и разных других «манов». Посмотришь на них: точно так, — с которой стороны ни зайди: — англичанин, француз, немец да и только. Если англоман, да еще богатый, то и лошади у него англизированные, и жокеи, и грумы, словно сейчас из Лондона привезенные, и парк в английском вкусе, и портер он пьет исправно, любит ростбиф и пуддинг, на комфорте помешан и даже боксирует не хуже любого английского кучера. Если галломан, — одет как модная картинка, по-французски говорит не хуже парижанина, на все смотрит с равнодушным презрением, при случае почитает долгом быть и любезным и остроумным. Если германоман, — больше всего любит искусство как искусство, науку как науку, романтизирует, презирает толпу, не хочет внешнего
счастия и выше всего ставит созерцательное блаженство своего внутреннего мира… Но пошлите всех этих господ пожить — англоманов в Англию, галломанов во Францию, германоманов в Германию, да и посмотрите, так ли охотно, как вы, поспешат англичане, французы и немцы признать своими соотечественниками наших англоманов, галломанов и германоманов… Нет, не попадут они в соотечественники этим народам, а только разве прослывут между ними притчею во языцех, сделаются предметом всеобщего оскорбительного внимания и удивления. Это потому, повторяем, что усвоить чуждую форму совсем не то, что отрешиться от собственной сущности. Русский за границею легко может быть принят за уроженца страны, в которой он временно живет, потому что на улице, в » трактире, на балу, в дилижансе о человеке заключают по его виду; но в отношениях гражданских, семейных, но в положениях жизни исключительных — другое дело: тут поневоле обнаружится всякая национальность, и каждый поневоле явится сыном своей и пасынком чужой земли. С этой точки зрения русскому гораздо легче прослыть за англичанина в России, нежели в Англии. Но в отношении к отдельным личностям еще могут быть странные исключения: в отношении же к народам никогда. Доказательством могут служить те славянские племена, которых исторические судьбы были тесно связаны с судьбами Западной Европы: Чехия отовсюду окружена тевтонским племенем; властителями ее в течение целых столетий были немцы, развилась она вместе с ними на почве католицизма и упредила их и словом и делом религиозного обновления — и что ж? Чехи до сих пор славяне, до сих пор не только не германцы, но и не совсем европейцы…
Все сказанное нами было необходимым отступлением для опровержения t неосновательного мнения, будто бы в деле литературы чисто русскую народность должно искать только в сочинениях, которых содержание заимствовано из жизни низших и необразованных классов. Вследствие этого странного мнения, оглашающего «нерусским» все, что есть в России лучшего и образованнейшего, вследствие этого лапотно-сермяжного мнения какой-нибудь грубый фарс с мужиками и бабами есть национально-русское произведение, а «Горе от ума» есть тоже русское, но только уже не национальное произведение; какой-нибудь площадный роман, вроде «Разгулья купеческих сынков в Марьиной роще», есть хотя и плохое, однако тем не менее национальнорусское произведение, а «Герой нашего времени», хотя и превосходное, однако тем не менее русское, но не национальное произведение… Нет, и тысячу раз нет! Пора, наконец, вооружиться против этого мнения всею силою здравого смысла, всею энергиею неумолимой логики! Мы далеки уже от того блаженного времени, когда псевдоклассическое направление нашей литературы допускало в изящные создания только людей высшего круга и образованных сословий, и если иногда позволяло выводить в поэме, драме или эклоге простолюдинов, то не иначе, как умытых, причесанных, разодетых и говорящих не своим языком. Да, мы далеки от этого псевдоклассического времени; но пора уже отдалиться нам и от этого псевдоромантического направления, которое, обрадовавшись слову «народность» и праву представлять в поэмах и драмах не только честных людей низшего звания, но даже воров и плутов, вообразило, что истинная национальность скрывается только под зипуном, в курн_о_й избе и что разбитый на кулачном бою нос пьяного лакея есть истинно шекспировская черта, — а главное, что между людьми образованными нельзя искать и признаков чего-нибудь похожего на народность. Пора, наконец, догадаться, что, напротив, русский поэт может себя показать истинно национальным поэтом, только изображая в своих произведениях жизнь образованных сословий: ибо, чтоб найти национальные элементы в жизни, наполовину прикрывшейся прежде чуждыми ей формами, — для этого поэту нужно и иметь большой талант, и быть национальным в душе. «Истинная национальность (говорит Гоголь) состоит не в описании сарафана, но в самом духе народа; поэт может быть даже и тогда национален, когда описывает совершенно сторонний мир, но глядит на него глазами своей национальной стихии, глазами всего народа, когда чувствует и говорит так, что соотечественникам его кажется, будто это чувствуют и говорят они сами». {385} Разгадать тайну народной психеи, для поэта, — значит уметь равно быть верным действительности при изображении и низших, и средних, и высших сословий. Кто умеет схватывать резкие оттенки только грубой простонародной жизни, не умея схватывать более тонких и сложных оттенков образованной жизни, тот никогда не будет великим поэтом и еще менее имеет право на громкое титло национального поэта. Великий национальный поэт равно умеет заставить говорить и барина, и мужика их языком. И если произведение, которого содержание взято из жизни образованных сословий, не заслуживает названия национального, — значит, оно ничего не стоит и в художественном отношении, потому что неверно духу изображаемой им действительности. Поэтому не только такие произведения, как
«Горе от ума» и «Мертвые души», но и такие, как «Герой нашего времени», суть столько же национальные, сколько и превосходные поэтические создания.
И первым таким национально-художественным произведением был «Евгений Онегин» Пушкина. В этой решимости молодого поэта представить нравственную физиономию наиболее оевропеившегося в России сословия нельзя не видеть доказательства, что он был и глубоко сознавал себя национальным поэтом. Он понял, что время эпических поэм давным-давно прошло и что для изображения современного общества, в котором проза жизни так глубоко проникла самую поэзию жизни, нужен роман, а не эпическая поэма. Он взял эту жизнь, как она есть, не отвлекая от нее только одних поэтических ее мгновений; взял ее со всем холодом, со всею ее прозою и пошлостию. И такая смелость была бы менее удивительною, если бы роман затеян был в прозе; но писать подобный роман в стихах в такое время, когда на русском языке не было ни одного порядочного романа и в прозе, — такая смелость, оправданная огромным успехом, была несомненным свидетельством гениальности поэта. Правда, на руском языке было одно прекрасное (по своему времени) произведение, вроде повести в стихах: мы говорим о «Модной жене» Дмитриева; но между ею и «Онегиным» нет ничего общего уже потому только, что «Модную жену» так же легко счесть за вольный перевод или переделку с французского, как и за оригинально русское произведение. Если из сочинений Пушкина хоть одно может иметь что-нибудь общего с прекрасною и остроумною сказкою Дмитриева, так это, как мы уже и заметили в последней статье, «Граф Нулин»; но и тут сходство заключается совсем! не в поэтическом достоинстве обоих произведений. Форма романов вроде «Онегина» создана Байроном; по крайней мере, манера рассказа, смесь прозы и поэзии в изображаемой действительности, отступления, обращения поэта к самому себе и особенно это слишком ощутительное присутствие лица поэта в созданном им произведении, — все это есть дело Байрона. Конечно, усвоить чужую новую форму для собственного содержания совсем не то, что самому изобрести ее; тем не менее, при сравнении «Онегина» Пушкина с «Дон-Хуаном», «Чайльд-Гарольдом» и «Беппо» Байрона, нельзя найти ничего общего, кроме формы и манеры. Не только содержание, но и дух поэм Байрона уничтожает всякую возможность существенного сходства между ими и «Онегиным» Пушкина. Байрон писал о Европе для Европы; этот субъективный дух, столь могущий и глубокий, эта личность, столь колоссальная, гордая и непреклонная, стремилась не столько к изображению современного человечества, сколько к суду над его прошедшею и настоящею историею. Повторяем: тут нечего искать и тени какоголибо сходства. Пушкин писал о России для России, — и мы видим признак его самобытного и гениального таланта в том, что, верный своей натуре, совершенно противоположной натуре Байрона, и своему художническому инстинкту, он далек был от того, чтобы соблазниться создать что-нибудь в байроновском роде, пиша русский роман. Сделай он это — и толпа превознесла бы его выше звезд; слава мгновенная, но великая была бы наградою за его ложный tour de force {Ловкая штука. — Ред.}. Но, повторяем, Пушкин как поэт был слишком велик для подобного шутовского подвига, столь обольстительного для обыкновенных талантов. Он заботился не о том, чтоб походить на Байрона, а о том, чтоб быть самим собою и быть верным той действительности, до него еще непочатой и нетронутой, которая просилась под перо его. И зато его «Онегин» — в высшей степени оригинальное и национально-русское произведение. Вместе с современным ему гениальным творением Грибоедова — «Горе от ума» {«Горе от ума» было написано Грибоедовым в бытность его в Тифлисе, до 1823 года, но написано вчерне. По возвращении в Россию, в 1823 году, Грибоедов подвергнул свою комедию значительным исправлениям. В первый раз большой отрывок из нее был напечатан в альманахе «Талия», в 1825 году. Первая глава «Онегина» появилась в печати в 1825 году, когда, вероятно, у Пушкина было уже готово несколько глав этой поэмы.}, стихотворный роман Пушкина положил прочное основание новой русской поэзии, новой русской литературе. До этих двух произведений, как мы уже и заметили выше, русские поэты еще умели быть поэтами, воспевая чуждые русской действительности предметы, и почти не умели быть поэтами, принимаясь за изображение мира русской жизни. Исключение остается только за Державиным, в поэзии которого, как мы уже не раз говорили, проблескивают искорки элементов русской жизни, за Крыловым и, наконец, за Фонвизиным, который, — впрочем, был в своих комедиях больше даровитым копистом русской действительности, нежели ее творческим воспроизводителем. Несмотря на все недостатки, довольно важные, комедии Грибоедова, — она, как произведение сильного таланта, глубокого и самостоятельного ума, была первою русскою комедиею, в которой нет ничего подражательного, нет ложных мотивов и неестественных красок,
но в которой и целое, и подробности, и сюжет, и характеры, и страсти, и действия, и мнения, и язык — все насквозь проникнуто глубокою истиною русской действительности. Что же касается до стихов, которыми написано «Горе от ума», — в этом отношении Грибоедов надолго убил всякую возможность русской комедии в стихах. Нужен гениальный талант, чтобы продолжать с успехом начатое Грибоедовым дело: меч Ахилла под силу только Аяксам и Одиссеям. То же можно сказать и в отношении к «Онегину», хотя, впрочем, ему и обязаны своим появлением некоторые, далеко не равные ему, но все-таки замечательные попытки, тогда как «Горе от ума» до сих пор высится в нашей литературе геркулесовскими столбами, за которые никому еще не удалось заглянуть. Пример неслыханный: пьеса, которую вся грамотная Россия выучила наизусть еще в рукописных списках более чем за десять лет до появления ее в печати! {386} Стихи Грибоедова обратились в пословицы и поговорки; комедия его сделалась неисчерпаемым источником применений на события ежедневной жизни, неистощимым рудником» эпиграфов! И, хотя никак нельзя доказать прямого влияния со стороны языка и даже стиха басен Крылова на язык и стих комедии Грибоедова, однако нельзя и совершенно отвергать его: так в органически историческом развитии литературы все сцепляется и связывается одно с другим! Басни Хемницера и Дмитриева относятся к басням Крылова, как просто талантливые произведения относятся к гениальным произведениям, но тем не менее Крылов много обязан Хемницеру и Дмитриеву. Так и Грибоедов: он не учился у Крылова, не подражал ему: он только воспользовался его завоеванием, чтоб самому итти дальше своим собственным путем. Не будь Крылова в русской литературе, стих Грибоедова не был бы так свободно, так вольно, развязно оригинален, словом, не шагнул бы так страшно далеко. Но не этим только ограничивается подвиг Грибоедова: вместе с «Онегиным» Пушкина его «Горе от ума» было первым образцом поэтического изображения русской действительности в обширном значении слова. В этом отношении оба эти произведения положили собою основание последующей литературе, были школою, из которой вышли и Лермонтов и Гоголь. Без «Онегина» был бы невозможен «Герой нашего времени», так же как без «Онегина» и «Горя от ума» Гоголь не почувствовал бы себя готовым на изображение русской действительности, исполненное такой глубины и истины. Ложная манера изображать русскую действительность, существовавшая до «Онегина» и «Горя от ума», еще и теперь не исчезла из русской литературы. Чтоб убедиться в этом, стоит только обречь себя на смотрение или на чтение новых драматических пьес, даваемых на русском театре обеих столиц. Это не что иное, как искаженная французская жизнь, самовольно назвавшаяся русскою жизнию; это — исковерканные французские характеры, прикрывшиеся русскими именами. На русскую повесть Гоголь имел сильное влияние, но комедии его остались одинокими, как и «горе от ума». Значит: изображать верно свое родное, то, что у нас перед глазами, что нас окружает, чуть ли не труднее, чем изображать чужое. Причина этой трудности заключается в том, что у нас форму всегда принимают за сущность, а модный костюм — за европеизм; другими словами: в том, что _народность_ смешивают с _простонародностью_ и думают, что кто не принадлежит к простонародию, то есть кто пьет шампанское, а не пенник, и ходит во фраке, а не в смуром кафтане, — того должно изображать то как француза, то как испанца, то как англичанина. Некоторые из наших литераторов, имея способность более или менее верно списывать портреты, не имеют способности видеть в настоящем их свете те лица, с которых они пишут портреты: мудрено ли, что в их портретах нет никакого сходства с оригиналами и что, читая их романы, повести и драмы, невольно спрашиваешь себя:
С кого они портреты пишут? Где разговоры эти слышут? А если и случалось им,
Так мы их слышать не хотим. {387}
Таланты этого рода — плохие мыслители; фантазия у них развита на счет ума. Они не понимают, что _тайна национальности_ каждого народа заключается не в его одежде и кухне, а в его, так сказать, манере понимать вещи. Чтоб верно изображать какое-нибудь общество, надо сперва постигнуть его сущность, его особность, — а этого нельзя иначе сделать, как узнав фактически и оценив философски ту сумму правил, которыми держится общество. У всякого народа две философии: одна ученая, книжная, торжественная и праздничная, другая — ежедневная, домашняя, обиходная. Часто обе эти философии находятся более или менее в близком соотношении
друг к другу; и кто хочет изображать общество, тому надо познакомиться с обеими, но последнюю особенно необходимо изучить. Так точно, кто хочет узнать какой-нибудь народ, тот, прежде всего, должен изучить его в его семейном, домашнем быту. Кажется, что бы за важность могли иметь два такие слова, как, например, авось и живет, а между тем они очень важны, и, не понимая их важности, иногда нельзя понять иного романа, не только самому написать роман. И вот глубокое знание этой-то обиходной философии и сделало «Онегина» и «Горе от ума» произведениями оригинальными и чисто русскими.
Содержание «Онегина» так хорошо известно всем и каждому, что нет никакой надобности излагать его подробно. Но, чтоб добраться до лежащей в его основании идеи, мы расскажем его в этих немногих словах. Воспитанная в деревенской глуши молодая, мечтательная девушка влюбляется в молодого петербургского — говоря нынешним языком — льва, который, наскучив светскою жизнию, приехал скучать в свою деревню. Она решается написать к нему письмо, дышащее наивною страстию; он отвечает ей на словах, что не может ее любить и что не считает себя созданным для «блаженства семейной жизни». Потом из пустой причины Онегин вызван на дуэль женихом сестры нашей влюбленной героини и убивает его. Смерть Ленского надолго разлучает Татьяну с Онегиным. Разочарованная в своих юных мечтах, бедная девушка склоняется на слезы и мольбы старой своей матери и выходит замуж за _генерала_, потому что ей было все равно, за кого бы ни выйти, если уже нельзя было не выходить ни за кого. Онегин встречает Татьяну в Петербурге и едва узнает ее: так переменилась она, так мало осталось в ней сходства между простенькою деревенскою девочкою и великолепною петербургскою дамою. В Онегине вспыхивает страсть к Татьяне; он пишет к ней письмо, и на этот раз уже она отвечает ему на словах, что хотя и любит его, тем не менее принадлежать ему не может — по гордости добродетели. Вот и все содержание «Онегина». Многие находили и теперь еще находят, что тут нет никакого содержания, потому что роман ничем! не кончается. В самом деле, тут нет ни смерти (ни от чахотки, ни от кинжала), ни свадьбы — этого привилегированного конца всех романов, повестей и драм, в особенности русских. Сверх того, сколько тут несообразностей! Пока Татьяна была девушкою, Онегин отвечал холодностию на ее страстное признание, но когда она стала женщиною, — он до безумия влюбился в нее, даже не будучи уверен, что она его любит. Неестественно, вовсе неестественно! А какой безнравственный характер у этого человека: холодно читает он мораль влюбленной в него девушке, вместо того чтоб взять да тотчас и влюбиться в нее самому и потом, испросив по форме у ее дражайших родителей их родительского благословения навекинерушимого, совокупиться с нею узами законного брака и сделаться счастливейшим в мире человеком. Потом: Онегин ни за что убивает бедногоЛенского, этого юного поэта с золотыми надеждами и радужными мечтами — и хоть бы раз заплакал о нем или по крайней мере проговорил патетическую речь, где упоминалось бы об окровавленной тени и проч. Так или почти так судили и судят еще и теперь об «Онегине» многие из «почтеннейших читателей»; по крайней мере нам случалось слышать много таких суждений, которые во время _о_но бесили нас, а теперь только забавляют. Один великий критик даже печатно сказал, что в «Онегине» нет целого, что это — просто поэтическая болтовня о том, о сем, а больше ни о чем. {388} Великий критик основывался в своем заключении, во-первых, на том, что в конце поэмы нет ни свадьбы, ни похорон, и, во-вторых, на этом свидетельстве самого поэта:
Промчалось много, много дней С тех пор, как юная Татьяна
Ис ней Онегин _в смутном сне_ Являлися впервые мне —
Идаль свободного романа
Я сквозь магический кристалл _Еще не ясно_ различал.
Великий критик не догадался, что поэт благодаря своему творческому инстинкту мог написать полное и оконченное сочинение, не обдумав предварительно его плана, и умел остановиться именно там, где роман сам собою чудесно заканчивается и развязывается — на картине потерявшегося, после объяснения с Татьяною, Онегина. Но мы об этом скажем в своем месте, равно как и о том, что ничего не может быть естественнее отношений Онегина к Татьяне в продолжение
всего романа и что Онегин совсем не изверг, не развратный человек, хотя в то же время и совсем не герой добродетели. К числу великих заслуг Пушкина принадлежит и то, что он вывел из моды и чудовищ порока и героев добродетели, рисуя вместо их просто людей.
Мы начали статью с того, что «Онегин» есть поэтически верная действительности картина русского общества в известную эпоху. Картина эта явилась во-время, то есть именно тогда, когда явилось то, с чего можно было срисовать ее — общество. Вследствие реформы Петра Великого в России должно было образоваться общество, совершенно отдельное от массы народа по своему образу жизни. Но одно исключительное положение еще не производит общества: чтоб оно сформировалось, нужны были особенные основания, которые обеспечивали бы его существование, и нужно было образование, которое давало бы ему не одно внешнее, но и внутреннее единство. Екатерина II, _жалованною грамотою_, определила в 1785 году права и обязанности дворянства. Это обстоятельство сообщило совершенно новый характер вельможеству — единственному сословию, которое при Екатерине II-й достигло высшего своего развития и было просвещенным, образованным сословием. Вследствие нравственного движения, сообщенного грамотою 1785 года, за вельможеством начал возникать класс среднего дворянства. Под словом _возникать_ мы разумеем слово _образовываться_. В царствование Александра Благословенного значение этого, во всех отношениях лучшего, сословия все увеличивалось и увеличивалось, потому что образование все более и более проникало во все углы огромной провинции, усеянной помещичьими владениями. Таким образом формировалось общество, для которого благородные наслаждения бытия становились уже потребностию, как признак возникающей духовной жизни. Общество это удовлетворялось уже не одною охотою, роскошью и пирами, даже не одними танцами и картами: оно говорило и читало по-французски, музыка и рисование тоже входили у него, как необходимость, в план воспитания детей. Державин, Фонвизин и Богданович — эти поэты, в свое время известные только одному двору, тогда сделались более или менее известными и этому возникающему обществу. Но что всего важнее — у него явилась своя литература, уже более легкая, живая, общественная и _светская_, нежели тяжелая, школьная и книжная. Если Новиков распространил изданием книг и журналов всякого рода охоту к чтению и книжную торговлю и через это создал массу читателей, то Карамзин своею реформою языка, направлением, духом и формою своих сочинений породил литературный вкус и создал публику. Тогда-то и поэзия вошла как элемент в жизнь нового общества. Красавицы и молодые люди толпами бросились на _Лизин пруд_, чтоб _слезою чувствительности_ почтить память горестной жертвы страсти и обольщения. Стихотворения Дмитриева, запечатленные умом, вкусом, остротою и грациею, имели такой же успех и такое же влияние, как и проза Карамзина. Порожденные ими сентиментальность и мечтательность, несмотря на их смешную сторону, были великим шагом вперед для молодого общества. Трагедии Озерова придали еще более силы и блеска этому направлению. Басни Крылова давно уже не только читались взрослыми, но и заучивались наизусть детьми. Вскоре появился юноша-поэт, который в эту сентиментальную литературу внес романтические элементы глубокого чувства, фантастической мечтательности и эксцентрического стремления в область чудесного и неведомого и который познакомил и породнил русскую музу с музою Германии и Англии. Влияние литературы на общество было гораздо важнее, нежели как у нас об этом думают: литература, сближая и сдружая людей разных сословий узами вкуса и стремлением к благородным наслаждениям жизни, _сословие_ превратила в _общество_. Но, несмотря на то, не подлежит никакому сомнению, что класс дворянства был и по преимуществу представителем общества, и по преимуществу непосредственным источником образования всего общества. Увеличение средств к народному образованию, учреждение университетов, гимназий, училищ заставляло общество расти не по дням, а по часам. Время от 1812 до 1815 года было великою эпохою для России. Мы разумеем здесь не только внешнее величие и блеск, какими покрыла себя Россия в эту великую для нее эпоху, но и внутреннее преуспеяние в гражданственности и образовании, бывшее результатом этой эпохи. Можно сказать без преувеличения, что Россия больше прожила и дальше шагнула от 1812 года до настоящей минуты, нежели от царствования Петра до 1812 года. С одной стороны, 12-й год, потрясши всю Россию из конца в конец, пробудил ее спящие силы и открыл в ней новые, дотоле неизвестные источники сил, чувством общей опасности сплотил в одну огромную массу косневшие в чувстве разъединенных интересов частные воли, возбудил народное сознание и народную гордость и всем этим способствовал зарождению публичности, как началу общественного мнения; кроме того, 12-й год нанес сильный удар коснеющей старине: вследствие его исчезли неслужащие
дворяне, спокойно родившиеся и умиравшие в своих деревнях, не выезжая за заповедную черту их владений; глушь и дичь быстро исчезали вместе с потрясенными остатками старины. С другой стороны, вся Россия, в лице своего победоносного войска, лицом к лицу увиделась с Европою, пройдя по ней путем побед и торжеств. Все это сильно способствовало возрастанию и укреплению возникшего общества. В двадцатых годах текущего столетия русская литература от подражательности устремилась к самобытности: явился Пушкин. Он любил сословие, в котором почти исключительно выразился прогресс русского общества и к которому принадлежал сам, — и в «Онегине» он решился представить нам внутреннюю жизнь этого сословия, а вместе с ним и общество в том виде, в каком оно находилось в избранную им эпоху, то есть в двадцатых годах текущего столетия. И здесь нельзя не подивиться быстроте, с которою движется вперед русское общество: мы смотрим на «Онегина», как на роман времени, от которого мы уже далеки. Идеалы, мотивы этого времени уже так чужды нам, так вне идеалов и мотивов нашего времени… «Герой нашего времени» был новым «Онегиным»; едва прошло четыре года, — и Печорин уже не современный идеал. И вот в каком смысле сказали мы, что самые недостатки «Онегина» суть в то же время и его величайшие достоинства: эти недостатки можно выразить одним словом — «стар_о_»; но разве вина поэта, что в России все движется так быстро? и разве это не великая заслуга со стороны поэта, что он так верно умел схватить действительность известного мгновения из жизни общества? Если б в «Онегине» ничто не казалось теперь устаревшим или отсталым от нашего времени, — это было бы явным признаком, что в этой поэме нет истины, что в ней изображено не действительно существовавшее, а воображаемое общество; в таком случав что ж бы это была за поэма и стоило бы говорить о ней?..
Мы уже коснулись содержания «Онегина»; обратимся к разбору характеров действующих лиц этого романа. Несмотря на то, что роман носит на себе имя своего героя, — в романе не один, а два героя: Онегин и Татьяна. В обоих их должно видеть представителей обоих полов русского общества в ту эпоху. Обратимся к первому. Поэт очень хорошо сделал, выбрав себе героя из высшего круга общества. Онегин отнюдь не вельможа (уже и потому, что временем вельможества был только век Екатерины II).; Онегин — светский человек. Мы знаем, наши литераторы не любят света и светских людей, хотя и помешаны на страсти изображать их. Что касается лично до нас, мы совсем не светские люди и в свете не бываем; но не питаем к нему никаких мещанских предубеждений. Когда высший свет изображается такими писателями, как Пушкин, Грибоедов, Лермонтов, князь Одоевский, граф Соллогуб, мы любим литературное изображение большого света так же, как и изображение всякого другого света и не света, с талантом и знанием выполненное. Только в одном случае не можем терпеть большого света: именно, когда изображают его сочинители, которым должны быть гораздо знакомее нравы кондитерских и чиновничьих гостиных, чем аристократических салонов. Позвольте сделать еще оговорку: мы отнюдь не смешиваем светскости с аристократизмом, хотя и чаще всего они встречаются вместе. Будьте вы человеком какого вам угодно происхождения, держитесь, каких вам угодно убеждений, — светскость вас не испортит, а только улучшит. Говорят: в свете жизнь тратится на мелочи, самые святые чувства приносятся в жертву расчету и приличиям. Правда; но разве в среднем кругу общества жизнь тратится только на одно великое, а чувство и разум не приносятся в жертву расчету и приличию? О, нет, тысячу раз нет! Вся разница среднего света от высшего состоит в том, что в первом больше мелочности, претензий, чванства, ломания, мелкого честолюбия, принужденности и лицемерства. Говорят: в светской жизни много дурных сторон. Правда; а разве в несветской жизни одни только хорошие стороны? Говорят: свет убивает вдохновение, и Шекспир и Шиллер не были светскими людьми. Правда; но они не были и ни купцами, ни мещанами — они были просто людьми, так же точно, как и Байрон — аристократ и светский человек — своим вдохновением более всего обязан был тому, что он был человек. Вот почему мы не хотим подражать некоторым нашим литераторам в их предубеждениях против страшного для них невидимки — большого света, и вот почему мы очень рады, что Пушкин героем своего романа взял светского человека. — И что же тут дурного? Высший круг общества был в то время уже в апогее своего развития; притом светскость не помешала же Онегину сойтись с Ленским — этим наиболее странным и смешным в глазах света существом. Правда, Онегину было дико в обществе Лариных, но образованность еще более, нежели светскость, была причиною этого. Не спорим, общество Лариных очень мило, особенно в стихах Пушкина, но нам, хоть мы и совеем не светские люди, было бы в нем не совсем ловко, тем более, что мы решительно неспособны поддержать благоразумного разговора о псарне, о вине, о сенокосе, о
