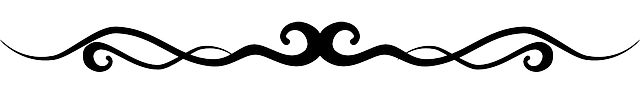ВОЛЬНЫЕ ЛЮДИ
— Эк, горой вас раздуй! Здесь что, место преступления или лавка мясника?! — зычно рявкнул сотрудник сыскной полиции Василий Романенко, едва переступив порог квартиры убитого ростовщика и тотчас угодив сапогом в лужу крови.
Квартира и впрямь представляла собой зрелище пугающее. Посреди просторной комнаты лежал ещё не старый мужчина, элегантно одетый, с тремя пулевыми ранами в груди. Судя по многочисленным лужам крови, оставленным на полу, убитый умер не сразу, а пытался убежать от убийцы, который, по-видимому, напал на него в соседнем помещении. Заглянув туда, Романенко увидел накрытый на двоих стол с опрокинутым и разбитым вдребезги графином (судя по запаху, в нём была водка) и нетронутой закуской, несколько опрокинутых стульев. В стене обнаружилась небольшая ниша, дверца которой была распахнута. Видимо, это был тайник. На ручке двери, разделявшей помещения, виднелся отчётливый отпечаток окровавленной руки. Очевидно, после первого выстрела несчастный ещё пытался спастись, захлопнуть дверь и не выпустить убийцу, но это ему не удалось. Недалеко от трупа на полу сидела молодая очень красивая женщина с отсутствующим взглядом широко распахнутых глаз, сжимавшая в руках револьвер.
Чтобы вполне оценить картину произошедшего Романенко понадобилось несколько минут, после чего он подозвал к себе квартального надзирателя:
— Докладывай, Кулебяка.
— Да что докладывать, Василь Васильич? Сами, буде, видите, какое тут смертоубийство, — вздохнул Кулебяка, отирая платком сияющую лысину.
— Да уж вижу! — зло бросил Романенко. — Час от часу нелегче! Мало мне Рахманова, так ещё это теперь… Черти бы их драли всех!
— Никак начальство опять лютует, Василь Васильич?
— И его бы тоже черти драли… Вынь да положь им Рахманова! Что я, рожу его, что ли? Он, каторжанин, с пересылки дёру дал, а из меня теперь жилы тянут, будто бы я его упустил… Да ты что ж мне зубы-то заговариваешь? Ты мне давай о нонешнем пой. Кто труп нашёл? Какие свидетели есть? Слышал ли кто выстрелы? Это кто? — Романенко кивнул на неподвижную женщину.
— Это, буде, сожительница покойного Михаила Осипыча Лавровича. Как зовут, неизвестно покуда, так как она, подлянка, молчит. Но, склоняюсь к мнению, что она его и спровадила на тот свет. Мы её так и нашли: с пистолетом в руках. Свидетелей покуда, буде, лишь двое. Дворник тутошный Клим Карпыч да соседка Варвара Антиповна. Желаете сами беседу с ними иметь?
— Да уж, пожалуй, — ответил Романенко, снимая с себя мешковатый сак. — Я, братец, привык сам всё выслушивать и осматривать, а то неспокойно мне. Где с ними потолковать-то можно?
— Так, я полагаю, у Варвары Антиповны. Буде она этажом выше проживает. И дворник там теперь. Я нарочно распорядился, чтобы не искать потом. И доктора пришлю к вам. Он, буде, сюда ещё прежде нас прибыл, так что кое-что рассказать может.
— Так уж пойду возьму их в разделку, — решил Романенко.
— Разрешите и мне с вами, — подал голос молодой человек с ярко синими глазами, который всё это время задумчиво бродил по квартире, пристально рассматривая каждый угол, каждую деталь.
— А с кем имею честь? — полюбопытствовал Василь Васильич.
— Помощник следователя Немировского, титулярный советник Пётр Андреевич Вигель.
— Рад знакомству, — Романенко протянул Вигелю руку. — Василь Васильич Романенко.
— Я о вас слышал, — улыбнулся Вигель, пожимая руку Романенко. — Так что же, не будете возражать против моего присутствия?
— Да с какой же стати? Ваше полное право, — Василь Васильич направился к двери, приговаривая: — Цоп-топ по болоту шёл поп на охоту…
Вигель последовал за ним.
Дверь в квартиру Варвары Антиповны оказалась открытой, и изнутри доносились приглушённые голоса. Хозяйка вместе с дворником пребывали на кухне, сидя за наскоро накрытым столом.
— Хороша у вас наливочка, Варвара Антиповна! — крякнул Клим Карпыч, ставя опорожнённую рюмку на стол.
— Муж-покойник ещё вкуснее приготовлять умел. Мастер был, царствие ему небесное!
Романенко вошёл в кухню, отбросив со лба свои тёмные нестриженные давно волосы, имеющие вид причёски, называемой «а ля мужик».
— Доброго здоровья всем, — сказал он.
— Здорово, ваше благородие! — отозвался дворник.
— И тебе, батюшка, доброго, — ответила хозяйка. — Присаживайтесь. Не хотите ли угоститься?
— Я на службе, благодарю, — Романенко сел за стол.
Следом за ним в кухню вошёл Вигель и примостился в углу, с интересом всматриваясь в лица присутствующих. Дворник покосился на него, затем — на Василь Васильча, и сказал:
— Вот, мы тут соседушку помянуть собрались…
— Не рановато ли поминать-то начал, борода? — нахмурился Романенко. — Ведь мне тебя, чёрта, ещё поспрошать надо, а ты уж глазом стреляешь.
— Господь с вами, ваше благородие! Я ж едва пригубил! Да мне ж, чтобы уж не соображать ничего, надо цельный этот самый графин без закуси употребить, и того мало будет! Так что вы свои вопросы задавайте. Я отвечать готовый.
— Ну, для начала расскажите-ка мне оба всё, что знаете об убиенном нынче Лавровиче.
— Да что рассказывать, ваше благородие? Близко мы его не знавали. В Москву приехал он с год тому назад. Обосновался в нашем доме да ссудную лавку открыл. Сами понимаете, что люди разные к нему шатались. Правда, приходили они не через парадный подъезд, чтобы лишних неудобств не делать, а через чёрный ход. Были и господа солидные, и студенты… Некоторые и частенько заглядывали…
— Михаил Осипыч, царствие ему небесное, человек неплохой был, — продолжила Варвара Антиповна. — У него обычно тихо было. Не пил, не буйствовал, всегда такой вежливый да обходительный был. Даже и не подумаешь, что таким делом занимается… Правда, слабость была у него… Даже не знаю, как сказать…
— Что ты, мать, зарделась-то? Дело-то обычное! До баб был падок покойник, ваше благородие! Весьма даже охоч! Месяц спустя как он приехал да обосновался стала к нему краля ходить. Вся такая пышная да размалёванная! Известного, в общем, сорта краля! Пробы ставить негде. У ней даже голос хриплый такой был…
— А смех такой нахальный! Аж у меня слыхать было! И ругалась непотребно! Сам-то покойник не позволял себе, а, вот, она… Прямо подлянка, прости господи! Стыд один!
— Зато, по всему видать, горяча была, аки конь необъезженный. Скусная.
— Жила она здесь?
— Да нет, батюшка. Господь миловал. Но бывала часто. А иногда и другие бывали…
— А потом куда-то испарилась. А он откель-то новую кралю приволок. Вы её видали, должно. Месяца три назад привёз и поселил у себя.
— Как звать её, не знаете?
— Не знаем, батюшка. Он её всё какими-то ласкательными прозвищами называл, а по имени — никогда. Даже чудно. А, как она появилась, так других он приводить сюда перестал.
— Однажды та шушундра, прежняя-то его приходила, так он её даже в дом не пустил.
— А что она хотела?
— По-моему, денег, батюшка. Ух, как она на него серчала! А он ей так спокойно ответил: «Ты свой отступной уж получила! Больше ни алтына не получишь. А ещё раз заявишься, так я уж устрою, чтобы и положенной уже суммы ты не увидела!» С тем она и ушла, зараза.
— Только, ваше благородие, горбатого, видно, могила исправит. Стал Михал Осипыч из дому часто в последнюю пору отлучаться. Раз был я у родственников. Недели две назад, кажись… Шёл я мимо одной ресторации. Глядь: а из неё выходит наш Михал Осипыч с какой-то барышней, совсем-совсем юной. Извозчика остановил, подсадил её, сам следом сел, приобнял её и велел везти их в Газетный переулок. По всему видать, ваше благородие, что в «Кавказ» он свою кралю новую повёз, в номера тамошние.
— Вот, бесстыдник-то! — покачала головой Варвара Антиповна.
— А нонешняя-то его, видать, про то узнала.
— И какие тут скандалы начались! Батюшки святы! Прежде она такая тихая была! А тут криком кричала на него!
— Что кричала-то?
— Ой, батюшка, глуховата я. Плохо расслышала. Но угрожала! Точно помню. Убить грозилась! Как раз намедни это было.
— У Михайлы Осипыча револьверт был. Так она им завладела. Я вечор в окно заглядываю и вижу такую картину: стоит он посредь комнаты, а она на диване сидит и револьверт на него направляет. То на него наведёт, то к виску своему приставит. Он ей крикнул что-то. Крикнул и убежал. Из дома выбежал, я его спрашиваю: «Михал Осипыч, что ж вы мер не предпримите? А ну, как она, подлянка, в вас пульнёт?» А он мне: «Нет. Никогда она в меня не выстрелит. Это она пугает только». А вечером, когда он вернулся, так она ему в ноги кинулась, ноги обхватила, рыдает! Мол, прости дуру! На том и примирились… Да только, вот, ненадолго хватило…
— Эх, неужто она его? — вздохнула Варвара Антиповна. — Даже не верится. Такая тихая, красивая… Жалко её.
— Что сегодня случилось, можете рассказать что-нибудь?
— С утра я, батюшка, слышала, как они ругались. Он кричал, чтобы она револьверт вернула, а она не отдавала. Потом всё тихо было. А потом я к обедне ушла. Я всякий день в этот час к обедне хожу. Пришла, а тут такое… — старушка всхлипнула и поправила выбившуюся из-под чепца прядь.
— А я вечор употребил крепко… — признался дворник. — У приятеля моего именины были. А я, когда с перепою, так сплю по полдня, как убитый, совершенно бесчувственный.
— Хорош гусь!
— Грешен, ваше благородие!
— И что ж, неужели выстрелов не слыхал?
— Да помстилось во сне… Так, говорю ж, пьян был. Думал, снится… А очнулся я уж, когда вопли услышал. Она так, бедняга, кричала, как зарезанная…
— Сразу после выстрелов?
— Да откуда ж я помнить могу? — пожал плечами дворник. — Услышал я её вопли, кинулся к Михал Осипычу в квартиру. А там он лежит… А она над ним стоит: руки окровавленные, в одной пистолет держит, в лице ни кровинке, вопит. Велела врача звать. А доктор-то у нас недалече живёт: я к нему, а затем к квартальному надзирателю… Вот и всё.
— А вы были в квартире после убийства? — подал голос Вигель.
— Были, батюшка, — кивнула Варвара Антиповна.
— И, что же? Не пропало ли что?
— Да кто ж его знает, ваше благородие! — махнул рукой дворник. — Я у покойника в приятелях не хаживал. Шут его знает, что у него там было…
— Я не совсем уверена… — Варвара Антиповна помялась. — У Михаила Осиповича часы были. Бригет. Золотые. Известной марки. С брильянтом даже. Очень дорогие. Он иногда хвастал ими: уж очень ими покойник дорожил и гордился. Я, правда, на него, убитого, мельком лишь глянула… Страшно ведь! Он там лежит, в крови весь… Но, по-моему, часов не было…
— Так он мог их в другом костюме оставить, — пожал плечами Романенко.
— Разумеется… Я так… На всякий случай.
— Ладно, проверим, что там с часами. Впрочем, картина, по первому абцугу, весьма явственной представляется: убийство из ревности. Банальный случай. Надо только установить личность этой дамы… А что, больше никто в доме не живёт?
— Нет, батюшка. Есть ещё одна квартира, на третьем этаже. Но она уж полгода пустует. А прежде там жил какой-то чиновник с семейством. А потом переехал… Теперь, вот, одна осталась! — Варвара Антиповна утёрла глаза платком.
— Теперь можно помянуть? — спросил Клим Карпыч Романенко.
— Поминай уж! — махнул рукой Василь Васильич, поднимаясь из-за стола. — Пойдёмте с доктором потолкуем, — добавил он, обращаясь к Вигелю.
В дверях квартиры убитого сыщики столкнулись с носилками, на коих выносили труп. Вигель приподнял покрывавшую покойника простыню и со вздохом опустил опять.
Внутри картина переменилась мало. Сожительница Лавровича сидела на том же месте и в той же позе. Только пистолета в её руках уже не было. Его забрал квартальный надзиратель, сидевший тут же за письменным столом и что-то записывающий. У окна стоял высокий сухопарый господин с глубоко посаженными глазами и курил.
— А, Василь Васильич, Петр Андреич, допросили уже? — повернулся всем своим плотным торсом Кулебяка. — Вот, я попросил доктора Жуховцева задержаться. Можете поговорить с ним.
Сухопарый господин поклонился:
— Жуховцев, Иван Аркадьевич. Честно говоря, мне особенно нечего вам сказать… Смерть наступила в результате трёх пулевых ранений, два из которых, по крайней мере, были смертельными. Первая пуля попала в живот и прошла навылет. После этого потерпевший выбежал из той комнаты в эту и попытался захлопнуть дверь, но ему это не удалось. Убийца выстрелил ещё два раза. Последний раз уже в лежащего. Пули попали область сердца. Вот, и всё. Когда я пришёл, делать мне уже было нечего.
— А как вела себя эта дама? — спросил Романенко.
— Да так же, как и теперь. У неё глубокий шок. Правда, вначале она всё повторяла: «Это я виновата. Гадина я. Лучше б мне вовсе не жить… Прости меня, голубчик…» Она ещё имя называла… Но не имя убитого, что меня удивило.
— Какое же имя?
— Из головы вылетело, простите. Я был занят осмотром жертвы, надеясь, что ещё можно сделать что-то… А она почти сразу замолчала.
— Странное дело, у кого же она прощения могла просить?
— Этого уж я не знаю. Я могу идти? Меня ещё сегодня ждут пациенты…
— Да, конечно, доктор. Спасибо вам.
— Всего доброго! — Жуховцев откланялся и вышел.
Романенко прошёлся по комнате и, остановившись возле Вигеля, сидевшего на диване и что-то рисовавшего карандашом в блокноте, заглянул ему через плечо. С белой страницы на него смотрел портрет безымянной сожительницы Лавровича.
— Ба! — ахнул Василь Васильич, прищурив бирюзовые глаза. — Да вы, Пётр Андреич, прямо-таки художник, как я погляжу! Как это ловко у вас вышло! А ведь пригодиться ваш портрет может, чтобы личность нашей дамочки выяснить.
— Вы всё-таки полагаете, Василь Васильич, что она и есть убийца? — спросил Вигель, пряча блокнот.
В этот момент вошли двое полицейских и, осторожно подняв под руки убитую горем женщину, увели её.
— Да все улики на лицо как будто!
— Как будто… Но есть много странностей.
— Каких же? — Романенко закурил папиросу и опустился на стул.
— Во-первых, открытый тайник, где покойник, по-видимому, хранил деньги и ценные бумаги.
— Он мог сам открыть его зачем-нибудь.
— Мог, — согласился Вигель. — Но почему при осмотре квартиры ни денег, ни ценных бумаг обнаружено не было? Вещи, принятые в заклад, на месте. Они хранились в шкатулке, в ящике бюро, запертом на ключ. Я ничего не путаю, господин Кулебяка?
— Никак нет. Всё так.
— Спрашивается, куда могли деться деньги и ценные бумаги? А также часы? Варвара Антиповна оказалась права: часов нет. Итого, на лицо кража!
— Да не спешите вы так. Часы покойник мог, в конце концов, потерять. Или отдать в починку. Что ещё вас не устраивает, милейший Пётр Андреевич?
— Ещё меня не устаивает само убийство. Пули были выпущены точно, метко, холоднокровно. Если предположить, что стреляла вышедшая из себя от ревности женщина (впрочем, любящая женщина: помните сцену примирения, которую нам описал дворник?), то пули должны были бы попасть, куда попало. Более того, если она выстрелила в состоянии приближённом к помешательству, сгоряча, так сказать, то вид крови (вид страданий любимого человека!) должен был бы остановить её. Но нет! Она бежит за ним. И стреляет ещё. Причём, заметьте, точнее, чем прежде. И ещё раз — в лежащего уже! Нет, это никак не походит на убийство из ревности, в состоянии аффекта.
— Вы ещё и психолог! — усмехнулся Романенко. — Что ж, не оспариваю: в ваших доводах есть смысл. Эх, освинел народ: убивают, воруют — чем дальше, тем больше. Однако, пока эта метреска — единственная наша подозреваемая. К слову, забыл спросить вас, этим делом будет заниматься следователь Немировский?
— Да.
— Это хорошо. Это очень хорошо! Во-первых, замечательно умный человек, с которым работать в удовольствие. Во-вторых, чудо как с людьми разговаривать умеет. Может, и нашу даму разговорит. Если уж он не сумеет, так уж и не знаю…
— Так, если здесь работа завершена, не направиться ли нам прямо к Николаю Степановичу? Составим план расследования. Мне отчего-то кажется, что дело это весьма интересным будет.
— Романтик вы! — заметил Романенко. — Однако, вы правы, едемте. Иван Мефодьевич, заканчивай здесь всё, а мы уж пойдём, — повернулся он к Кулебяке.
— Будет сделано, Василь Васильич! До свиданьица! — кивнул Кулебяка.
— И тебе не хворать, — Романенко накинул свой сак и вместе с Вигелем вышел на улицу. Там дожидалась их пролётка.
По дороге Василь Васильич спросил:
— А всё-таки какие версии у вас?
Вигель задумчиво сдвинул брови:
— Первая: убийство сожительницей из ревности со всеми не выясненными странностями. Второе: хладнокровное убийство ею же с целью ограбления… Впрочем, мало вероятно, потому что тогда бы она сбежала, а не осталась на месте преступления с оружием в руках и не звала бы на помощь. Может быть, у неё был сообщник. Ведь называла же она чьё-то имя, по свидетельству доктора. Он-то и совершил преступление, забрав деньги, а она помешалась, когда осознала ужас содеянного…
— Вам бы романы писать, — усмехнулся Романенко. — Это же не версии, а лабуда какая-то, уж извините. По мне, так есть одна ещё версия. Первая любовница Лавровича, которая требовала с него денег. Правда, непонятно, какую роль в таком раскладе играет наша таинственная незнакомка. Так что это тоже, конечно, версия сродни вашей… Романическая.
— А если ограбление? Вообще не связанное с его женщинами? Ведь никто не видел, кто входил и кто выходил от Лавровича сегодня! Может такое быть?
— Быть всё может. Но револьвер был в руках у этой очаровательный метрески, которую вы столь недурственно изобразили. Пока ясно одно: убил Лавровича кто-то из своих. Кто-то, кого он хорошо знал и от кого не ждал нападения. Более того, готовился с ним или с ней отобедать, водочки выпить да грибочками закусить. Чужих водку пить не приглашают. Тем более, ростовщики! Кстати, я бы водочки теперь выпил… Так жалко было её, разлитую там… Вы какую водочку предпочитаете, Пётр Андреевич?
— Кизлярскую, — улыбнулся Вигель.
— А я Ерофеича предпочитаю. Можно и лачком покрыть…
— Да нет, водка с пивом — это чересчур!
— Это вы от молодости говорите. Не привыкли ещё. Вот, раскроем это дело с вами и айда в ресторацию. В «Палермо»! Няни откушаем да калачей фаршированных! Настоящая русская еда! А лучше — в баню! Я баню очень уважаю. Из Ламакинских как заново родившийся выходишь! Вы как насчёт баньки?
— С удовольствием, Василь Васильич!
— Ну, вот, и славно! — улыбнулся Романенко, откинув голову и закрыв глаза. — Не поверите, милостивый государь, третьи сутки не сполю с этим жульём, горой его раздуй…
— Приехали! — доложил извозчик.
— Вот, чёрт, а? Так и не успел вздремнуть, — вздохнул Василь Васильич. — Найду этого сукина сына Рахманова, так самолично в битое мясо превращу! А я его… найду! Не родился ещё вор, которого бы Василий Романенко в Москве не нашёл!
***
Евдокия Васильевна Луцкая отложила счета и, откинувшись на спинку глубокого кресла, сняла очки и закрыла глаза. Мелодично звякнули украшавшие её запястья серебряные браслеты, следы былой роскоши… Когда-то Евдокия Васильевна была принята в обществе, блистала на балах и часто бывала в театре. С того времени осталась лишь до сей поры безупречная царственная стать, манеры, почти странные среди окружавшей её бедности, да эти браслеты. Когда-то у неё был свой дом, не большой, но уютный. Дом, где она была счастлива несколько лет, будучи женой лучшего, как казалось ей, человека. Однако, природа скупа на счастье и, дав его однажды в избытке, после компенсирует… горем. Горе в семью Луцких вломилось, как шайка разбойников-громил, варваров. Вначале сгорело дотла небольшое имение под Калугой, приносившее Луцким большую часть дохода, потом, не вынеся случившегося, ударом скончался глава семейства. Скончался, не оставив семье ничего, кроме долгов. С долгами вдова рассчиталась, продав дом, а сама вместе с дочерью, верной её нянькой, ставшей с той поры и кухаркой, перебралась в меблированные комнаты на Сретенском бульваре. По смерти мужа Евдокии Васильевне был положен пенсион, но был он весьма мал, и его не хватало. А ведь дочери, барышне на выданье, нужно было хоть какое-то образование дать, одеться прилично. И комнаты должны были выглядеть хоть небогато, но достойно, чтобы нестыдно было принимать редких гостей. Просить у кого-то помощи Луцкая не желала. Мешала врождённая гордость.
— Я и умирать буду — стоя! — говорила она.
Эта гордая барыня, однако, втайне занялась вместе с няней шитьём, портя зимними ночами свои некогда сияющие глаза. В случае крайности, продавали оставшиеся ценные вещи.
Вскоре в новом жилище Луцких появился ещё один жилец. Его звали Сергей Никитенко. Был он студентом, но до того бедным, что не имел даже пальто, а в холод спасался пледом. Прежде Никитенко жил, как и многие студенты, в Латинском квартале, но, заболев чахоткой, вынужден был, не имея средств к существованию, оставить университет. Тогда-то и предложил он давать уроки нуждающимся по разным предметам за предоставление угла и пропитания.
Вначале Евдокия Васильевна была против, чтобы какой-то студент жил в их доме: мало ли, что ждать от него? Но когда он явился к ней, худой, бледный, с запавшими и болезненными глазами и длинными, прилипшими ко лбу волосами, в своей нищенской фризке, башлыке, пледе и ботинках, подошва на одном из которых отвалилась и была привязана платком, держа в одной руке связку книг, а в другой ящичек, в коем оказался микроскоп, старая барыня поняла, что просто не может выгнать этого несчастного, больного юношу на улицу, где бушевала зима, которая непременно свела бы его в могилу. Ей, всегда мечтавшей о сыне, стало жаль Никитенко, матерински жаль, захотелось приласкать его, обогреть… Луцкая взяла его учителем для своей дочери Зины не за знания, оценить коих не имела возможности, а из человеколюбия, которое не смогло убить даже собственное бедственное положение.
Впрочем, юноша, в самом деле, оказался знающим и с успехом обучал Зиночку математике, географии и иным полезным наукам, не исключая астрономии. Правда, он часто болел, а вначале, в первую зиму ту и вовсе несколько недель пролежал, харкая кровью, и лишь жарко натопленные комнаты и заботы няни, Нины Марковны, а также участие Евдокии Васильевны и Зины, поставили его на ноги. С тех пор прошёл почти год, и за это время Никитенко стал для Луцких членом семьи: сыном, братом — в общем, человеком родным и дорогим.
Вот, и теперь, сквозь тонкую перегородку, Луцкая слышала, как Серёжа растолковывал Зиночке очередную теорему, а та смеялась в ответ:
— Серёжинька, может быть, я вам лучше на фортепиано сыграю?
— Сыграете, Зиночка, но после урока, — тихий, вкрадчивый голос.
Евдокия Васильевна запахнула душегрейку и вздохнула:
— Ох-ох-ох, жизнь наша сибирская: куда ни кинь — всюду клин… Се терибль!4
— Что, матушка, опять случилось что? — спросила Нина Марковна, входя в комнату, чуть приволакивая ногу.
— Да всё то же, Марковна… Денег нет, ничего нет… Ты, чаю, с базара?
— С базара, родимая. Цены-то прямо басурманские! Не подступиться ни к чему… Вот, прежде-то жизня была. Манность небесная да и только!
— Что в городе-то слыхать? Потешь меня, расскажи что-нибудь…
— А что ж рассказывать, матушка? Говорят, будто бы Брюс воскрес-таки и зараз по городу шастает. Хотя и расчленил его ученик-то подлый, а сам с его женою, ведьмой, сбежал, а Брюс таки посильнее его колдуном оказался. Вот, минуло сто лет, он и возвернулся. Такие-то страсти, матушка! — старуха округлила глаза.
— Марковна! — рассмеялась Евдокия Васильевна. — Да ведь это же чушь всё… Глупости… Неужто ты веришь этим россказням?
— Ты, родимая, сама же просила рассказать, о чём говорят. А поверить-то тоже можно. Нынче-то такие дела тёмные делаются, что не приведи Господь! Люди среди бела дня пропадают. А иных убивают… Вот, намедни, сказывают, ростовщика в собственному дому не то застрелили, не то зарезали. Полюбовница евонная… Кровисчи там было, кровисчи! Мне молочник говорил…
— Ну, полно, Марковна, ужасы всякие рассказывать! Се терибль!2 И так кошки на душе скребут…
— А ещё торговец один всякие женскому полу нужные вещи предлагал… Ходит с узлом, а в узле кружева всякие да платки, да шали…
— Вот ещё! Нужна-то нам чухонская рухлядь! Нам бы, Марковна, — Луцкая понизила голос, — Серёже пальто, какое ни на есть, справить. Зима уж почитай! А у него пальто нет… Опять ему всю зиму из дому носу не высовывать, у печи сидеть… Нужно ему пальто. Ведь хворый он такой…
— Нужно-то оно нужно, да откуда ж взять? У нас же грош с копейкою не сталкивается! — вздохнула няня.
— А то я сама о том не знаю… Так ведь продать можно что-нибудь… Серьги мои, например. Анатоль в прошлый раз за весьма серьёзную сумму кольцо моё продал… А Зиночке такой чудный медальон подарил… Что-то не заходил он давно к нам… Странно… Уж не забыл ли он нашу Зину? Ведь лучшей-то пары ей не сыскать… Кругом-то всё алтынники да охмурялы… Честного человека и не отыщешь!
— Ох, Евдокия Васильевна, не во гнев тебе будет сказано, но не нравится мне ваш Анатоль! — покачала головой Нина Марковна.
— Да чем же, помилуй?
— Лицом он, матушка, бел, а душой черен! Помяни моё слово!
— Глупости ты болтаешь, Марковна! — рассердилась Луцкая. — Мы Анатолю стольким обязаны! Уж он и в делах мне помогает, и Зиночку на выставки да в приличные места водит, и подарки дарит, и вежлив, и собою хорош! Сразу видать, порядочный человек!
— Воля твоя, барыня, а не верю я ему.
Евдокия Васильевна махнула рукой, звякнув браслетами:
— Пойди лучше на кухню, принеси-ка мне травничку. Нервы что-то шалят у меня…
— Сейчас, матушка, — кивнула няня, кутаясь в залатанную местами шаль, и направилась на кухню.
Анатоль, ставший причиной раздора в доме Луцких, появился прошлой весной. Тогда Нина Марковна и Зина возвращались с базара. Ноша их была тяжёлая, и обе изрядно запыхались. Внезапно рядом остановилась коляска, и молодой человек учтиво предложил подвезти их. Зина немедля согласилась, и Нина Марковна сочла, что ничего дурного в том, чтобы воспользоваться любезным предложением, нет.
На другой день Анатоль, оказавшийся студентом и представившийся отпрыском довольно известной фамилии, явился к Луцким с визитом и сразу покорил и мать, и дочь внешним изяществом, безупречностью манер, тонкостью беседы и тем, что пришёл не с пустыми руками, а с подарком: большой коробкой шоколадных конфет. Молодой человек был весьма тонок в кости и двигался, танцуя, точно вместо суставов у него были шарниры, а к подошвам приделаны пружины. Черты белого лица его, обрамлённого белокурыми волосами, были столь мелки, что, пожалуй, больше бы подошли женщине, нежели мужчине. В довершении всего от Анатоля пахло флёрдоранжем, а руки его были холёны и изобличали пристальное слежение за собою. В манерах и обхождении его было также очень много женского. Женственность — вот, пожалуй, было слово, определяющее всё существо Анатоля.
Нине Марковне это не понравилось сразу.
— Разве ж это мужчина? Красная девица и только! И весь-то такой сахарный да сладкий, что аж противно: приторный весь…
— Так сладок мёд, что, наконец, и горек… — согласился с нею Никитенко.
— Да что это вы, Серёжинька, говорите такое? — возмутилась Зина.
— Это не я… Это Шекспир… — отозвался Никитенко.
— Да вы просто завидуете ему! Потому что он красив, знатен и деньги имеет, а у вас нет ничего!
— Благодарю, что напомнили, — Сергей закашлялся и вышел.
Зина смутилась и, поймав уничижительный взгляд няни, побежала вслед за своим учителем, чтобы просить прощения. Мать же её пожала плечами:
— В конце концов, не ему, бездомовнику, под нашей крышей приют имеющему, такие рассуждения излагать!
Зина в Анатоля влюбилась. Он казался ей принцем, о котором она так мечтала. Когда он приходил, она расцветала, сама поила его чаем, играла ему на фортепиано, а иногда они вместе гуляли…
Однажды Анатоль застал Евдокию Васильевну сильно огорчённой.
— Что-то случилось? — спросил он. — Могу ли я помочь вам? Располагайте мною!
— Ах, Анатоль, я хочу заложить мою брошь, но решительно не предполагаю цены её… Думаю, рублей сто она стоит… Я так неопытна в таких делах!
— Что ж, это неудивительно. А могу ли я взглянуть на брошь?
— Да, пожалуйста, — кивнула Луцкая, доставая из комода шкатулку. — Мон дьё!5 Сущее разорение, сударь мой, сущее разорение…
Анатоль посмотрел брошь и сказал уверенно:
— Она стоит больше ста рублей. Конечно, в лавке всю цену не дадут. Но я мог бы снести её одному ростовщику, с коим прежде приходилось мне иметь дело, и, думаю, мне удалось бы отстоять ваши интересы в той мере, в какой это возможно.
— Я была бы вам очень благодарна, но… — Луцкая замялась.
— Вы боитесь отдать дорогую вещь в руки человека, ещё не очень близкого? — докончил Анатоль. — Совершенно понимаю. Вы абсолютно правы. В наше время никому доверять нельзя. Я оставлю вам сто двадцать рублей и завтра же снесу брошь, куда следует. Думаю, что принесу и ещё дополнительно некоторую сумму. Согласны?
— О, вы благороднейший человек, Анатоль! Моя признательность будет безграничной! Же ву ремерси тре бьен!6
— Дё рьян!7 — улыбнулся Анатоль, галантно целуя руку Луцкой.
В тот же день он отчислил Евдокии Васильевне сто двадцать рублей и забрал брошь. На другой день он принёс ещё сорок рублей к величайшей радости Луцкой. С тех пор она советовалась с Анатолем во всех делах и уже не раз поручала ему заложить или продать ту или иную свою вещь.
Пару месяцев назад Анатоль был вынужден уехать по семейным делам в Петербург, и Евдокия Васильевна с дочерью не находили себе места, пока он, наконец, не вернулся. Вернулся Анатоль очень усталым.
— Уж не захворали ли вы, шер ами8? — обеспокоено спросила Евдокия Васильевна.
— Чепуха… Немного простудился в столице. Знаете ли, там ведь сыро очень. Климат не то, что у нас. Вот и не уберёгся.
— Вы уж берегите себя, сударь мой! Я ведь без вас, как без рук теперь!
— Не беспокойтесь, Евдокия Васильевна! Я всегда готов вам услужить! — улыбнулся в ответ Анатоль немного устало.
И всё-таки Нине Марковне не нравился этот смазливый и услужливый молодой человек, но даже самой себе не могла она объяснить, чем.
Войдя на кухню, старуха застала там Никитенко. Он сидел, упёршись острыми локтями в стол, низко опустив голову, и о чём-то думал. Нина Марковна ласково погладила его по плечу:
— Ну, что ты, яхонтовый мой, загрустил? Давай-ка я тебе супа согрею. Тебе горячего нужно больше есть, а то, не приведи Господь, опять расхвораешься! И хлебца горбушку отрежу тебе. Тёплый ещё: только что из пекарни. Ну, что за кручина у тебя? Иль нездоровится?
— С Зиною я опять едва не поссорился, Нина Марковна, — вздохнул Серёжа. — У ней теперь весь разговор только об её Анатоле. Что сказал, да как посмотрел… Да всё в окно поглядывает: не идёт ли? А я сердцем чувствую, что дурной он человек… А, может, и впрямь от зависти я на него взъелся. И сказать ей не смею! А каково мне слушать её? Слушать о том, какой он прекрасный, о том, как она его любит? Ведь это же невыносимо… Я одной вам скажу, Нина Марковна, потому что мочи нет в себе держать: я ведь Зинаиду Прокофьевну больше жизни люблю!
— Батюшки святы! — старуха присела на край стула, подпёрла рукой голову. — Ну и дела…
— Вы только не сердитесь на меня! И худого не подумайте! Я Зине только счастья желаю! А со мною — какое ж счастье? Я ведь хуже пустого места… Бездомовник нищий. Даже пальто у меня нет. Студент-недоучка. А ещё и больной! Я ж только землю зазря копчу! — голос Серёжи задрожал. — Я б к её ногам мир бросить хотел, я бы… А что ж я могу ей, которой нет лучше в мире, дать? Только сердце своё, жизнь свою… А много ли это? Я и смотреть-то не смею на неё. От стыда за себя. За то, что, если я теперь ещё существую и солнце вижу, то лишь по неизъяснимой доброте её матери, меня пожалевшей… А каково это жить, зная, что живёшь лишь благодаря чьей-то к тебе жалости?! Я от всего этого иной раз убить хочу! Не знаю, кого! Может быть, себя… Она моего страдания не знает, любви моей не ведает, и, дай Бог, чтобы не узнала. Этого уж не простит она мне! И тогда я даже быть рядом с нею, как друг, права иметь не буду! Нельзя любить такому, как я, человеку. И меня любить нельзя. Это же преступление… Непростительно!
— Да что ж ты говоришь такое, родимый! — сплеснула руками Нина Марковна. — Окстись! Христос с тобою, милый мой! Да тебе ли на себя такое наговаривать? У тебя ж душа-то андельская. Да нешто ж так себя изводить-то можно?!
Никитенко опустил голову на стол. Плечи его дрожали от рыданий. Нина Марковна обняла его, прижала его голову к груди и, гладя по волосам, зашептала:
— Ну, что ты? Что ты? Успокойся, яхонтовый мой. Христос терпел и нам велел. Ты думаешь, у меня жизнь сладкая была? Эх, ты, чадунюшко неразумное… Меня девчонкою замуж выдали… Мы тогда в деревне ещё жили. Муж меня смертным боем бил, а в семье его надо мной потешались. Всю самую трудную работу на меня взваливали: в поле, дома… Придёшь иной раз ночью, дух вон от усталости, а этот ещё с ласками лезет… И одна думка в голове: хоть бы ты сгинул, проклятый… Я и брюхата была, а он меня кулаками потчевал. Как не забил до смерти, не знаю… Пятеро детишков у меня было, и все преставились. До трёх лет лишь сынок вторый дожил, а прочие и того прежде померли. Когда третьего схоронила, так меня барыня кормилицей к Зиночке взяла… С той поры я при них… Муж по пьяному делу убился… А я тому, прости Господи, так уж рада была, что и слёз для покойника не нашла. Ничего, кроме страха, за всю жизнь к нему не было у меня. Ничего, кроме боли, от него не знала… Так-то, милый… Такая-то жизнь у меня была…
— Так для чего же жить, Нина Марковна? Если вся жизнь лишь боль и страх и ничего больше? — тихо спросил Серёжа.
— А для того, что закон такой: дадена Богом жизнь — значит, живи. Крючься, зубы сцепляй, глотай слёзы, а живи… Я, вот, тебе такой сказ скажу. Жил был человек. И жизнь его казалась ему нестерпимо тяжёлой. Тогда обратился он к Богу: «Зачем дал мне такую великую ношу? Не по силам она мне! Облегчи!» И Бог облегчил ему ношу. Но и новый груз показался человеку чрезмерным и снова стал он вопить к Господу, чтобы облегчил он его ношу. И опять Бог внял его мольбе. Так продолжалось несколько раз, покуда ноша не исчезла вовсе. Да, вот, оказалось только, что именно эта ноша и удерживала его на земле, а без неё оказался он легче воздуха, и поднял его ветер и унёс, и стал носить по свету. И не может человек ни к земле пристать, ни на небо подняться, где претерпевшие покой обрели, так и мотается между ними вечность, ветром носимый, и плачет об отвергнутой ноше своей… И теперь, должно, где-то витает он…
— Мудрая ты, Нина Марковна! И откуда в тебе столько мудрости?
— Поживи с моё, яхонтовый мой, тоже мудрым будешь…
В этот момент из гостиной послышался крик Евдокии Васильевны:
— Марковна! Марковна! Куда ты пропала? Травник мой готов ли?
Нина Марковна охнула:
— Батюшки святы! Старая я полудурья! Меня же барыня за травничком послала… Нервы у ней шалят нынче… А я и забыла с тобою! — она проворно достала с полки склянку с настойкой и, наполнив ею рюмку, направилась к двери, крикнув: — Иду, матушка, иду!
Обернувшись к Никитенко, старуха сказала:
— Сиди здесь и никуда не уходи. Вернусь — обедом тебя кормить буду! Худенькой ты — в чём только душа-то держится? Сиди, милый! Я сейчас…
— Марковна! Да из ума ты, что ли, выжила?! — раздался грозный крик Луцкой.
— Бегу, матушка, бегу!
Нина Марковна ушла, а Никитенко с грустью посмотрел за окно, где уже падал первый снег. Прошлой ночью ему снилось, как они с Зиной зимою катаются с горы на санках. Она — румяная, красивая, глаза её горят. Она — смеётся. Он смеётся тоже, глядя на неё. И на нём — не плед, а пальто… Сани опрокидываются, и они падают в сугроб, и от этого лишь веселее им. И где-то внутри разрастается солнечный ком, счастье, которого бы хватило на весь мир.
Нина Марковна вскоре вернулась и, ставя на огонь кастрюлю с супом, сказала Серёже:
— Я намедни вещи старые перебирала и нашла костюм и несколько рубашек, что от покойного барина остались. Я-то об них забыла давно, а барыня — и подавно, а тут, вот, нашла. Я их простирну и ушью: авось, тебе сгодятся. Жаль, тёплые его вещи продали мы с самого ещё началу мытарств наших.
За стеной раздались волшебные звуки фортепьяно, клавиш коего коснулись нежные пальцы Зины, и её мелодичный голос зазвенел:
— Дышала ночь восторгом сладострастья,
Неясных дум и трепета полна,
Я вас ждала с безумной жаждой счастья,
Я вас ждала и млела у окна.
Наш уголок я убрала цветами,
К вам одному неслись мечты мои,
Мгновенья мне казалися часами…
Я вас ждала; но вы… вы не пришли…
И тотчас в гостиной послышались шаги Евдокии Васильевны, и уже в комнате дочери её голос произнёс сурово:
— Сладострастье… Млела! Откуда вы понабрались этого, машер?! Ведь это неприлично, ей-Богу!
— Маман, но ведь это очень известный сейчас романс!
— Мон дьё! Се террибль! Изволь уж петь что-нибудь более достойное!
— Хорошо, маман… А он, в самом деле, не пришёл…
— Придёт — никуда не денется!
Нина Марковна покосилась на Никитенко:
— А, по мне, милый мой, так тоже: лучше бы и вовсе он не приходил… Дурной он человек, сердцем знаю… Не верю я ему…
— Дай Бог, чтобы вы ошиблись, а я сошёл с ума от зависти… — прошептал Серёжа. — Ведь его Зина любит…
— Дай Бог… — вздохнула няня.
***
Некогда на углу Певческого переулка возвышался обнесённый забором, похожий на крепость, дом генерала-майора Николая Петровича Хитрова. Сам генерал, впрочем, в этом диком месте не жил. Жил он неподалёку, в доме №39, а тот же дом, №24, населяла его весьма многочисленная челядь. Территория, прилегающая к сему дому, громадный пустырь, также находилась во владении генерала. После кончины его в доме образовался притон, а пустырь, именуемый Вольным местом, обратился в рынок, названный в честь покойного хозяина Хитровым.
На Хитров рынок стекались обычно самые разнообразные обитатели московского дна. Человек, зашедший сюда впервые, с непривычки мог оробеть. Впрочем, торговля на вольном месте шла бойко. Здесь можно было купить всё, что угодно, за самую умеренную плату. Поэтому люди бедные отоваривались преимущественно на Хитровке. Здесь у старьёвщиков можно было разжиться поношенной и залатанной, но, однако же, вполне пристойной ещё одеждой и обувью. Продавалась и всякая полезная в хозяйстве утварь, и старые потрёпанные книги, и разные «чудеса для развлечения», и лечебные травы и снадобья. Можно было разжиться и весьма дорогими и хорошими вещами, продаваемыми из-под полы, если, конечно, покупателя не смущало, что они краденные. Приехавшие в столицу крестьяне, называемые пришлыми, продавали птицу, яйца, молоко, овощи и фрукты по сезону. И всё это — вперемешку. Всё — обильно разбавлено толпами нищих, просивших подаяния. Попадались, впрочем, бродячие артисты, кои закатывали для изумлённой публики диковинные представления с огнеглотанием, хождением на руках, жонглированием и т.п.
— Не проходите мимо! На ваших глазах всемирно известный шпагоглотатель проглотит только что купленные кухонные ножи!
Продавец ножей восторженно крикнул с места:
— Приятного аппетиту! А, ежели угодно, так я вам ещё и топор продам! Не угодно ли?
— Нет, топоры мы ещё не глотаем…
— Жаль!
Среди толпы ходила опитущая тётка с одутловатой физиономией, неся на одной руке орущего младенца, а другой — держа за ручку девочку лет четырёх.
— Люди добрые, помогите сиротам горемычным! Три дня голодаем, с голоду помираем. Подайте, добрые люди! Не дайте дитяткам невинным пропасть!
— А на водку у тебя, шалава, есть деньги?! У кого младенчика-то стырила, бельма твои бесстыжие?!
Тётка быстро ретировалась. Ребёнок перестал кричать. Видимо, оттого, что «мать» перестала щипать его, чтобы он слезами своими вызвал у публики жалость.
Меж рядами запестрели яркие юбки цыганок.
— Барыня-сударыня, позолоти ручку, я тебе на короля бубнового погадаю! Близок он — бубновый-то твой король! Да за ним пиковая дама, разлучница, по пятам ходит. Стерегись её, милая! Вижу впереди у тебя хлопоты пустые да дорогу дальнюю, вижу гость к тебе едет нежданный, едет для разговору сурьёзного! Жди его, барыня-сударыня!
И позолотила ручку оробевшая, окружённая смуглыми гадалками со всех сторон, жертва…
Посреди рынка сидел громадного роста босяк, окружённый слушателями.
— Эх, братцы, где я только ни был! — окал он, гладя бороду. — По Волге родимой ходил, в Киевскую Лавру пеший дошёл, чтобы святыням тамошним поклониться, во Сибири-матушке был, а ещё — на востоке, в самой земле Бухарской. Люди там всё не наши, веры чужой, нравов неизвестных. А зато тепло там да фрукты диковинные прямо на улицах растут: рви и уплетай за обе щёки! Да только, братцы, хоть и хорошо там, а среди чужих людей тяжко жить! У них ведь даже храма православного нет, чтобы голову бедовую приклонить. Не выдержал я такой жизни и ушёл оттуда.
— Басурмане! А верно ли, будто у них гаремы там? По несколько жён у всякого?
— Верно, мать! И ходят они с лицом закрытым, в одеждах просторных. Только глаза видны одни! Блеснёт такая краля глазами из-под покровов своих, и как в сердце — два кинжала турецких! Так и полоснёт! И пропал!
— Надолго ли в Москву возвратился?
— Как знать! Я ведь на месте усидеть не могу. Вот, жил однажды в пустыни одной. Монахи там учёные. Благодать Божья! Сердце слезами умильными обливается в сознание ничтожности своей! Ан не усидел… И оттуда ушёл.
— Тяжелёхонько, поди, по свету-то весь век мыкаться!
— Ничуточки. Босяки — народ славный! Из нашего брата много достойных людей вышло! Вот, хотя бы Гоголя взять! Сочинителя! Тоже из наших, из босяков! Долгие годы по свету хаживал, а потом, вот, сочинять стал, прославился.
— А ты, может, тоже писать станешь?
— А почему бы нет? Видал-то я много! Моей бы жизни на десяток романов хватило! Но покамест погулять ещё хочу, мир посмотреть. Вот, думаю до самой Святой земли податься, Гробу Господню поклониться! А, может, повезёт мне: отыщу я и царство Опоньское… Мечта у меня с ранних лет такая.
— Только уж если найдёшь, так дорогу не позабудь нам сказать! Нам тоже жить порядочно охота.
Среди разношёрстной публики Хитрова рынка встречались подчас и господа состоятельные, заходившие сюда подчас из любопытства. Впрочем, делать этого им никак не следовало. Опытный глаз тотчас выхватывал «солидную дичь» из толпы, и начиналась охота — спектакль, расписанный по актам и ролям.
В тот день в хаосе вольного места был замечен дородный господин приятной наружности в весьма дорогом пальто, неспешно прохаживающийся между рядов, осматривающийся, покупающий какую-то ерунду, слушающий праздные разговоры. Особенно заинтересовался он «копчушками», новыми иконами, которые умельцы закапчивали под старину. Опытному единственному глазу смотрящего достало четверти часа, чтобы приметить, в каком кармане носит господин довольно толстый бумажник с ассигнациями… Как только это было выяснено, в действие вступил новый персонаж: тырщик. Могучий верзила направился за жертвой, умело действуя локтями, отталкивая народ, наседая на богатого господина и заставляя его сворачивать в нужные ряды. Господин, явно встревоженный ускорил шаг, но очень скоро стал задыхаться, и тогда тырщик начал отставать. Когда он исчез, господин проверил, на месте ли бумажник, обрадованный, что отделался от преследователя, утёр лоб и остановился перевести дух, не замечая стоящего неподалёку человека с чёрными вьющимися волосами и чёрными блестящими глазами.
Между тем, это был сам ширмач, то есть карманник. Когда жертва, успокоенная, обрадованная и утерявшая бдительность, переводила дух, он с совершенно равнодушным видом прошёл мимо неё, и даже самый опытный глаз не заметил бы, когда его рука успела извлечь бумажник из пальто господина. Разумеется, и сам господин ничего не почувствовал.
Ширмач сделал несколько шагов, и к нему подбежал коротко стриженый мальчонка, убегало, который, получив из рук ширмача добычу, опрометью умчался с нею.
Когда ограбленный обнаружил пропажу, было уже поздно. Никого из четырёх грабителей уже не было поблизости, и напрасно он кричал на весь рынок с багровым лицом, размахивая кулаками:
— Караул!!! Ограбили!!! Держи вора!!!
Держать было уже некого. И подоспевший городовой лишь развёл руками:
— Ваше благородие, так зачем же вы в эдакое место-то? Здесь же, известное дело… Жульё!
— А, на ка-ко-го чёрты ты, дурак, поставлен здесь??? Не для того ли, чтобы честных людей от воров оберегать?!!! Да я тебя в бараний рог! Я к твоему начальству пойду!!!
Таким образом, весь гнев жертвы обрушился на несчастного городового, который стоял, вытянувшись по стойке смирно, красный и готовый провалиться сквозь землю. А вокруг щурилась, хохотала и тыкала пальцами оборванная, серая, в шрамах и язвах, масса…
Ширмач же спокойно вышел с вольного места и, чуть прихрамывая, прогулочным шагом направился к ближайшей подворотне. Там уже дожидалась коляска, запряжённая двумя быстрыми конями. На месте извозчика сидел верзила-затирщик, а в самой коляске — одноглазый смотрящий, мальчишка-убегало и очень красивая молодая женщина.
Ширмач блеснул оскалом белых зубов, чмокнул красавицу в щёку и сел рядом с нею:
— Ну, маруха, не соскучилась без нас?
— Не называй меня марухой, пожалуйста. Ты ведь знаешь, что мне это неприятно.
— Дура! Маруха — это честь! Подруга вора — чего ж тебе не нравится? Или я для тебя нехорош стал? Может, стыдишься? Чего молчишь?
— Не говори глупостей!
— Гранила, а барин-то богатый оказался! Пятьсот рублей ассигнациями, каково? Вот, ведь чурбан, с таким богатством — да на Хитровку! Небось, чки божие9 прикупить хотел. К ним всё приглядывался, — просипел смотрящий, скручивая папиросу.
— Да, добре поторговали нынче, — сказал затирщик, пуская лошадей рысцой.
Но ширмач молчал, глядя исподлобья чёрными углями глаз.
— Ты что такой невесёлый нынче, гранила? — осведомился смотрящий. — Торговля, как по маслу прошла, денег много у нас… А ты мрачный, аки сыч в дупле, сидишь…
— Сам не знаю, — вздохнул ширмач. — Какая-то мерехлюндия напала на меня. Так и точит, так и точит… Точно Милосердную в душе поют. Ещё сон скверный привиделся, будто бы по Владимирской дороге опять иду… И поют кругом меня как раз эту Милосердную… Так тошно сделалось. Трёх лет не прошло, как я по этой дорожке в кандалах шёл… На вечную каторгу. Да, вот, чёрт ли поворожил, а вернулся в столицу обратником… А теперь думаю, что не придётся мне в другой раз по Владимирке идти. Ждёт меня петля…
— Да что ты говоришь?! — вскрикнула маруха, бросаясь ширмачу на шею. — Не смей, не смей… Какая петля? Зачем петля? А я как же? Никто нас не поймает… Ведь осторожные мы, ведь ты же, как дьявол сам, хитёр…
— Дура… — вздохнул ширмач, гладя красавицу по голове. — Сколь верёвочке не виться, а конец всегда один… Тут уж и на судьбу пенять не приходится.
— В полиции дураки! Они не поймают тебя! Никогда! Никогда!
— Поймают, Дивушка. На всякого волка матёрого свой пёс отыщется. Да и не все лягавые глупцы… Есть, например, такой Василий Романенко… Он в прошлый раз меня изловить сподобился. И нынче изловит. Умный, сволочь…
— Так, может, его, гранила, того… Укокать? Чирикнуть ножичком в тёмном закоулочке — и делов! — осторожно предложил смотрящий.
— На всё-то один ответ у тебя. Нет, его трогать не хочу. Конец всё одно будет. Всё одно изловят. Да, коли он, так хоть незазорно. Он — ровня. Уважаю я его. Ни хабарит, ни чинов не дерёт, а лишь землю носом роет. Дело своё знает. Нет, я таких не трогаю.
— Блажной ты какой-то, гранила… То у тайного советника извернёшься часы сдербанить, то директора департамента петербургского в карты обмишуришь, то человека, что цыплёнка, прибьёшь, а инорядь в какие-то благородные заморчки вдаёшься: ровня, уважаю… Где это видано, чтобы гранила лягаша уважал?!
— Заткнись! — свирепо оскалился ширмач. — А, скажи-ка, сколь у нас ныне денег всего?
— Так пятнадцать тыщ будет, ежели не больше! Благо ащё должок-то старый лакуза нам возвернул! — доложил смотрящий.
— Эко гроши-то в карманах грызутся! — воскликнул ширмач. — Гуляем! А то через день уже пост начнётся, а в пост гулять дурно! Айда к Шипову! Напоследок! Покутим от души, чтобы чертям тошно сделалось!
— А и то правильно, — одобрил затирщик, хлестнув коней. — Самое верное дело от всяческих мерехлюндий. Р-развернись душа — жизня хороша!
Коляска мчалась по городу, и, видя в ней хохочущего смуглого красавца с чёрными кудрями, жмущего к себе рыжую красавицу, и галдящую его свиту, прохожие отшатывались в сторону в испуге, а иные и крестились набожно:
— Никак сам Антихрист едет? Спаси Христос! Прости грехи наши тяжкие!
Шиповым или Шиповской крепостью именовался в Москве бывший дом генерала Шипова, жившего ещё во дни Императрицы Екатерины Великой. Располагался он на Лубянской площади. Дом этот давно уже населяли бедные ремесленники и всякого рода сомнительные личности, облюбовавшие себе бывшую генеральскую вотчину. В лавках у Шипова торговали одеждой и различной рухлядью. Тут же располагались пивные и закусочные, а также трактир, где любили прогуливать шальные деньги личности с сомнительной репутацией.
Ширмач с подручными с шумом ввалились в трактир, где по углам сидело несколько непрезентабельного вида субъектов, а, кроме них, несколько девиц известного поведения.
— И чай пила и булки ела, позабыла, с кем сидела! — визгливо голосила одна из них, пьяная в дым, неприлично закидывая вверх ноги и хохоча.
— Замолкни, шишимора! — рыкнул на неё бородатый мужик, по виду извозчик, с другого конца трактира.
Девица вскочила, повернулась к нему спиной и, хлопнув себя по откляченному заду, крикнула:
— А это видал? Сам заткнись!
Ширмач скинул с себя серую волчью шубу и, лязгнув зубами, рявкнул:
— Трактирщик, принимай гостей!
— Желаете отобедать? — осведомился тотчас прибежавший хозяин заведения.
— И отобедать, и отужинать, и отзавтракать! Мы нынче тоску разомкнуть хотим! Гулять хотим, так, чтобы трещало всё кругом, чтобы страшно было! — ширмач достал пачку денег и, не считая, швырнул их трактирщику. — Пиковые деньги сразу прожигать надо! Они — беду приносят!
— Что прикажете подать?
— Всё, всё подавай! Всё, что есть, подавай! А, чего нет, то найди и тоже подай! Водки, вина! Чтобы напиться мне до беспамятства, чтобы отступила хандра от сердца!
По знаку трактирщика половые тотчас же начали собирать на стол.
— И музыки подай! — велел ширмач. — Цыган позови! Я цыган люблю! Я сам из цыган! Моя мать цыганкой была… Зови цыган! Всем заплачу! За всё заплачу!
И пошёл пир горой. Тот чисто русский не знающий меры и удержу разгул, чисто русское горькое веселье, веселье без радости, веселье не для радости, а для забвения, веселье, чтобы спрятать горе от других, но прежде — от себя. Увидите такую весёлость — не верьте ей. Это весёлость — уже от отчаяния крайнего, от горя безысходного, худшая, чем самые горькие слёзы, потому что безнадёжней, потому что только от безнадёжности окончательной над горем смеются, когда плакать уже нет слёз…
Ширмач сам не знал, отчего так горько ему. Никогда ещё так не грызла его хандра: даже, когда шёл он три года назад по Владимирской дороге, а кругом него такие же, как он, каторжане, в кандалы закованные, выли, страшно и горько, Милосердную. Он сидел за ломившимся от снеди столом в своей алой рубахе, но почти не ел, а лишь пил, занюхивая рукавом, горькую водку и смотрел, как веселились его подельники. А те пустились во все тяжкие: пробовали вина, жадно набрасывались на еду, щупали окруживших их пьяных трактирных девок, сажали их себе на колени, тискали грязными лапищами, а те хохотали… Мальчишка-убегало смотрел на всё это, разинув рот, почти с восторгом, хлебал вино и уплетал пирожные, заказанные специально для него. А маруха сидела рядом с ширмачом, положив огненно рыжую голову ему на плечо, гладила его большой смуглой рукой, прикрыв зелёные кошачьи глаза, и курила, держа мундштук в изящных пальчиках.
Конец ознакомительного фрагмента.
Этот рассказ надолго выбил меня из колеи… Прочтите до конца, не пожалейте времени. Возможно, он крепко и навсегда утвердит вас в мысли, что жить надо здесь и сейчас…
У мамы в серванте жил хрусталь. Салатницы, фруктовницы, селедочницы. Все громоздкое, непрактичное. И ещё фарфор. Красивый, с переливчатым рисунком цветов и бабочек.
Набор из 12 тарелок, чайных пар и блюд под горячее.
Мама покупала его еще в советские времена, и ходила куда-то ночью с номером 28 на руке. Она называла это: «Урвала». Когда у нас бывали гости, я стелила на стол кипенно белую скатерть. Скатерть просила нарядного фарфора.
— Мам, можно?
— Не надо, это для гостей.
— Так у нас же гости!
— Да какие это гости! Соседи да баб Полина…
Я поняла: чтобы фарфор вышел из серванта, надо, чтобы английская королева бросила Лондон и заглянула в спальный район Капотни, в гости к маме.
Раньше так было принято: купить и ждать, когда начнется настоящая жизнь. А та, которая уже сегодня — не считается. Что это за жизнь такая? Сплошное преодоление. Мало денег, мало радости, много проблем. Настоящая жизнь начнется потом.
Прямо раз — и начнется. И в этот день мы будем есть суп из хрустальной супницы и пить чай из фарфоровых чашек. Но не сегодня.
Когда мама заболела, она почти не выходила из дома. Передвигалась на инвалидной коляске, ходила с костылями, держась за руку сопровождающего.
— Отвези меня на рынок, — попросила мама однажды.
Последние годы одежду маме покупала я, и всегда угадывала. Хотя и не очень любила шоппинг для нее: у нас были разные вкусы. И то, что не нравилось мне — наверняка нравилось маме. Поэтому это был такой антишоппинг — надо было выбрать то, что никогда не купила бы себе — и именно эти обновки приводили маму в восторг.
— Мне белье надо новое, я похудела.
У мамы хорошая, но сложная фигура, небольшие бедра и большая грудь, подобрать белье на глаз невозможно. В итоге мы поехали в магазин. Он был в ТЦ, при входе, на первом этаже. От машины, припаркованной у входа, до магазина мы шли минут сорок. Мама с трудом переставляла больные ноги. Пришли. Выбрали. Примерили.
— Тут очень дорого и нельзя торговаться, — сказала мама. — Пойдем еще куда-то.
— Купи тут, я же плачу, — говорю я. — Это единственный магазин твоей шаговой доступности.
Мама поняла, что я права, не стала спорить. Выбрала белье.
— Сколько стоит?
— Не важно, — говорю я.
— Важно. Я должна знать.
Мама фанат контроля. Ей важно, что это она приняла решение о покупке.
— Пять тысяч, — говорит продавец.
— Пять тысяч за трусы?????
— Это комплект из новой коллекции.
— Да какая разница под одеждой!!!! — мама возмущена.
Я изо всех сил подмигиваю продавцу, показываю пантомиму. Мол, соври.
— Ой, — говорит девочка-продавец, глядя на меня. — Я лишний ноль добавила. Пятьсот рублей стоит комплект.
— То-то же! Ему конечно триста рублей красная цена, но мы просто устали… Может, скинете пару сотен?
— Мам, это магазин, — вмешиваюсь я. — Тут фиксированные цены. Это не рынок.
Я плачу с карты, чтобы мама не видела купюр. Тут же сминаю чек, чтобы лишний ноль не попал ей на глаза. Забираем покупки. Идем до машины.
— Хороший комплект. Нарядный. Я специально сказала, что не нравится, чтоб интерес не показывать. А вдруг бы скинули нам пару сотен. Никогда не показывай продавцу, что вещь тебе понравилась.
Иначе, ты на крючке.
— Хорошо, — говорю я.
— И всегда торгуйся. А вдруг скинут?
— Хорошо.
Я всю жизнь получаю советы, которые неприменимы в моем мире. Я называю их пейджеры. Вроде как они есть, но в век мобильных уже не надо.
Читать также: «Нужно копить деньги и все делать качественно” — это незыблемые родительские истины… позавчерашнего дня.
Однажды маме позвонили в дверь. Она долго-долго шла к двери. Но за дверью стоял терпеливый и улыбчивый молодой парень. Он продавал набор ножей. Мама его впустила, не задумываясь. Неходячая пенсионерка впустила в квартиру широкоплечего молодого мужика с ножами. Без комментариев. Парень рассказывал маме про сталь, про то, как нож может разрезать носовой платок, подкинутый вверх, на лету.
— А я без мужика живу, в доме никогда нет наточенных ножей, — пожаловалась мама.
Проявила интерес. Хотя сама учила не проявлять. Это было маленькое шоу. В жизни моей мамы было мало шоу. То есть много, но только в телевизоре. А тут — наяву. Парень не продавал ножи. Он продавал шоу. И продал. Парень объявил цену. Обычно этот набор стоит пять тысяч, но сегодня всего 2,5. И еще в подарок кулинарная книга. «Ну надо же! Еще и кулинарная книга!» — подумала мама, ни разу в жизни не готовившая по рецепту: она чувствовала продукт и знала, что и за чем надо добавлять в суп. Мама поняла: ножи надо брать. И взяла.
Пенсия у мамы — 9 тысяч. Если бы она жила одна, то хватало бы на коммуналку и хлеб с молоком. Без лекарств, без одежды, без нижнего белья. И без ножей. Но так как коммуналку, лекарства ,продукты и одежду оплачивала я, то мамина пенсия позволяла ей чувствовать себя независимой. На следующий день я приехала в гости. Мама стала хвастаться ножами. Рассказала про платок, который прям на лету можно разрезать. Зачем резать платки налету и вообще зачем резать платки? Я не понимала этой маркетинговой уловки, но да Бог с ними. Я знала, что ей впарили какой-то китайский ширпотреб в нарядном чемоданчике. Но молчала. Мама любит принимать решения и не любит, когда их осуждают.
— Так что же ты спрятала ножи, не положила на кухню?
— С ума сошла? Это на подарок кому-то. Мало ли в больницу загремлю, врачу какому. Или в Собесе, может, кого надо будет за путевку отблагодарить…
Опять на потом. Опять все лучшее — не себе. Кому-то. Кому-то более достойному, кто уже сегодня живет по-настоящему, не ждет.
Мне тоже генетически передался этот нелепый навык: не жить, а ждать. Моей дочке недавно подарили дорогущую куклу. На коробке написано «Принцесса». Кукла и правда в шикарном платье, с короной и волшебной палочкой. Дочке — полтора годика. Остальных своих кукол она возит за волосы по полу, носит за ноги, а любимого пупса как-то чуть не разогрела в микроволновке. Я спрятала новую куклу.
Потом как-нибудь, когда доделаем ремонт, дочка подрастет, и наступит настоящая жизнь, я отдам ей Принцессу. Не сегодня.
Но вернемся к маме и ножам. Когда мама заснула, я открыла чемоданчик и взяла первый попавшийся нож. Он был красивый, с голубой нарядной ручкой. Я достала из холодильника кусок твердого сыра, и попыталась отрезать кусочек. Нож остался в сыре, ручка у меня в руке. Такая голубая, нарядная.
— Это даже не пластмасса, — подумала я.
Вымыла нож, починила его, положила обратно в чемодан, закрыла и убрала. Маме ничего, конечно, не сказала. Потом пролистала кулинарную книгу. В ней были перепутаны страницы. Начало рецепта от сладкого пирога — конец от печеночного паштета. Бессовестные люди, обманывающие пенсионеров, как вы живете с такой совестью?
В декабре, перед Новым годом маме резко стало лучше, она повеселела, стала смеяться. Я вдохновилась ее смехом. На праздник я подарила ей красивую белую блузку с небольшим деликатным вырезом, призванную подчеркнуть ее большую грудь, с резным воротничком и аккуратными пуговками. Мне нравилась эта блузка.
— Спасибо, — сказала мама и убрала ее в шкаф.
— Наденешь ее на новый год?
— Нет, зачем? Заляпаю еще. Я потом, когда поеду куда-нибудь…
Маме она очевидно не понравилась. Она любила яркие цвета, кричащие расцветки. А может наоборот, очень понравилась. Она рассказывала, как в молодости ей хотелось наряжаться. Но ни одежды, ни денег на неё не было. Была одна белая блузка и много шарфиков. Она меняла шарфики, повязывая их каждый раз по-разному, и благодаря этому прослыла модницей на заводе. К той новогодней блузке я
тоже подарила шарфики. Я думала, что подарила маме немного молодости. Но она убрала молодость на потом.
В принципе, все её поколение так поступило. Отложило молодость на старость. На потом. Опять потом. Все лучшее на потом. И даже когда очевидно, что лучшее уже в прошлом, все равно — потом.
Синдром отложенной жизни.
Мама умерла внезапно. В начале января. В этот день мы собирались к ней всей семьей. И не успели. Я была оглушена. Растеряна. Никак не могла взять себя в руки. То плакала навзрыд. То была спокойна как танк. Я как бы не успевала осознавать, что происходит вокруг. Я поехала в морг. За свидетельством о смерти. При нем работало ритуальное агентство. Я безучастно тыкала пальцем в какие-то картинки с гробами, атласными подушечками, венками и прочим. Агент что-то складывал на калькуляторе.
— Какой размер у усопшей? — спросил меня агент.
— Пятидесятый. Точнее сверху пятьдесят, из-за большой груди, а снизу …- зачем-то подробно стала отвечать я.
— Это не важно. Вот такой набор одежды у нас есть для нее, в последний путь. Можно даже 52 взять, чтобы свободно ей было. Тут платье, тапочки, белье…
Я поняла, что это мой последний шоппинг для мамы. И заплакала.
— Не нравится ? — агент не правильно трактовал мои слезы: ведь я сидела собранная и спокойная еще минуту назад, а тут истерика. — Но в принципе, она же сверху будет накрыта вот таким атласным покрывалом с вышитой молитвой…
— Пусть будет, я беру.
Я оплатила покупки, которые пригодятся маме в день похорон, и поехала в её опустевший дом. Надо было найти ее записную книжку, и обзвонить друзей, пригласить на похороны и поминки.
Я вошла в квартиру и долга молча сидела в ее комнате. Слушала тишину. Мне звонил муж. Он волновался. Но я не могла говорить. Прямо ком в горле. Я полезла в сумку за телефоном, написать ему сообщение, и вдруг совершенно без причин открылась дверь шкафа. Мистика. Я подошла к нему. Там хранилось мамино постельное белье, полотенца, скатерти. Сверху лежал большой пакет с надписью «На смерть». Я открыла его, заглянула внутрь.
Там лежал мой подарок. Белая блузка на новый год. Белые тапочки, похожие на чешки. И комплект белья. Тот самый, за пять тысяч. Я увидела, что на лифчике сохранилась цена. То есть мама все равно узнала, что он стоил так дорого. И отложила его на потом. На лучший день её настоящей жизни. И вот он, видимо, наступил. Её лучший день. И началась другая жизнь…
Дай Бог, она настоящая.
Сейчас я допишу этот пост, умоюсь от слёз и распечатаю дочке Принцессу. Пусть она таскает её за волосы, испачкает платье, потеряет корону. Зато она успеет. Пожить настоящей жизнью уже сегодня.
Настоящая жизнь — та, в которой много радости. Только радость не надо ждать. Её надо создавать самим. Никаких синдромов отложенной жизни у моих детей не будет.
Потому что каждый день их настоящей жизни будет лучшим.
Давайте вместе этому учиться — жить сегодня.
Ольга Савельева
Источник: goodday.su
24.12.2022
Начало продолжение И вдруг повсюду зазвучала прекрасная музыка. Она обволакивала Алю, окутывала все ее существо, словно покрывалом, сотканным из тысячи…
23.12.2022
Сказка для тех, кто был когда-то детьми Начало здесь Бабушка заплакала горькими слезами, и Аля еле-еле успокоила ее. Старушка продолжила:…
22.12.2022
Сказка для тех, кто был когда-то детьми — Ну что, Котенок, не спится? Давай-ка, я укрою тебя потеплее одеялом и…
21.12.2022
Начало Подслушанный разговор не выходил у него из головы: — Что предпринять? Как исправить ту неловкость, что возникла между ним…
20.12.2022
Павел с Илоной умудрились разругаться вдрызг за неделю до их поездки на остров Крит. Путешествие должно было ознаменовать год их…
18.12.2022
Сегодня Елена еле разлепила глаза. Похоже, вечером она забыла закрыть шторы, вот один коварный лучик солнца прокрался и стал щекотать…
15.11.2022
– Девчонки, за нас! – прокричала тост позитивная Катя. – А за мужчин – не будем? – улыбнулась осторожно Юля….
08.11.2022
Люблю позднюю осень. Иногда она в своей прелести смело спорит с самою весною. В течение одного-единственного дня осень спешит продемонстрировать…
07.11.2022
Сегодня услышала фразу, которая буквально ошарашила меня и уж точно заставила задуматься. Произнес ее популярный юморист. И вроде говорил он…
05.11.2022
Начало здесь С этого момента всё закрутилось у нас само собой. Постоянные встречи, прогулки, смех и ночные разговоры. Я не…
Алексей Кудесин
Школа богатырей. Вольные люди
Отрок Любим сумел принять в себя земную тягу Несмеяны. Теперь он не абы кто, а богатырь. И не какой-нибудь, а сильномогучий, как тройка легендарных богатырей прошлого. Недаром же он владеет самым сильным из артефактов, оставленных легендарными богатырями, а именно булавой Ильи Муромца. Да и сила эта весьма кстати, ибо на восточных границах московского княжества собирается одержимая рать. Грядёт война, и Любиму в ней предстоит сыграть не последнюю роль.
Арка 0 – Отрок
Сказ 1 – Неподъёмная ноша
Хрусь! Хрусть! По стылой земле от ног Любима побежали трещинки. Двор пошёл неровными квадратами, словно лёд по весне. По ушам ударил хлопок, толстая рукоять булавы Ильи Муромца пропала, кулак сжался, внутри чувствовалось что-то твёрдое и колючее.
Любим недоуменно поднял руку. Куда пропало легендарное оружие? Опора ушла из-под ног, он ухнул вниз, как в прорубь. Счастливая улыбка ещё не успела сойти с губ, а в глазах уже плеснул ужас. Он тонул прямо в земле, как будто она превратилась в болотную жижу.
– В сторону! Фёдор, Полушка! Помогайте! Если упустим его…
Земля обступила Любима со всех сторон, распахнутые в ужасе глаза в последний раз зачерпнули лучи солнца. Сердце подскочило к горлу.
Голову пронзила острая боль, кто-то хапнул его за волосы и рванул вверх. Глаза вновь ощутили свет, грудь наполнилась воздухом.
– Держи! Держи его!
Он закашлялся и начал барахтаться, как одуревший от страха утопающий.
– Любим! Тише! Мы держим тебя!
Заставил себя успокоиться. Боль в голове исчезла, зато кто-то цапнул его за плечо. Под голову подсунули ладонь.
– Тягу! Подними вверх тягу! – крикнул прямо в ухо калика Олег. – Стоян учил вас это делать!
Любимка попытался сосредоточиться. Первый наставник и правда рассказывал тягателям об уменьшении веса собственного тела. И упоминал о случаях, когда земная тяга выходила из-под контроля богатыря настолько, что их переставала держать сыра земля. Но Любим не предполагал, что ему доведётся испытать это на себе.
– Вверх, парень! – прохрипело в другое ухо. Любимка не сразу узнал голос калики Фёдора, столько напряжения в нем было. – Если ты не подымешь её вверх, мы тебя не удержим!
Паника ударила в голову, гася проблески сосредоточенности. Он дёрнулся, забил руками. Вокруг раздалась ругань, крики. Рука под головой исчезла, зато ухватили за второе плечо.
Зачерпнул распахнутым ртом стылой земли, глотку забило, закашлялся так, что брызнули слезы. Паника навалилась такая же плотная, как сыра земля. В последний момент проблеском сознания уловил глаза. Огромные тёмные зрачки притянули его взгляд и начали размеренно пульсировать.
– Любим! – раздался спокойный голос прямо в голове. – Успокойся, Любим! От твоего спокойствия зависит спасение.
Голос рокотал, зрачки продолжали пульсировать, это наполнило Любима тишиной и покоем. Паника растворилась, вместо неё нахлынула обида.
– Но как же?! Я только что ходил! У Несмеянки не было с этим проблем! Отчего сыра земля отказывается меня держать?
– Все хорошо, Любим, – отвечал Полушка рокочущим голосом Харитона. – Представь, что ты лёгкий, как пушинка. Тебя тянет вверх! Тянет вверх!
Любим перестал махать руками и обмяк. Клещи на плечах сжались ещё сильнее и чуть приподняли его. Слышалось надсадное дыхание и скрежет зубов.
– Вверх! Земная тяга подымается вверх! Стоян учил тебя, ты умеешь это делать! – уверенно рокотал голос в голове.
– Я умею это делать… – замедленно повторил Любим, и тут же понял, что уже делает. Мысленно он обратился внутрь себя, туда, где давно привык ощущать тянущую пустоту. Сейчас там бурлил огромный котёл силы. И сколь бы бездонен он не был раньше, теперь этот котёл переполнен до краёв.
Сила. Чудовищно огромное количество силы. Очень тяжёлой, почти неподъёмной силы, которая вдавливает его тело в землю. А земля, даром что стылая, предательски расступается перед ним и не желает быть твёрдой, как раньше.
– Почему он тонет? Что с ним не так? – просипел у одного уха голос калики Олега.
– Слыхал, что Святогор под старость так же не мог ходить по земле, вынужден был жить в горах… – пропыхтел от другого уха калика Фёдор. – Поэтому и передал силу сыновьям…
– Так! Молодец! Ты нащупал… – продолжал Полушка почти ласково. – Теперь подымай её вверх! Подымай…
Голос писаря треснул и надломился. Пульсирующие зрачки пропали. Остался лишь надсадный крик. Но Любим уже успокоился. Коснувшись бурлящей силы, он приказал ей: «Вверх! Подымайся вверх!» И сделал то, как учил первый наставник Стоян.
Тело перетряхнуло страшное усилие. Неподъёмная тяжесть не желала поддаваться, на миг ощутил себя меж молотом и наковальней. Попытался настоять на своём. Вверх! Но ничего не менялось.
– Да! У тебя выходит! Молодец!
Извне пробились слова. Кто говорит? Полушка? Нет, уже калика Олег. Любимка недоуменно моргнул, сосредоточенность пропала, и он снова просел.
– Нет. Парень! Продолжай тянуться вверх! Не прекращай ни на миг!
Он снова надавил, и хотя на его внутренний взгляд ничего не менялось, богатыри явно в эти моменты испытывали облегчение.
– Хорошо! Не прекращай, – скомандовал калика Олег. – Ты должен все время это делать, пока мы что-нибудь не придумаем!
Все время! – ужаснулся Любимка. Страх едва не сбил настрой, но ужас вновь ухнуть в подземную бездну был сильнее. Прикусил губу и лишь сосредоточенно кивнул.
Следующие несколько минут показались Любиму адом. Он не мог расслабиться ни на миг. Отрешившись от всего, он тянул казавшуюся неподъёмной земную тягу вверх. Это отнимало кучу сил, и он старался не думать, что будет, когда они закончатся.
Калики и Полушка продолжали его удерживать.
– Камни. Тащите сюда самые широкие и крепкие камни! – командовал калика Олег. Тягатели прыснули в разные стороны. Лишь Несмеяна осталась на месте. Клоп помедлил было, но девушка отпустила его кивком.
Любимка улавливал их возню краешком сознания. Полушка отдавал команды, не отпуская отрока. Калики надсадно сопели с двух сторон, зубы скрежетали от напряжения. Периодически раздавались удары камня о камень.
– Пробуем! – скомандовал писарь. – Все идите сюда. Нам потребуется вся сила, которая есть…
Любим услыхал эти слова и едва не утратил сосредоточенность.
– Тише, тише парень, – тут же прошептал в ухо напряжённый голос калики Олега. – Без твоей помощи нам нечего и браться. Поднажми!
Потом его тащили всем скопом. Сам он прикусил губу до крови, стараясь облегчить им работу. Земная тяга по-прежнему оставалась неподъёмной, но в моменты особых его усилий, богатыри и тягатели выдыхали и ощутимо приподнимали его над землёй.
– Теперь нам нужно положить прямо в серёдку каменного ложа, – раздался голос писаря. Любимка рискнул и повернул голову. Тягатели собрали аккуратную площадку из массивных камней. Сделано это было в том месте, где неповреждённым остался замёрзший кусок выложенного булыжником двора.
– Любим, помоги нам! Потом сможешь отдохнуть…
Он кивнул и прикрыл глаза.
– Раскачиваем его. Взяли! Взяли! ВЗЯЛИ!
Любимка изо всех сил дёрнул земную тягу вверх. Вокруг него раздался единодушный полу крик полу выдох.
Граум! Двор отозвался, как гулкий барабан. Во многих домах что-то звонко рушилось, со стен падали камни. Постепенно все это затихло, осталось лишь тяжёлое дыхание нескольких человек.
– Уф, как тяжко… – пропыхтел Ярополк. Грудь его высоко вздымалась, но у парня никак не получалось отдышаться. Калики и писарь одинокого прикрыли глаза и замерли, словно прислушиваясь к себе. Используют земную тягу, чтобы унять усталость, мелькнула мысль.
Любим вытянулся посреди ложа из камней. Широкие и массивные камни цеплялись друг за друга, тягатели уложили их так, чтобы вес распределялся по широкой площади.
– Ну и тяжеленный же ты, парень, – с восторгом проговорил бронированный калика. – Кто бы мог подумать, что булава легендарного богатыря будет столь весить…
– Булава? – спохватился Олег. – Где она? Неужели упустили?
Он поглядел на то место, где «тонул» Любимка. Писарь встревоженно сверкнул очами, зрачки тут же дрогнули и он прислушался к внутренним мыслям.
– Разве ты не приметил? – Фёдор осклабился. – Булава Ильи способна уплотняться. Она может быть огромной, а может стать такой крохотной, что поместится в кулак…
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Вольные люди
«Раньше я удивлялся: как казаки живут, у них дом от дома далеко. А оказывается-то, так и надо жить – вольно. Сосед не бежит, не орет на тебя: твои курицы мои грядки топчут. Вольно! Для работы, для мышления…», — так говорил мне Василий Косачев из деревни с характерным названием Загибовка.
Дом Василия стоит на взгорье. Как часовой на посту. Возле дома родник, огород, запруда, на берегу которой пригорюнилась банька. В запруде плещется рыба. Зимой к дому подходят лоси. Остановятся на опушке и смотрят, втягивая нежными, бархатистыми ноздрями запах протопившейся печи, домашней скотины. Коровы, почуяв их, забеспокоятся в теплом хлеву, как беспокоятся домашние утки при виде летящей дикой стаи. Своих домашних уток Василий и Катерина перевели — очень уж прожорливы, без догляду весь огород потатарят. Завели гусей. Еще в хозяйстве Косачевых стадо кур, четыре коровы, десять телков, восемь поросят, восемнадцать овец. Коровы, овцы и поросята все лето пасутся прямо в лесу – на огромном участке, огороженном жердями. Разве что лось придет на свидание к коровам или кабан к свиньям. В саду против дома десятки ульев. Если теленок или поросенок для Косачевых – живая сберкнижка, продал и сразу что-то купил: мебель там, технику или из одежды что, овцы – шерсть, то мед – бартер. Василий на него выменивает все от запчастей до различных потребных в хозяйстве материалов.
Из-за покупок у Василия с Катериной нередко возникают споры. «Ему надо железо, а мне в дом что-то, вот и спорим», — говорит Катерина. В последнее время дом укрепил свои позиции. Оба его этажа оштукатурили, оклеили, вдоль стен протянули отопительные батареи, купили новую мебель, даже телевизор цветной, который, правда, по причине отсутствия электричества к моему приезду так ни разу и не зажег своего экрана.
Но пока чаще побеждало железо. На лужайке возле дома и во дворе полно всякой техники – трактора, прицепной инвентарь, самодельная плющилка, мельница, сварка.
Такой вольностью Василий с Катериной живут вот уже более десяти лет.
Сосед – это другой Василий, Фролов, дом которого едва виднеется за деревьями, был здесь первоселом. Косачев еще только подыскивал место для хуторского поселения («Когда колхоз стал разваливаться, думаю: зачем сидеть на лавочке и ждать, когда мне кто-то зарплату заплатит. Решил жить отдельно – своим умом, своими руками»), а Фролов уже рубил избу на месте бывшей своей деревни. Он тоже родом из Загибовки. Вот и заронил в душу своего тезки и земляка идею возродить родное пепелище. А тут еще Ельцин взбаламутил. Верховный Совет РСФСР в начале 90-х годов под его началом принял даже специальную программу по возрождению российской деревни и развитию агропромышленного комплекса России. Под эту программу выделялись по тому времени большие деньги. Вот два Василия, обговорив свои намерения с главой тогдашней районной администрации и заручившись его поддержкой, и включились в важную, как им казалось, государственную работу. Тем более, новые российские власти – как столичные, так и местные — обещали и льготное кредитование, и другую помощь, а главное брали на себя обязательство подвести к деревне электричество: старые-то столбы давно сгнили и попадали, а без электричества какое развитие?
Ельцин, как всегда обманул. Поманил и бросил. И местные чиновники отступились. И потому, когда мы познакомились, Василий Косачев был похож на часового, которого неразумные командиры поставили на пост и забыли.
И покинуть он этот пост не может. По причине ответственности перед собой, Отечеством, памятью, если хотите. Перед людьми, наконец, которые пошли за ним, и которые пока стоят в сторонке: кто, помахивая топориком, а кто и так, любопытства ради, выжидая, выйдет что у Косачева из его затеи или нет? Выйдет – будут ставить рядом свои избы, нет – поворотят назад собирать крохи от почти развалившегося колхоза.
Дома двух Василиев — Косачева да Фролова – и являют собой сегодня новую Загибовку. Поодаль стоит почти готовая изба родного брата Василия — Ивана Косачева: прорезай окна, ставь печь, заходи и живи, но медлит Иван. И все дело было в ребенке. Сами-то они с женой бездетные, но взяли на воспитание сына погибшего племянника, и вот Дениска, так звать мальчонку, пошел в школу. Как, скажите на милость, добираться малышу каждый день шесть верст до школы по бездорожью? Ладно, Василий с Катериной сами внука чуть не с рождения воспитывают, он их тоже папкой и мамкой кличет, и тоже которую зиму в школу ходит. Можно вскладчину купить лошадь и на ней возить ребятишек в Лып и обратно. Но как учить уроки при керосиновой лампе? Вот и идут у Ивана мысли враскоряку – средства-то воткнул в целинную стройку, а чего дальше с ней делать, не знает: и нести тяжело, и бросить жалко. Леша Русанов – у того уже и фундамент залит, и сруб готов, и банька сложена – в таком же раздумье. И Серега Косачев, однофамилец Василия и Ивана, взявший здесь землю для ведения крестьянского хозяйства, не торопится обрубать корни в недалеком селе Черновском, где пока живет его семья.
— Ведь не для баловства, не для телевизора, будь он не ладен. Мы не знаем, где поставить зерновой склад. А его в первую очередь ставить надо, тогда можно будет и зерном торговать. Потом – ферму, кузню. Я и лес выписывал не раз. Приедут из Сосновой, обнадежат: будет вам свет. Все и радешеньки, довольнешеньки. Хлоп, конец года – опять кукиш под нос. Мне уж верить перестали. А за это время сделали бы хорошее хозяйство. Семей шесть втянулись бы. Я один-то уж не скакал бы по полям-то. Работали бы все вместе… .
Косачев своим мужицким умом никак не может понять логики власти.
Вот приняли областную программу «Сельский дом». Мол, бери льготные кредиты и стройся, кто может. Василий узнал о ней случайно, на земском собрании, депутатом которого является. Кинулся, а уж он 276-й в очереди-то. А в первых рядах – дочери главы сельской администрации. И дальше свои да наши.
И так во всем. Затеяли в области – чтобы, значит, не зарастали пахотные земли лесом — выплачивать крестьянам за каждый поднятый целинный гектар по полторы тысячи рублей. Казалось бы, хорошее дело и для Василия очень даже выгодное. Но этот денежный дождь опять пролился не на его огород, а на голову тем, кто пришел позже и заключил договор на аренду земли в 2003 году. А Косачев арендует ее с 2001 года. И поднял за это время уже триста целинных гектаров. И ему, выходит, компенсаций не полагается. Даже спасибо не сказали.
Вот и со светом то же. У Василия целая папка официальных бумаг. За это время протянули провода в деревню Куртаны к горожанам, решившим в одночасье стать фермерами. Думали, это как новую книгу прочитать. Но ничего у них не вышло, и искусственно вскормленные фермеры, промотав кредиты, разбежались, а электрическую линию разворовали. Зажгли лампочку Ильича в деревне Луговой, где не только не закрепил, но и не проявил своего фермерского мастерства заезжий фотограф. Провели свет в деревню Миронята, где попробовал было бороздить просторы уральских полей отставной морской капитан, да сел на мель, и фермерское судно его вместе с электролинией было отдано на разграбление сухопутным пиратам. Что произвели они, эти временные хозяева земель? Какую такую пользу державе принесли? А никакой. Только в траты ввели. А к Василию при мне несколько человек на работу просились, отказал. И ведь мог бы взять. И вообще за это время пять-шесть рабочих мест создать. И обеспечивать продуктами – молоком, медом, овощами, мясом – детский сад, школу, профтехучилище, дом престарелых, больницу.
А в середине двухтысячных годов и вовсе стали отказывать Загибовке в свете, ссылаясь на отсутствие средств в районном бюджете.
— Я понимаю, что все развалено, но мы-то в этом не виноваты. Мы-то, наоборот, хотим создать что-то. А потом, дела жалко. Если я сюда молодежь не привлеку, лет через 10-15 и это все развалится, земля зарастет, и бездельников разведем еще больше, — горячится Василий. И, помолчав, добавляет. — Жену вот жалко…
Зимой, без света, Катя скучала — ни повязать, ни попрясть. Иной раз такая тоска накатит – все бросила бы и ушла в село к дочкам. Прежде она в колхозе учетчиком в конторе работала – всегда при народе была. А тут три года даже без радио жили. Телевизор только на Новый год у дочерей смотрели. Четыре года мужа практически дома не видела – то в поле с плугом, то в лесу с ружьем или пилой, то в районе-области с бумагами. Одна-одинешенька. Страха, правда, не было. А вот общения не хватало.
«Зимой до скандала чуть не доходило: уеду и все. А как дело к лету подошло – никуда не поеду. Мне здесь нравится. Все хорошо – ягоды, грибы рядышком. Магазин не нужен, хлеб сами печем. Только нет света. Ни холодильника, ни постирать, ни погладить. Пять мешков накоплю стирки – в Лып отвезу, там дети живут. Здесь выполоскаю, высушу, а гладить опять туда…».
От Нижнего Лыпа до Загибовки добирается пешком или на тракторе, зимой на лыжах. На лыжах Катя научилась бегать, как в детстве. Теперь на снегоходе ездит. Масло взбивает вручную. Пробовала нынче несколько банок с молоком ставить в кабину трактора, мол, пока Василий по корчевке целый день прыгает, масло и собьет, но эксперимент не удался, муж сам избился, а молоку хоть бы что. Василий мужик додельный, даром что ли без специального образования работал в колхозе механиком и даже главным инженером. Но добыть электричество подручными средствами не мог. Речке, даже поднятой плотиной, крутить турбину не по силам. Ветряк поставить – проекта нет. Купил переносную армейскую электростанцию, работающую на солярке, но дорого обходится та энергия. Включал ее только по необходимости – для стирки-глажки, да по большим праздникам. Долгими зимними вечерами сидели с лампой, а на дворе убирались с фонарями.
Жалко Василию жену, чувствует неизбывную вину перед нею.
— Куплю вот туристическую путевку и поплывем с Катериной будущим летом на теплоходе от Перми до Астрахани. Или до Москвы, — мечтает он.
— Не выдумывай, — кричит Катя из кухни. – Я воды боюсь.
— Нет, Катя, надо продых себе дать. Нельзя так-то. И так, как у загнанных лошадей, бока запали – свалимся. А еще взял бы я котомку с сухарями и ушел месяца на два побродить, посмотреть, как люди-то живут. Поговорить, подумать. Но нету личного-то времени. Иной раз час выкроишь на что, а потом коришь себя: сколько я дел-то за это время переделал бы, — и, вернувшись из заоблачных высот на грешную землю, вздыхает. – Охо-хо, зарастает все. А нашим бездельникам и техника в руки дана – променяли все на легкую жизнь…
Уезжая от Косачевых, я всю дорогу думал: кто же они такие, Василий и Катерина? Не вписываются они в привычные образы. Одни сейчас выживают. Другие наживаются. А они просто живут.
Вольно, как высказался сам Василий. Для работы, для мышления. Как и положено жить человеку на земле. Хоть и тяжело. Не их время. Наступит ли когда-нибудь их время?
В Москве нет-нет, и вспомню о них. Позвоню в сельсовет.
— Василий-то как?
— Пашет.
— А Катерина?
— Ничего, здорова.
Потом сообщили радостную весть – провели-таки электричество в Загибовку. Наступили все-таки и для тех мест иные времена. Да поздненько наступили-то. Даже те, кто уже поставил было новые срубы рядом с избами двух Василиев, не дождались, вернулись в обжитые места. А Косачев с Фроловым остались. Так что с карты Большесоснового района Пермской области деревня Загибовка уже не исчезнет.
Пермская область
Поздравляем Александра Васильевича Калинина, одного из ведущих российских журналистов, нашего постоянного автора, с 60-летием! Желаем здоровья и новых творческих успехов!
Специально для Столетия
Баба Маня жизнь прожила долгую, трудную. Девяносто восемь, почитай, исполнилось, когда на погост её понесли. Пятерых детей подняла, семнадцать внуков вынянчила, да правнуков с десяток. Все на её коленях пересидели до единого, ступени крыльца стёрты были добела от множества ног и ножек, что бегали и ступали по нему за все эти годы, всех принимала старая изба, которую ещё до войны поставил муж бабы Мани — Савелий Иваныч.
В сорок первом ушёл он на фронт да там и сгинул, пропал без вести в сорок третьем, где-то под Сталинградом, холодной суровою зимою. Баба Маня, тогда ещё просто Маня, вдовой осталась, с детьми мал-мала меньше. До последнего дня своей жизни, однако, ждала она своего Савоньку, не теряла надежды, что он жив, часто выходила к палисаднику и стояла, всматриваясь вдаль, за околицу — не спускается ли с пригорка знакомая фигура. Но не пришёл Савелий Иваныч, теперь уж там, чай, встретились.
Но не только мужа проводила на войну баба Маня, а и старшего сына своего — Витеньку. Ему об тот год, как война началась, восемнадцатый годок пошёл. В сорок втором ушёл добровольцем, а в сорок пятом встретил Победу в Берлине. Домой вернулся живым на радость матери. Ну а младшей Иринке тогда всего два годика исполнилось, последышем была у родителей. Мане под сорок уж было, как Ирка народилась.
Война шла по земле…Всяко бывало, и голодно, и холодно, и тоска душу съедала и неизвестность. Однако выстояли, все живы остались, окромя отца.
Когда пришла пора бабе Мане помирать, то ехать в город в больницу она категорически отказывалась.
— Сколь мне той жизни-то осталось? Сроду в больницах не бывала, дайте мне в родной избе Богу душу отдать.
Дети о ту пору сами уже стариками стали, внуки тоже в делах да заботах, ну и вызвалась за прабабкой доглядывать правнучка Мила. Больно уж она прабабушку свою любила, да и та её среди других правнуков выделяла, хоть и старалась не показывать того.
Приехала Мила, которой тогда девятнадцать исполнилось, в деревню, в бабыманин дом. Ну и остальная родня чем могла помогала, кто продуктов им привезёт, кто на выходных приедет с уборкой помочь. Так и дело пошло. Баба Маня не вставала, лежала на подушках строгая, задумчивая, ровно что тревожило её.
Подойдёт к ней Милочка, постоит, поглядит, спросит:
— Чего ты, бабуленька? Что тебе покоя не даёт? О чём всё думаешь?
— Да что, милая, я так… Жизнь вспоминаю.
— Ну вот что, давай-ка чаю пить.
Принесёт Мила чашки, варенье да печенья, столик подвинет ближе и сама тут же пристроится. Потечёт у них разговор задушевный, повеселеет бабушка, и Миле спокойно.
Но с каждым днём всё больше бабушка слабела, всё чаще молчала, да думала о чём-то, глядя в окно, за которым стоял старый колодец. Выкопал его тоже Савелий, муж её, тогда же, когда и избу поднимали. Теперь-то уж не пользовались им, вода в избе была нынче, все удобства. Но засыпать колодец не стали, на добрую память о прадедушке оставили.
И вот в один из весенних дней, когда приближался самый великий из праздников — День Победы, подозвала баба Маня правнучку к себе и рукой на стул указала, садись, мол. Присела Мила.
— Что ты, бабонька? Хочешь чего? Может кашки сварить?
Помотала баба Маня головой, не хочу, мол, слушай.
— Праздник скоро, — с придыханием начала баба Маня, — Ты знаешь, Мила, что для меня нет его важнее, других праздников я и не признаю, окромя него. Так вот, вчерась Савонька ко мне приходил. Да молчи, молчи, мне и так тяжело говорить-то, болит в груди, давит чего-то. Приходил молодой, такой каким на фронт уходил. Скоро, бает, увидимся, Манюша. Знать недолго мне осталось.
И вот что хочу я тебе поведать, Милочка, ты слушай внимательно. Никому в жизни я этой истории не рассказывала доселе. А теперь не могу молчать, не хочу я, Милочка, с собой эту тяжесть уносить. Не даёт она мне покоя. Вот как дело, значит, было…
У Савелия в лесу заимка была, охотился он там бывало, ну и избушка небольшая имелась. Как на войну я сына да мужа проводила, так и сама научилась на зайцев да на птиц силки ставить. Уходила в лес с утра, в избушке всё необходимое хранила для разделки, а на другой день проверять силки ходила.
И вот однажды прихожу я как обычно к избушке, захожу, и чую — есть кто-то там. Ой, испужалась я до чего! Может беглый какой, дезертир. Тогда были и такие. А то вдруг медведь, а у меня ничего с собой и нет. Нащупала я в углу избы лопату, выставила её вперёд себя да пошла тихонько в тот тёмный угол, где копошилось что-то.
Вижу, тёмное что-то, грязное, а оконце в избе махонькое, да и то света почти не пропускает, под самым потолком оно. Замахнулась я лопатой-то, и тут гляжу, а это человек. Ба, думаю, чуть не убила, а самой страшно, кто ж такой он. Может из наших партизан кто?
— Ты кто такой? — спрашиваю я у него.
Молчит.
— Кто такой, я тебе говорю? — а сама снова лопату подняла и замахнулась.
А он в угол зажался, голову руками прикрывает. Вижу, руки у него все чёрные, в крови что ли. И лицо не лучше.
— А ну, — говорю, — Вылазь на свет Божий.
Он, как сидел, так и пополз к выходу, а сам всё молчит. И вот вышли мы так за дверь и вижу я, Господи помилуй, да это ж никак немец? Откуда ему тут взяться? А молоденький сам, мальчишка совсем, волосы светлые, белые почти, как у нашего Витюши, глаза голубые, худой, раненый. Стою я так напротив него и одна мысль в голове:
— Прикончить его тут же, врага проклятого.
А у самой защемило что-то на сердце, не смогу. Годков-то ему и двадцати нет поди, ровно как и моему сыну, который тоже где-то воюет. Ой, Мила, ой, тяжко мне сделалось, в глазах потемнело. А этот вражина-то, значит, сидит, сил нет у него, чтобы встать, и твердит мне на своём варварском наречьи:
— Не убивайт, не убивайт, фрау!
И не смогла я, Мила, ничего ему сделать. Больше того скажу я тебе. Взяла я грех на душу — выхаживать его принялась. Ты понимаешь, а? Мои муж с сыном там на фронте врага бьют, а я тут в тылу выхаживаю его проклятого! А во мне тогда материнское сердце говорило, не могу я этого объяснить тебе, дочка, вот появятся у тебя детушки и может вспомнишь ты свою прабабку старую, дурную, и поймёшь…
Тайком стала я ему носить еды маленько, картошину, да молока кружку. Раны его перевязала. Наказала из избушки носу не казать. Приволокла соломы из дому да тулупчик старенький, ночи уже холодные совсем стояли, осень ведь. Благо ни у кого подозрений не вызвало, что в лес я хожу, я ведь и до того ходила на заимку.
А на душе-то кошки скребут, что я творю? Сдать надо мне его, пойти куда следует.
— Всё, — думаю с вечера, — Завтра же пойду к председательше Клавдии.
А утром встану и не могу, Милка. Не могу, ноги нейдут…
Дни шли, немец болел сильно, горячка была у него, раны гноились. Так я что удумала. В село соседнее пошла, там фельшерица была, выпросила у ей лекарство, мол, дочка вилами руку поранила, надо лечить. И ведь никто не проверил, не узнал истины. А я тому немцу лекарство унесла. Пока ходила эдак-то к нему, говорили мы с ним. Он по нашему сносно балакал, не знаю уж где научился.
Звали его Дитер. И рассказывал он про их хозяйство там, в Германии ихней, про мать с отцом, про младших братьев. Ведь всё как у нас у них. Зачем воевали?… Слушала я его и видела их поля, семью его, как будто вживую. И так мне мать его жалко стало. Ведь она тоже сына проводила, как и я, и не знает где-то он сейчас.
Может и мой Витенька сейчас вот так лежит где-то, раненый, немощный. Может и ему поможет кто-то, как я этому Дитеру помогаю. Ох, Мила, кабы кто узнал тогда, что я делала, так пошла бы я под расстрел. Вот какой грех на мне, доченька. Тряслась я что лист осиновый, а ноги сами шли на заимку.
И вот в один из дней в деревню к нам партизаны пришли. Вот тогда я по-настоящему испугалась. Задками, огородами, вышла я из деревни, да бегом на заимку, в избушку свою.
— Вот что, Дитер, — говорю я своему немцу, — Уходить тебе надо! Иначе и меня с детьми погубишь и сам погибнешь. Что могла, сделала я для тебя, уходи.
А он слабый ещё совсем, жар у его, сунула я ему с собой еды немного да и говорю:
— Сначала я уйду, а потом ты тихонько выходи и уходи, Дитер.
А он глядел на меня, глядел, а потом за пазуху полез. Я аж похолодела вся.
— Ну, — думаю, — Дура ты, Маня, дура, у него ведь оружие есть наверняка. Порешит он тебя сейчас.
А он из-за пазухи достал коробочку, навроде шкатулки махонькой и говорит:
— Смотри, фрау.
И мне показывает. Я ближе подошла, а там бумажка с адресом и фотография.
— Мама, — говорит он мне, и пальцем на женщину тычет, что на фото.
Потом сунул мне в руки эту коробочку и говорит:
— Адрес тут. Когда война закончится, напиши маме. Меня убьют. Не приду домой. А ты напиши, фрау. Мама знать будет.
Взяла я эту коробчонку, а сама думаю, куда деть её, а ну как найдут? Постояли мы с ним друг напротив друга, поглядели. А после, уж не знаю, как это получилось, само как-то вышло, подняла я руку и перекрестила его. А он заревел. Горько так заревел. Руку мою взял и ладонь поцеловал. Развернулась я и побежала оттуда. Бегу, сама ничего от слёз не вижу.
— Ах ты ж , — думаю, — Война проклятая, что ж ты гадина наделала?! Сколько жизней покалечила. Сыновья наши, мальчишки, убивать идут друг друга, вместо того, чтобы хлеб растить, жениться.
Тут слышу, хруст какой-то, ветки хрустят, за кустами мужики показались, и узнала я в них наших, тех, что в деревню пришли недавно.
— Что делать?
И я нож из кармана вытащила, да ногу себе и резанула. Тут и они подошли.
— Что тут делаешь? Чего ревёшь?
— Да на заимку ходила, силки проверяла, да вот в потёмках в избе наткнулась на железку, порезалась, больно уж очень.
— Так чего ты бежишь? Тут перевязать надобно, — говорит один из них и ближе подходит.
— Да я сама, сама, — отвечаю. С головы платок сняла да и перемотала ногу-то.
Ну и бегом от них в деревню. А они дальше, в лес пошли.
Мила слушала прабабушку, раскрыв рот, и забыв про время. Ей казалось, что смотрит она фильм, а не про жизнь настоящую слушает. Неужели всё это с её бабой Маней произошло?
— А дальше что, бабуля? Что с Дитером стало?
— Не знаю, дочка, может и ушёл, а может наши его тогда взяли. Он больно слабый был, вряд ли смог уйти. Да и я тогда выстрелы слышала, когда из леса-то на опушку вышла. Думаю, нет его в живых.
— А что же стало с той шкатулкой? Ты написала его матери?
— Нет, дочка, не написала. Времена тогда были страшные, боялась я. Ну а после, когда много лет прошло, порывалась всё, да думала, а надо ли прошлое бередить? Так и лежит эта шкатулка с тех пор.
— Так она цела? — подскочила Мила, — Я думала, ты уничтожила её.
— Цела, — ответила бабушка, — И спрятала я её на самом видном месте. Долго я думала куда мне её деть, а потом и вспомнила, как мне ещё отец мой говорил, мол хочешь что-то хорошо укрыть — положи на видное место. Вот у колодца я её и закопала ночью. Там много ног ходило, землю быстро утоптали, отполировали даже. А я до сих пор помню, где именно она лежит.
— А покажешь мне?
— Покажу.
В тот же день Мила принялась копать. Было это нелегко. Земля и вправду была отполирована и тверда, словно бетон. Но мало-помалу дело шло, и через какое-то время Мила с трепетом достала на свет , завёрнутую в тряпицу, небольшую деревянную коробочку. Ночью, когда бабушка уже спала, Мила сидела за столом и разглядывала тронутую временем, но всё же довольно хорошо сохранившуюся фотографию женщины средних лет и жёлтый сложенный кусочек бумаги с адресом.
Бабы Мани не стало десятого мая. Она встретила свой последний в жизни Праздник Победы и тихо отошла на заре следующего дня. Душа её теперь была спокойна, ведь она исповедала то, что томило её многие годы. Невыполненное обещание, данное врагу.
Мила нашла Дитера. Невероятно, но он был жив, и все эти годы он помнил фрау Марию, которая спасла ему жизнь. Жил он по тому же адресу, что был указан на клочке бумаги, отданной бабе Мане в том далёком сорок третьем. У него было четверо детей, два сына и две дочери, одну из дочерей он назвал Марией, в честь русской женщины. Милу пригласили в гости и она, немного посомневавшись, всё же поехала. Она увидела вживую и Дитера, и его детей, и внуков.
Теперь над их головами было мирное небо, они были не врагами, но сердца помнили то, что забыть нельзя, чтобы никогда больше не повторилось то, что было. Говорят, что воюют политики, а гибнут простые люди, наверное так оно и есть. Многое минуло с той поры, поросло травой, стало памятью. Наши Герои всегда будут живы в наших сердцах.
А жизнь идёт. И надо жить. И никогда не знаешь, где встретит тебя твоя судьба. Любовь не знает слова «война». Милу она встретила в доме Дитера. Спустя год она вышла замуж за его внука Ральфа. Вышло так, что тогда на лесной глухой заимке её прабабушка Мария решила судьбу своей правнучки..
«- Лена здесь не живет, ты зря потратил время на дорогу. Ты уж извини, но в дом я тебя не приглашу. А дочь мою ты оставь в покое, она скоро выходит замуж, и забыла всё, что было у вас с ней. Это всё в прошлом, ты и так много плохого ей сделал, не кажется ли тебе, что уже достаточно?! Займись своей жизнью, живи дальше, а Лену не тронь.»
Великолепный Петербург в картинах великолепной Бэгги Боем.
- Начало.
Глава 28. Окончание.
Остановившись у знакомого до боли резного заборчика в Луге, Миша вышел из машины. Он чувствовал себя почему-то сильно утомлённым, и физически, и морально. Устало вздохнув, он отворил невысокую калитку и быстро взбежал на крылечко, не давая себе времени передумать и отступить.
Решительно постучав в дверь, Миша замер, услышав шаги в доме. Сердце его бешено заколотилось в предвкушении встречи с Леной, дышать стало трудно, а в голове бешено прыгали мысли о том, что же нужно сказать, чтобы не быть изгнанным сразу же.
Дверь открылась, и на Мишу вопросительно и удивленно смотрела Любовь Ивановна:
— Миша? Не ожидала тебя увидеть. Что привело тебя сюда?
— Здравствуйте, Любовь Ивановна, — Миша немного растерялся, — Я хотел бы с Леной поговорить. Вы не волнуйтесь, я не скандалить приехал, не ругаться… просто скажу ей несколько слов, и всё.
Ему было трудно подобрать слова, казалось, что говорит он полнейшую ерунду, а смотреть в глаза бывшей тёще он и вовсе не мог. Мише казалось, что глаза Любови Ивановны смотрят на него с осуждением, которое обжигает его до самого нутра.
— Лена здесь не живет, ты зря потратил время на дорогу. Ты уж извини, но в дом я тебя не приглашу. А дочь мою ты оставь в покое, она скоро выходит замуж, и забыла всё, что было у вас с ней. Это всё в прошлом, ты и так много плохого ей сделал, не кажется ли тебе, что уже достаточно?! Займись своей жизнью, живи дальше, а Лену не тронь.
— Как замуж? За кого? – Миша, казалось, не услышал остальных слов, сказанных ему, — Где она живет сейчас?
— Ты меня слышишь? – повысив голос, строго воскликнула Любовь Ивановна, — Поезжай домой, и дорогу сюда забудь! Тебя дела Лены не касаются!
Миша сел на ступеньку деревянного крыльца и прислонился к перилам, в голове темнело, почему-то он почувствовал злость и обиду, на самого себя.
— Скажите, — хрипло спросил он вышедшую на крыльцо женщину, — Любовь Ивановна, прошу вас, скажите мне правду, Дима – мой сын? Ведь мой, правда?
Любовь Ивановна смотрела в Мишины глаза, умоляюще взирающие на неё со ступенек. Нет, как ни искала она в себе жалости к Мише, не находила её даже очень глубоко в своей душе, хотя всегда считала себя добрым и отзывчивым к чужому горю человеком.
Пожалеть сейчас Мишу означало одно – сломать всю будущую жизнь своей дочери, и своему внуку. И, возможно, даже Павлу, которого она уже считала членом семьи, за его отношение к Лене, и особенно – к Димке. Лгать грешно, это все знают… Но как тонка та грань, где тебе приходится сделать выбор…
— Нет, Димка не твой. И не терзай зря ни Лену, ни себя. Не сложилось у вас, оставь прошлое, иди в настоящее.
Любовь Ивановна ушла в дом, знакомо звякнул засов – столько раз Миша слышал этот звук раньше, когда приезжал сюда к Лене. А сейчас этот звук будто оборвал в нём ту тонкую ниточку, еще связывавшую его с прошлым. Как оказалось, со счастливым прошлым. А теперь всё… всё закончилось и ушло без возврата – Лена выходит замуж за отца своего ребенка, и Мише нет больше места в её жизни. И ему осталось только принять это.
И он принял, ведь выхода другого не было. Время потекло для него уныло и однообразно, хотя, честно сказать, развлечений хватало. За годы, прошедшие после того последнего разговора с матерью Лены, в жизни Миши много что происходило.
Он быстро поднялся по карьерной лестнице до довольно высокой должности, купил себе машину, ничуть не хуже, чем была у него раньше, оформил в ипотеку большую квартиру в престижном районе Северной Столицы. Снова дружил он с Костей Лисицким и был другом их семьи, стараясь изо всех сил быть хорошим другом и тем самым искупить прошлую тайную свою вину перед другом.
Миша стойко пережил период, когда его несколько раз вызывали в полицию по делу о краже из квартиры бывшей жены. Но вёл он себя спокойно и безразлично, сообщив следователю, что был в тот день на смене и вообще понятия не имеет, что за картины были в квартире бывшей жены, потому что живопись его совершенно не интересует. После он понял, что дело скорее всего закрыли, потому что больше никто ни его, ни его мать по этому поводу не беспокоил.
Элла же сама оказалась не лыком шита и сообщила полицейскому, который её опрашивал, что заинтересовавшую её картину она честно попросила у бывшей невестки, а когда та отказала – что поделать, её право – обиделась и забыла про картину, и про саму Лену.
Отношения матери и сына, без того не особенно тёплые и до всех этих событий, теперь и вовсе сошли на нет.
Обратите внимание: История одного человека.
Когда Миша переехал в новую свою квартиру, Элла тут же сдала бабушкину квартиру в аренду и уволилась с работы. Каждый жил сам по себе, не помня родства.
Вот только с девушками у Миши как-то не складывалось. Вроде бы и привлекал он противоположный пол, и несколько раз отношения даже заходили достаточно далеко, что девушка переезжала к Мише с вещами. Но вот только через пару-тройку месяцев очередная девушка без объяснения причин собирала свои вещи и вновь пустела Мишина шикарная жилплощадь. Миша уже и причину этого искать перестал, просто принимал всё, как должное.
Один раз правда они обсуждали это с Костей, после очередного поспешного бегства Мишиной подруги, со словами: «Дело не в тебе, ты замечательный, но… я так решила!»
— Ты знаешь, может ты в каждой из них Лену ищешь, сравнивать пытаешься с ней? Любая нормальная девушка это чувствует, а кому такое отношение понравится, — Костя всегда был искренним с другом и пытался помочь.
— Нет, Лену я забыл, всё это в прошлом. Давай не будем об этом, — Миша не хотел обсуждать это даже с лучшим другом.
На самом деле он врал. Первое время в каждой встречной рыжеволосой девушке он видел Лену и вздрагивал радостно, но это оказывалась не она. Странное дело, такой большой город, просто огромный… но так часто Миша встречал старых своих знакомых – то коллег с прошлой работы, то Наталью с дочкой, один раз даже Олесю встретил в магазине… А вот Лену за прошедшие два года он не встречал ни разу. А он очень этого хотел – чтобы свела их судьба снова, чтобы выпал счастливый случай и ему. Но судьбе было, наверное, не до Миши.
Весенним тёплым вечером ехал Миша в фитнес-клуб, забирать с занятий Марину. С этой девушкой они встречались уже три месяца, и Мише казалось, что он учёл все свои прошлые ошибки и иногда даже начал ощущать что-то, похожее на счастье, рядом с Мариной. Она была чем-то неуловимо похожа на Лену…
Остановившись на светофоре, Миша случайно взглянул на стоявшую в соседней полосе машину, и сердце его оборвалось в бездну. Он узнал бы из миллиона это лицо и рыжие локоны, собранные в узел. За рулём большой белой машины сидела Лена. Ошибки быть не могло, и Миша подумал – это он, тот случай которого он ждал. Нарушая все правила, сигналя всем, Миша открыл окно машины и просил пропустить его в нужный поток. Водители ругались, махали руками и обзывали его последними словами. Но всё же Миша вырулил на нужное направление, машина Лены маячила впереди, совсем недалеко, и Миша внимательно следил, чтобы не отстать.
Вскоре они въехали на большую стоянку возле одной из городских поликлиник. Машина Лены остановилась, и Миша припарковался неподалёку, собираясь во что бы то ни стало поговорить с ней. Внутри всё трепетало от предвкушения встречи, он закрыл глаза, выдохнул, и вышел из машины.
Фото автора
Лена открыла заднюю дверь своего автомобиля, и Миша увидел там детское кресло, из которого тут же выпрыгнул шустрый рыженький мальчуган лет примерно трёх. Миша остановился в нерешительности, он подумал, что Лена привезла ребенка в больницу по какому-то делу, и обрадовался – это был повод назвать их встречу случайной и предложить свою помощь.
— Мамочка, смотри, там папа! Папа идёт! – закричал мальчуган и указал рукой на высокого мужчину, который спускался по ступеням больничного корпуса и махал рукой.
— Не кричи так сильно, я вижу, что папа идет, — усмехнулась в ответ Лена.
Миша отступил назад так, что его не стало видно за небольшим микроавтобусом, а сам он видел всё… Лена улыбалась и махала рукой мужчине, и Миша увидел, что под рубашкой Лены виднеется округлившийся животик. Мир рухнул в его голове, потому что всё оказалось правдой – и этот рыжий мальчуган – не Мишин сын, и бывшая жена его счастлива, у неё семья, муж…. И она совершенно не помнит того, кто прячется теперь в тени и не сводит с них завистливого взгляда.
— Ну что, семейство, готовы? – мужчина подхватил на руки подбежавшего к нему малыша и поцеловал Лену, — Вот ваш папка и в отпуске! Предлагаю это отпраздновать! Пицца?
— Пицца, пицца! — закричал мальчишка звонким счастливым голоском.
Семья о чем-то еще говорила, мужчина устраивал малыша в детском кресле, Лена усаживалась на пассажирское сиденье, а Миша всё никак не мог заставить себя оторвать от них глаз.
Ему было невыносимо мучительно смотреть на чужое счастье, но в то же время не смотреть он не мог. Потому, что представлял сейчас себя на месте того мужчины, рядом с Леной.
Ведь всё так просто – это мог быть сейчас он сам, целовать Лену, погладив малыша внутри неё, пристёгивать что-то рассказывающего сына в детское кресло и ехать вместе с ними в пиццерию, праздновать предстоящий отпуск…
«Видимо, не судьба, — подумал Миша, — Не судьба мне быть счастливым».
Хотя, сам он прекрасно сейчас понимал, что судьба здесь в общем-то ни при чем. Всё разрушено его стараниями и его собственными руками.
Через месяц Миша сделал предложение Марине, но неожиданно получил отказ. Сам он этому не удивился, но уже то, что Марина всё ещё не собрала вещи и не ушла от него, вселяло в него надежду, что и он будет когда-нибудь счастлив.
Миша надеется. Кто знает, может быть, и ему наконец повезет.
От Автора:
Вот так закончился этот рассказ — надеждой. Надеждой на то, что человек в силах изменить свою жизнь, изменив себя. Только для этого нужно не изменять принципам, не жалеть себя, не паразитировать на любви другого человека к тебе.
«Не позволяй душе лениться!
Чтоб в ступе воду не толочь,
Душа обязана трудиться
И день и ночь, и день и ночь!» Н.А. Заболоцкий
Дорогой мой Читатель, добрый и справедливый! Благодарю тебя за то, что ты со мною!
Благодарю моих Читателей за поддержку сайта — сейчас она особенно необходима, за ваши эмоции, комментарии и приятное общение!
А новый рассказ — уже завтра!
Еще по теме здесь: Истории.
Источник: Питерская история. Глава 28. Окончание..
Итак. Грабитель напал на банк. Подумайте теперь об этом.
К вам оно, понятное дело, никакого отношения не имеет. Как и человек на мосту. Вы ведь нормальный порядочный человек, который не собирается грабить банк. Нормальные люди знают, что есть вещи, которые ни при каких обстоятельствах делать нельзя. Нельзя врать, воровать, убивать, кидать камни в птиц. Это все знают.
Разве что в лебедей, потому что они пассивно-агрессивные засранцы. Но в других птиц нельзя. И врать тоже нельзя. Впрочем… ну, иногда все-таки приходится врать. Когда, например, ребенок спрашивает тебя: «Откуда так вкусно пахнет? ТЫ ЕЛ КОНФЕТЫ?» Но уж воровать и убивать-то точно нельзя, уж это все знают.
А если это Гитлер? Если ты вернулся в прошлое на машине времени? Да, Гитлера убить можно. Иногда приходится убить одного человека, чтобы спасти жизнь миллионам и избежать мировой войны, это всем ясно. Но скольких людей надо спасти, чтобы получить право убить человека? Миллион? Сто пятьдесят? Двух? Или одного? Точного ответа на этот вопрос не существует.
Возьмем пример попроще. Можно ли воровать? Нет, нельзя. Это все знают. Но ведь можно украсть чье-то сердце, это так романтично. А можно украсть губную гармошку у парней, которые играют на вечеринках, потому что это акт гражданского мужества. Или можно украсть что-нибудь маленькое, если оно тебе необходимо. Ничего страшного. А что-то побольше можно украсть? И кто в таком случае решает, что считать большим, а что маленьким? А если уж необходимо украсть, то как определить меру необходимости? Если чувствуешь, что все-таки украсть необходимо и это никому не повредит, то можно ли, например, ограбить банк?
Нет, все-таки банки грабить нельзя. Тут вы, конечно, правы. Вот вы никогда не ограбите банк, у вас с этим грабителем нет ничего общего.
Разве что страх. Все мы когда-либо боялись, вот и наш грабитель тоже. Наверное, потому, что и у него были маленькие дети и соответственно время поупражняться. Возможно, у вас тоже есть дети и вы знаете, что родителей не покидает страх оттого, что вы не знаете и не можете всего на свете и не справляетесь с этой жизнью. В конце концов мы привыкаем к постоянным провалам, и всякий раз, когда все-таки отвечаем детским ожиданиям, мы оказываемся потрясены. Вполне вероятно, что некоторые дети об этом знают. Поэтому время от времени понемногу идут нам навстречу в самых странных ситуациях, чтобы вдохнуть новую жизнь в наши легкие. Чтобы мы не пошли ко дну.
Но вот грабитель вышел утром из дома с рисунком в кармане, на котором были изображены обезьяна, лягушка и лось, – причем грабитель об этом не знал. Рисунок ему в карман положила нарисовавшая его девочка, дочь грабителя. У нее была старшая сестра, с которой, по идее, они должны были постоянно сражаться, как принято у сестер, но им это было почти несвойственно. Младшей разрешалось играть в комнате старшей – та не возражала. У старшей были дорогие сердцу вещи, которые младшая не портила из вредности. Когда сестры были маленькими, родители шепотом говорили: «За что нам такое счастье?» И они были правы.
После развода, в те дни, когда девочки жили у одного из родителей, по утрам в машине они слушали новости. Один из родителей попал в новостные сводки, но тогда они еще не знали, что именно он стал грабителем.
В те дни, что девочки жили у грабителя, они все вместе ездили в школу на автобусе. Они обожали ездить на автобусе и по дороге придумывали небольшие истории про сидящих впереди пассажиров: «Вон тот наверняка пожарный», – предполагал родитель. «А вон тот – инопланетянин», – говорила младшая дочь. Когда очередь доходила до старшей, она ОЧЕНЬ ГРОМКО выдвигала свою версию: «А он, возможно, убийца в розыске, и в рюкзаке у него может оказаться чья-нибудь голова!» Тогда сидевшим рядом теткам становилось не по себе, но сестры от этого только пуще смеялись, а родителю приходилось делать перед тетками серьезное лицо – мол, ничего смешного.
Почти всегда они опаздывали и бежали через мост до остановки на другой стороне, а когда автобус останавливался, они с хохотом кричали: «Лось бежит! Подождите лося!» – потому что ноги у их родителя были невероятно длинными по сравнению с телом, и на бегу это выглядело очень забавно. Пока сестры не появились на свет, этого никто не замечал, ведь дети воспринимают пропорции иначе, чем взрослые, возможно, потому, что им приходится смотреть на нас снизу вверх, а это самый невыгодный ракурс. Поэтому у сообразительных маленьких троллей так хорошо получается нас подкалывать. Они видят все слабые места. И все же каждый раз прощают нам наши проступки.
Странная штука: каким бы родителем ты ни был – хоть грабителем, хоть кем угодно еще, дети любят тебя несмотря ни на что. Поразительно, что уже взрослыми люди продолжают слепо верить в то, что их родители – умнейшие, забавнейшие и бессмертные. Возможно, это заложено природой – до определенного возраста дети любят родителей безусловно и безрассудно лишь по одной причине – за то, что мы их родители.
Тут надо отдать должное природе – придумано неплохо.
Грабитель никогда не называл своих девочек их настоящими именами. Пока ты живешь один, ты не замечаешь этого: именно те, кто дал детям их имена, реже всех называют их по имени. Тем, кого мы любим, мы даем ласковые прозвища – любовь требует особенных слов, которые принадлежат только нам. Грабитель всегда называл своих девочек, сообразуясь со своими ощущениями от того, как они впервые дали о себе знать в мамином животе – соответственно шесть и восемь лет назад. Одна там словно прыгала, другая, казалось, карабкалась. Одна – лягушка. Другая – мартышка. И лось, готовый ради них на все что угодно. Даже если это совсем идиотская затея. Возможно, несмотря ни на что, здесь у вас с грабителем есть что-то общее. В вашей жизни, наверное, тоже есть тот, ради кого вы готовы побыть идиотом.
Но все же вы по-прежнему не готовы ограбить банк. Конечно же, нет.
Но, возможно, вы были когда-нибудь влюблены? Когда-то это случается со всеми. От любви все совершают дурацкие поступки. Например, женятся. Заводят детей, живут счастливой семейной жизнью. По крайней мере, делают вид, что счастливы. Возможно, жизнь у них не такая уж счастливая, но вполне приличная. Да, у них настоящий приличный брак. Не может же человек непрерывно быть счастлив. На это и времени нет. Главное – день продержаться. Возможно, такие дни выдавались и у вас. И возможно, вам пришлось пережить столько таких дней, что одним прекрасным утром вы оглянулись и вдруг поняли, как одиноки, и обнаружили, что человек, с которым вы жили все это время, давно уже свернул с вашей общей дороги. Возможно, вы обнаружили ложь. Так было с грабителем. Возможно, вам признались в измене. А может, и нет. Но в любом случае вы понимаете, что такие вещи способны перевернуть жизнь.
Особенно если это не разовая измена, а интрижка за вашей спиной. Вас не просто однажды предали, вас обманывали день за днем. Изменить можно нечаянно, увлекшись, а продолжительные отношения надо тщательно планировать. Это, наверное, самое мучительное – от множества улик, которых вы все это время не замечали. А добило бы вас отсутствие серьезной причины для подобной неверности. Вы бы еще поняли, что это произошло от одиночества и тоски, «потому что ты все время работаешь и у тебя никогда нет времени, чтобы побыть вместе». Но когда слышишь объяснение типа: «Вообще, если честно, у меня отношения с твоим шефом», то как от такого оправиться? Получается, что, работая сверхурочно, вы сами и разрушили свою семью. И вот, после всего этого вы приходите в понедельник на работу, а шеф вам: «Н-да, ситуация для всех нас крайне неловкая, поэтому… может быть… тебе проще уволиться?» В пятницу у вас была семья и работа, в воскресенье вы стали безработным бомжом. Что делать? Нанять адвоката? Подать в суд?
Нет.
В ответ грабителю сказали: «Только не надо закатывать сцен. Не создавай проблем. Ради детей!» Грабитель смирился. Чтобы не быть неудобным родителем, пришлось съехать с квартиры, уйти с работы, зажмуриться и прикусить губу. Ради детей. Возможно, на его месте вы поступили бы так же. Однажды Лягушка сказала, что слышала в автобусе, как один взрослый говорил: «Любовь – это боль», а Мартышка добавила, что, наверное, поэтому на рисунках у сердца острый кончик. Как после этого объяснить им, что такое развод? Как рассказать об измене? Как сделать так, чтобы они не превратились в маленьких циников? Ведь влюбленность – такая волшебная, романтичная, возвышенная вещь… но любовь и влюбленность – вещи разные. Правда же? Разве может быть иначе? Никто, черт побери, не сумеет оставаться влюбленным на протяжении долгих лет. Когда человек влюблен, он не думает ни о чем другом – забывает о друзьях, работе, еде. Если бы мы были влюблены непрерывно, то умерли бы с голоду. А любовь – это влюбленность… время от времени. А потом пауза. Проблема в том, что все относительно, счастье держится на ожидании, и к тому же теперь у нас есть интернет. Мир непрерывно задает нам вопросы: «Так уж ли безупречна твоя жизнь? Что? В самом деле? Все прекрасно? А то смотри, если что, все можно изменить!»
Правда в том, что, если бы люди действительно были так счастливы, как выглядят в соцсетях, они бы не проводили столько времени в интернете, потому что тот, кто по-настоящему счастлив, не тратит полдня на то, чтобы делать селфи для соцсетей. Каждый может возделывать свой аккаунт, если у него достаточно удобрения, и, если по ту сторону забора трава кажется зеленее, значит, там просто полно навоза. Но сегодня это не играет роли, потому что мы научились требовать, чтобы каждый день был совершенно особенным. Каждый.
И вдруг оказывается, что мы живем не вместе, а просто рядом друг с другом. Одному из нас на протяжении многих лет кажется, будто в семье у него все хорошо. Или, по крайней мере, не хуже, чем у остальных. Ну, или хотя бы вполне сносно. Но вдруг оказывается, что другому нужно гораздо больше; того, что есть, ему не хватает, чтобы и день продержаться. Один из нас ходит из дома на работу и с работы домой, и там, и там максимально выкладывается. И вдруг оказывается, что другой тем временем выкладывается вовсе не для него, а для его шефа.
«Любить друг друга, пока смерть не разлучит нас» – разве мы не давали такую клятву? Разве не это мы обещали друг другу? Может, память нас подводит? «Или пока одному из нас не наскучит» – возможно, мы произнесли и эти слова?
Теперь Мартышка и Лягушка живут с одним из родителей и шефом, а грабителю жить негде. Потому что квартира записана на имя одного из родителей и грабитель не хочет устраивать скандал. И создавать проблемы. Но не так-то просто найти жилье в той части города – как и в любой другой части города и вообще в каком-либо городе, – если у тебя нет работы и денег. Человек не встает в очередь на жилье, имея семью, детей и безбедное существование, потому что не ждет, что однажды после обеда все потеряет. Самое противное в разводе не то, что время, потраченное на другого за эти годы, летит в тартарары, а то, что все планы на будущее катятся к чертовой матери.
Забудьте о покупке квартиры, сказал банк, – кто даст кредит человеку, у которого нет денег? Кредиты выдают только тем, кому они, по сути, не нужны. А где человеку, позвольте спросить, жить? Снимите квартиру, сказал банк. Но чтобы снимать квартиру, не имея работы, нужно внести залоговый депозит за несколько месяцев вперед. Но депозит возвращают только тогда, когда собираешься съехать. Какая тогда от него польза.
Затем пришло письмо от адвоката. В нем говорилось, что другой родитель Лягушки и Мартышки подал заявление на право воспитывать детей единолично, поскольку «в сложившейся ситуации, когда второй опекун не имеет жилья и дохода, иной выход не представляется возможным».
Другой родитель прислал грабителю имейл, в котором было написано: «Забери свои вещи». Это, понятное дело, означало, что можно забрать те вещи, которые остались после ревизии, проведенной другим родителем и бывшим шефом, после того как они забрали себе все стоящее, а все ненужное оставили тебе. Вещи хранятся в подвале, и как мы поступим? Лучше прийти туда поздно вечером, чтобы не встречать соседей и не позориться. И тут вы понимаете, что вам некуда идти со всеми вашими вещами. Вам негде переночевать, а на улице становится холодно, и вы остаетесь на ночь в подвале.
В чужом отсеке, который забыл запереть сосед, стоял ящик со старыми одеялами. Под одеялами лежал забытый игрушечный пистолет, и вы засыпаете, сжимая его в руке, – вдруг ночью в подвал ворвется какой-нибудь чокнутый, тогда будет чем пригрозить. Вы плачете, понимая, что вы и есть тот самый чокнутый.
На следующее утро вы складываете одеяла обратно в ящик, а пистолет оставляете себе, ведь вы не знаете, где будете ночевать этой ночью, – возможно, он вам пригодится. Так проходит неделя. Возможно, вы не знаете, каково жить такой жизнью, но и в вашей жизни бывали моменты, когда, глядя в зеркало, вы думали: «Моя жизнь могла бы сложиться иначе». Это страшно. И вот однажды утром человек совершает отчаянный поступок. Нет, конечно, вы никогда на такое не пойдете, речь не о вас. Вы бы сверились с законом, узнали бы о своих правах, положились бы на адвоката и обратились бы в суд. А может, и нет. Может, вы не захотели бы устраивать скандал на глазах у своих дочерей, ведь вы не тот родитель, который хочет создать проблемы, вы придумали бы что-то получше; вот был бы у вас хотя бы один маленький шанс, уж вы бы нашли способ все исправить и сделать так, чтобы все были счастливы.
И вот на горизонте маячит маленькая квартирка, прямо рядом с домом, где живут Лягушка и Мартышка, возле моста; квартирку можно снять через третьи или четвертые руки за шесть пятьсот в месяц, и вы думаете: «Мне бы выдержать хотя бы один месяц, за это время можно и работу найти, а если мне будет, где жить, тогда они не заберут у меня детей». Вы выгребаете оставшиеся крохи со счета, продаете все, что у вас есть, вам хватает, чтобы протянуть один месяц, и тридцать ночей кряду лежите и думаете, как бы наскрести на следующий месяц. Ничего не выходит.
Можно обратиться в муниципальное управление, это вполне логично. Но стоя перед дверью кабинета, вы вспомните собственную маму и то чувство, когда сидишь на казенной банкетке с бумажным номерком в руках, а внутри все сжимается при мысли о том, на какую ложь способен ребенок ради родителей. И сердце не позволит вам перешагнуть порог. Самый идиотский предрассудок тех, у кого есть все, по поводу тех, у кого нет ничего, состоит в том, что гордость якобы мешает последним просить о помощи. Чаще дело не в ней.
Пьяницы и наркоманы отменные вруны, но до своих детей им далеко. Их дочерям и сыновьям приходится то и дело как-то выкручиваться, выдумывать что-то правдоподобное и не слишком невероятное, прибегать к обыденному вранью, которое никто не станет проверять. Дети пьяниц и наркоманов никогда не станут говорить, что тетрадку с домашним заданием погрызла собака, – они скажут, что забыли дома рюкзак. Мама не пришла на родительское собрание не потому, что ее атаковали ниндзя, а потому, что задержалась на работе. Где она работает – не помню. Она заместитель. Старается изо всех сил, чтобы заработать на жизнь, вы ведь понимаете, папа от нас ушел. Дети знают, что надо сказать, чтобы не задавали лишних вопросов. Они знают, что тети из муниципалитета могут забрать их у мамы, если узнают, что она спалила предыдущую квартиру, потому что заснула с горящей сигаретой, или что она украла рождественский окорок в супермаркете. Поэтому, когда ее задерживает охранник, дети говорят: «Это я». Из-за ребенка полицию никто вызывать не будет, тем более на Рождество. Можно спокойно уйти домой со своей мамой, голодным, зато не одиноким.
Если вы когда-то были таким ребенком, то, когда у вас родились свои дети, вы никогда не позволите им пережить подобное. Ни при каких обстоятельствах им не понадобится лгать – это вы себе пообещаете. Поэтому вы не идете в муниципальное управление, ведь вас могут разлучить с вашими девочками. Вы соглашаетесь на развод и отказываетесь от борьбы за работу и квартиру, потому что не хотите, чтобы родители девочек воевали. Вы пытаетесь все устроить самостоятельно, и наконец вам выпадает удача: наперекор судьбе вы находите работу. Не то чтобы позволяющую жить, но выжить – да, хотя бы недолго. Это все, что вам требовалось, – один маленький шанс. Но тут оказывается, что первая зарплата выплачивается с задержкой в месяц – после того, как вы проработаете два месяца, и как назло именно в первый месяц вам совершенно необходимы эти деньги.
Вы идете в банк и умоляете дать вам кредит, чтобы дотянуть до первой зарплаты, но банк говорит, что так дело не пойдет, потому что работа у вас временная. Вас могут уволить в любой момент. Как тогда они получат обратно свои деньги? Ведь у вас ничего нет за душой! Вы пытаетесь объяснить, что, если бы деньги у вас были, вам был бы не нужен кредит, но банк не видит в этом никакой логики.
И что же вы делаете? Продолжаете бороться. Надеетесь, что все получится. Вскоре приходит новое письмо от адвоката. Вы не знаете, что делать, не знаете, куда обратиться, вы просто не хотите скандала. Подбегаете по утрам к автобусу в надежде, что девочки ничего не замечают, но это не так. Вы видите по их глазам, что они готовы торговать на улице рождественскими газетами и журналами, чтобы добыть для вас денег. Вы отвозите их в школу, открываете калитку, садитесь на бордюр и плачете, думая: «Лучше бы они меня не любили».
Всю свою жизнь вы говорили себе, что сами со всем справитесь. Вы никогда не будете человеком с проблемами. Не будете просить о помощи. И вот наступает сочельник, вы в отчаянии, потому что девочки будут встречать Новый год у вас. За день до Нового года вы кладете последнее письмо от адвоката, в котором говорится, что у вас заберут детей, в карман, а там уже лежит письмо от арендодателя, который обещает вышвырнуть вас из квартиры, если вы сегодня же не заплатите. Этого достаточно, чтобы окончательно выбить вас из колеи. И вот вам в голову приходит по-настоящему плохая идея. Вы смотрите на игрушечный пистолет, который похож на настоящий. Берете черную шапку, проделываете в ней дырки и натягиваете на голову, идете в банк, который отказал вам в кредите, потому что у вас не было денег, и собираетесь попросить у них шесть тысяч пятьсот крон на оплату квартиры. Как только вы получите зарплату, вы вернетесь в банк и отдадите эти деньги. «И как же вы собираетесь это сделать?» – спросит вас законопослушный человек. Но… н-да… так далеко вы пока не загадывали. Возможно, вы снова натянете черную шапку, возьмете игрушечный пистолет и заставите их взять деньги обратно. Вам нужно протянуть всего какой-то месяц. Один маленький шанс, чтобы решить все проблемы.
Но вот выясняется, что этот проклятый игрушечный пистолет, который выглядит как настоящий, и в самом деле настоящий. На лестнице у вас из кармана вылетает рисунок с лягушкой, мартышкой и лосем, а в квартире этажом выше ковер пропитался кровью.
Ваша жизнь могла бы сложиться иначе.
Проснувшись от тихого стука в окно, я открыла глаза и увидела букет красивых ромашек.
— Андрюша, ты сумасшедший? Сейчас отца моего разбудишь! — прошептала я, улыбнувшись от счастья.
— Катюша, пойдём на речку, искупаемся. Вода сейчас чистая и теплая, как парное молоко, — тихо сказал Андрей.
— Ладно, жди меня на нашем месте, я скоро!
Быстренько одевшись, я выбежала из дома.
— Катерина, ты куда собралась с самого утра? — строго спросил мой отец.
— Пойду искупаюсь на речку, пока солнце сильно не палит.
— Только недолго! Дома работы много, а тебе лишь бы гулять! — сказал отец.
***
С Андреем, мы уже полгода встречались. Нам приходилось прятаться от людей, потому что мой отец был против того, чтобы я общалась с ним.
У нас в деревне, семью Андрея, считали пропащей. Его отец, уже 12 лет находился в колонии, а мать беспробудно пила. Поначалу я пыталась объяснить отцу, что Андрей не виновен в том, что у него такие родители. Ведь сам парень, был добрым и хорошим человеком.
Папа даже не стал меня слушать. Он считал, что я глупая и совсем не разбираюсь в людях.
— Я вижу, толку с тебя не будет. Ты такая же недалекая как и твоя мать. Ничего, я сам найду для тебя муж.
Мама молча терпела обиду, ведь она не смела перечить отцу.
— Дочка, не спорь с ним. Это бесполезно, только хуже будет, — говорила моя мать.
***
— Я не надолго, отец сказал, что у нас много работы, — произнесла я, обнимая любимого.
— Катя, давай сбежим отсюда. Ведь тебе никогда не позволят выйти замуж за меня.
— Андрюша, это плохая идея. Куда мы сбежим? У нас даже денег нет, как мы будем жить?
Оглянувшись назад, я вскрикнула от неожиданности и перепугу. Не далеко от нас стоял мой отец, и наблюдал за нами.
— Я так и знал! Быстро домой, больше ты не выйдешь со двора! — крикнул отец.
— Дядя Витя, почему вы так ненавидите меня? Ведь я ничего плохого не сделал вам! Мы любим друг друга и хотим быть вместе, — сказал Андрей.
— Андрей, ты и в правду считаешь, что моя семья может породниться с твоей? — засмеялся отец. — Найди себе ровню, а к моей дочери не смей подходить — иначе, сильно пожалеешь.
Дома у меня был скандал. Папа запретил мне выходить одной со двора, и сказал, что будет искать мне мужа. Мне не пришлось долго ждать его обещания, уже через неделю, он приказал мне готовится к встрече со сватами..
— Бедная моя девочка! Хоть бы у тебя была судьба получше моей, — плакала моя мать.
— Мама, кого он нашел мне? Ты видела моего жениха?
— Нет, дочка. Но отец сказал, что парень серьезный и богатый, живет в соседней деревне.
Увидев своего жениха, я чуть не лишилась чувств.
Он был старше меня лет на пятнадцать, лысый и с большим пузом. К тому же, как выяснилось позже, Владимир был вдовцом и воспитывал двоих сыновей.
Ночью, я плакала и не могла уснуть. Я была в отчаянии, и пожалела, что не сбежала с Андрюшей. На рассвете, я услышала, как кто-то тихонько постучал в моё окно. Я поняла, что это Андрей.
— Катюша, милая, ты плакала? Я видел, что к тебе сваты, приезжали. Катенька, я не смогу без тебя. Давай сбежим, я продал свой мотоцикл, деньги у нас будут на первое время, а потом я заработаю.
— Андрей, я согласна на всё! Ты прав, мы молодые и здоровые люди, устроимся как нибудь.
— Вот и отлично, я приду завтра в это же время. Ты собери необходимые вещи и жди меня, — сказал парень, и поцеловал меня.
Я очень обрадовалась и целый день находилась в, приподнятом настроении.
— Катерина, с чего это ты весёлая такая? — спросил отец с подозрением.
— А что же мне делать? Плакать все время? Мнк, надоело уже. Может, этот Владимир не такой и плохой, как мне показалось.
— Ладно, иди к себе! — скомандовал папа.
В ту ночь, я не спала. Дождавшись, когда в доме стихнет, я собрала немного вещей и стала ждать Андрея. Настало утро, а он так и не пришел. Сев на кровать, я горько заплакала. Неожиданно, распахнулась дверь, на пороге стоял мой отец.
— Не жди его, не придет больше твой Андрей! Собирайся, ты сегодня, переезжаешь к своему будущему мужу!
Через две недели, мы расписались с Владимиром. У меня не было свадьбы и красивого наряда, о котором я так мечтала. Мой муж, посчитал это ненужной растратой денег.
Долгие годы, я жила как рабыня. Сыновья моего мужа, открыто ненавидели меня, да и Владимир, относился ко мне как к прислуге. Я родила дочь, Олечку, и надеялась, что мой муж поменяет ко мне отношение, но чуда не произошло, он по прежнему обижал меня.
Я работала с утра до поздней ночи. Всё держалось на мне: огород, большое хозяйство, дом и кухня. Мой муж, не жалел меня и никогда не помогал. Через 15 лет, я стала вдовой. Мои пасынки, продолжали эксплуатировать меня и издевались над Ольгой.
Через полгода, я заболела и слегла на долго. Моим пасынкам это не понравилось.
— Катерина, ты чего лежишь днями? Думаешь, если отца нет, то можно не работать теперь? — спросил меня старший сын Владимира.
— Мишка, ты не видишь, что мама больная? Чего пристал к ней? — вступилась за меня дочь.
— Не вижу! Притворяется она! И вообще, проваливайте из нашего дома, достали вы нас уже! — кричал Миша.
— И уйдем! Вот поправится мама немного, и сразу уйдем от вас, — кричала Оля.
— У нас здесь не лазарет! Проваливайте прямо сейчас!
Еле поднявшись с кровати, мы с дочкой собрали свои нехитрые пожитки и ушли. Я еле передвигалась, но всё равно была рада, что избавилась от этого ярма. Отца моего уже не было, и дома нас встретила моя старенькая и больная мать.
— Правильно сделали, что ушли. Давно нужно было это сделать. Нечего вам батрачить на этих лодырей, — сказала моя мать.
— Мама, а как Андрей? У него наверное семья, дети?
— Не знаю, Катюша. Слышала, что он уехал на заработки лет 10 назад.
— Он тогда предал меня, мы ведь бежать с ним хотели…
— Нет, он не предавал тебя. Виктор подслушал ваш разговор, и не дал Андрею забрать тебя. Отец твой раскаялся на старости, он понял, что сломал тебе жизнь, хотел даже прощение попросить, да не успел, — заплакала мать.
Я сидела на крыльце родного дома и наслаждалась свободой.
— Здравствуй, Катюша!
Я вздрогнула, услышав знакомый голос. Оглянувшись, я увидела Андрея, он стоял у калитки с букетом ромашек.
— Андрюша, здравствуй! Ты совсем не изменился, только возмужал немного! — я улыбнулась, и подошла к любимому человеку.
— Проходи, я тебя чаем напою, — сказала я.
Всю ночь, мы сидели во дворе и разговаривали.
— Несправедливо жизнь обошлась с нами, очень жаль, что мы не смогли бежать тогда, — произнесла я. — Андрей, почему ты не женился? Ведь ты, красивый, видный мужчина.
— Катя, ты же знаешь, что я однолюб. Если честно, я знал, что ты рано или поздно вернешься. Вот и дождался, — улыбнулся мужчина.
— Да, только молодость нашу уже не вернуть…
— Катюша, о чём ты, говоришь? Тебе всего 33 года, я всего лишь на год старше тебя! Какие наши годы?! — Андрей улыбнулся и обнял меня.
— Теперь, ты выйдешь за меня замуж? Я времени не терял зря, и сейчас, завидный жених. Пока тебя не было, я построил для нас двухэтажный дом, и открыл небольшую пилораму.
— Выйду конечно! Кто же откажется от жениха с таким приданым? — засмеялась я.
Вскоре мы поженились с Андреем. В этот раз, у меня было красивое белое платье, нашу свадьбу, мы, отмечали с размахом, в ресторане.
Только сейчас, я, поняла, что значит быть любимой женщиной. Андрюша жалел меня и оберегал. Через два года, у нас родился сын. Я считаю, что заслужила своё счастье, пройдя много унижений и страданий.
Буду очень рада, если подпишитесь на мой канал!